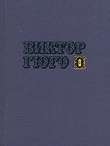Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
Почтальон погнал еще резвее.
Юлия.Тот садовый домик на холме вам известен; отсюда на него такой же красивый вид, как из него – на окрестности. А возле этого дерева мы остановимся. Теперь мы отражаемся в большом зеркале, они там нас отлично видят, а мы себя рассмотреть не можем. – Подъезжай туда! – Только что, если не ошибаюсь, в этом зеркале отражалась некая пара, весьма довольная своей близостью.
Люцидор в досаде ничего не ответил, некоторое время они ехали молча. Карета катилась очень быстро.
– Отсюда, – сказала Юлия, – начинается плохая дорога, когда-нибудь и вы сможете сделать тут доброе дело. Прежде чем спускаться, поглядите вниз еще раз: вон там надо всеми деревьями поднимается верхушка маменькина бука. – Она обратилась к кучеру: – Поезжай вниз плохой дорогой, а мы пойдем пешей тропой через долину и будем на той стороне раньше тебя. – Выходя, она воскликнула: – Признайтесь-ка, этот Вечный Жид, этот непоседливый Антон Рейзер умеет и сам путешествовать с удобствами, и о спутниках позаботиться: право, эта карета и красива и удобна.
Она уже сбежала вниз по склону; Люцидор задумчиво пошел вслед и нашел ее на скамейке в красивом местечке, излюбленном Люциндой. Юлия пригласила его сесть рядом.
Юлия.Вот мы и сидим здесь, чужие друг другу, – так и должно было стать. Ртутный шарик ничуть вам не подходит. Куда там полюбить такое созданье, – вам впору было его возненавидеть.
Люцидор удивлялся все больше.
Юлия.Зато Люцинда! Если есть такое воплощение всех совершенств, то куда уж хорошенькой сестрице с нею равняться! Но я вижу, вам не терпится спросить, кто осведомил нас обо всем так точно?
Люцидор.Тут кроется предательство!
Юлия.Ну конечно, в дело замешан предатель.
Люцидор.Назовите его.
Юлия.Сейчас он будет разоблачен. Это вы сами! У вас есть привычка, – не знаю, хорошая или дурная, – разговаривать с самим собой; я хочу от лица всего семейства признаться, что все мы по очереди вас подслушивали.
Люцидор (вскакивая).Вот искреннее радушие – устраивать приезжим такие ловушки!
Юлия.Никаких ловушек. У нас не было умысла подслушивать ни вас, ни любого из гостей. Вы знаете, ваша кровать стоит в углублении, за стеною есть такая же ниша, обыкновенно она служит чуланом. Несколько дней назад мы заставили нашего старичка ночевать там, – отдаленность его скита нас тревожила. А вы в первый же вечер пустились читать ваш страстный монолог, содержанье которого старик подробно изложил нам наутро.
Люцидор, не имея охоты прерывать ее, зашагал прочь.
Юлия (вставая и следуя за ним).Как вы услужили нам этим объяснением! Не стану скрывать от вас: хотя вы сами и не были мне неприятны, но ожидающая меня участь вовсе не казалась мне желанной. Стать госпожой председательшей, – какой ужас! Быть женою честного, дельного чиновника, который должен вершить над людьми правосудие – и не способен сквозь правосудие пробиться к справедливости, не может быть справедлив ни к выше-, ни к нижестоящим, ни даже к самому себе. Мне известно, сколько натерпелась матушка от отцовской неподкупности и непоколебимости. Потом, – но, увы, только после ее смерти, – нрав его немного смягчился, он как будто обрел себя в человеческом мире и стал равняться по нему, тогда как прежде напрасно с ним боролся.
Люцидор (останавливается, весьма недовольный случившимся, негодуя на столь легкомысленное с ним обхождение).Шутка на один вечер, – ну ладно! Но по целым дням и ночам бессовестно мистифицировать ничего не подозревающего гостя, – это непростительно!
Юлия.Мы все виноваты равно, мы все вас подслушивали, но я одна принимаю кару за эту вину.
Люцидор.Все! Тем более это непростительно! Как же вы могли без стыда глядеть на меня днем, а ночью так постыдно и недопустимо обманывать? Но теперь-то я вижу: все ваши дневные затеи только на то и были рассчитаны, чтобы вернее меня поймать. Вот славное семейство! А что же ваш батюшка – он ведь так привержен справедливости? А Люцинда?
Юлия.А Люцинда! Что за тон! Вы, верно, хотели сказать, что вам больно думать о Люцинде плохо, неприятно ставить Люцинду на одну доску с нами?
Люцидор.Люцинду я не понимаю.
Юлия.Вы хотите сказать: эта чистая, благородная душа, это тихое, кроткое создание, этот образец женщины, – сама доброта, сама благожелательность, – и вдруг связалась с такой легкомысленной компанией: с егозливой сестрицей, с избалованным юнцом, с какими-то таинственными личностями. Вот что непонятно.
Люцидор.Поистине непонятно.
Юлия.Так попробуйте понять! У Люцинды, как у всех нас, были связаны руки. Если бы вы могли разглядеть ее смущение, заметить, как она едва удержалась, чтобы не выдать вам все, – вы полюбили бы ее вдвое и втрое сильнее, не будь истинная любовь сама по себе десятикратно, стократно сильна. И еще я уверяю вас: под конец шутка стала надоедать нам самим.
Люцидор.Так почему же вы ее не прекратили?
Юлия.Это-то я и собираюсь вам объяснить. Когда отец узнал о первом вашем монологе и к тому же заметил, что его дети отнюдь не против такого обмена, он тотчас же решил отправиться к вашему батюшке. Важность начатого дела тревожила его: ведь только отец чувствует ту меру почтения, какая подобает отцу. «Он должен знать все заранее, – говорил мой папенька, – я не хочу, чтобы потом, когда мы все сговоримся, ему пришлось соглашаться, скрепя сердце и досадуя. Я хорошо его знаю, мне известно, как он упорен в своих замыслах, привязанностях и намерениях, потому-то я и беспокоюсь. Все эти карты и перспективы городов так прочно связались в его мыслях с Юлией, что он задумал разместить свое собрание у нас, если в один прекрасный день молодая чета поселится здесь и не сможет так легко переезжать с места на место; сам он рассчитывает проводить тут все каникулы и вообще преисполнен самых добрых и отрадных помыслов. Он должен заранее узнать, какую шутку сыграла с нами природа, покуда ничего еще не стало ясно, ничего не решено». Затем он торжественно взял с нас присягу следить за вами и, что бы ни случилось, удержать вас здесь. Почему он задержался возвратом, сколько искусства, труда и упорства потребовалось на то, чтобы получить от вашего батюшки согласие, – пусть он расскажет вам сам. Довольно сказать, что дело сделано и Люцинду решили отдать за вас.
Люцидор и Юлия, не прерывая разговора, быстро удалялись от того места, где присели вначале; то останавливаясь, то бредя дальше, они лугами добрались до возвышенности, где проходила еще одна тщательно проложенная дорога. Скоро подъехал и возок. Юлия обратила внимание соседа на необычайное зрелище: все снаряды и механизмы – гордость веселого братца – были приведены в движение, колесо возносило вверх и опускало вниз множество людей, раскачивались качели, на каждый шест кто-нибудь карабкался, то и дело какой-нибудь смельчак взлетал в прыжке над головами несчетных зрителей. Барчук все привел в действие, чтобы после угощенья гости могли весело провести время.
– Вези нас через нижнюю деревню, – крикнула Юлия, – там меня любят, так пусть люди посмотрят, как хорошо их любимице.
Деревня была пуста, все, кто помоложе, поспешили на качели и карусели, только старики и старухи, привлеченные звуками рожка, показывались в окнах и в дверях, кланялись, благословляли и приговаривали:
– Вот пригожая парочка!
Юлия.Ну вот вам! Пожалуй, мы бы все-таки подошли друг другу. Как бы вы потом не раскаялись!
Люцидор.Но сейчас, милая моя сестрица…
Юлия.Скажите пожалуйста! Теперь, когда вы от меня отделались, я вдруг стала «милая»!
Люцидор.Еще два слова. Вы в ответе за тяжкую провинность: зачем было жать мне руку, если вы знали и могли почувствовать, как ужасно мое положение? В жизни не видывал такой злой шутки!
Юлия.Благодарите бога! Было бы покаяние, а прощение вам дано. Я не хотела за вас, это верно, но вот что вы решительно не хотели брать меня в жены, – таких вещей ни одна девушка не прощает. За такое плутовство – запомните хорошенько! – я и пожала вам руку. Согласна, с моей стороны это было еще большим плутовством, но раз я вас извинила, то могу простить и себе эту выходку. Итак, все прощено и забыто. Вот вам моя рука!
Они ударили по рукам, и Юлия вскричала:
– Вот мы и вернулись, вернулись к нам в парк! Скоро так оно и пойдет: отсюда – в широкий мир, потом – обратно домой. Мы еще встретимся!
Они подъехали к садовому домику, который, судя по всему, был пуст: общество, с неудовольствием видя, что время обеда отодвигается на неизвестный срок, двинулось на прогулку. Однако навстречу им вышли Антони с Люциндой. Юлия кинулась из кареты навстречу своему избраннику, горячо обняла его в знак благодарности и не сдержала радостных слез. Щеки благородного путешественника зарумянились, лицо прояснилось, в глазах заблестела влага, и сквозь прежнюю оболочку проступили черты красивого и серьезного юноши.
И обе пары двинулись вдогонку гостям, полные чувств, каких не мог бы подарить им и самый прекрасный сон.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯПроводивши отца с сыном через красивую местность, стремянный остановился, едва завиднелась окружавшая обширный участок высокая стена, и объяснил, что к парадным воротам им следует подойти пешком, так как подъезжать ближе на лошадях запрещено. Путники позвонили в колокольчик, створки распахнулись, хотя никого при воротах не было видно; отец и сын направились прямо к высокому зданию, светло выделявшемуся среди столетних буков и дубов. Странен был вид этого дома: хотя и старинной архитектуры, оно выглядело так, будто строители и каменотесы только что ушли, до того тщательно заделан был каждый шов, до того новы казались замысловатые украшения.
Тяжелое металлическое кольцо на красивых резных дверях приглашало постучать, что расшалившийся Феликс и проделал без должной робости. Эта дверь также распахнулась сама собой, впустив их в прихожую, где они увидели женщину средних лет, сидевшую за пяльцами и что-то вышивавшую по изящному узору. Она поклонилась гостям, словно о них уже было доложено, и запела веселую песенку, после чего из дверей соседней комнаты сейчас же вышла еще одна особа женского пола; то, что висело у нее на поясе, сразу обличало в ней ключницу и рачительную домоправительницу. Она тоже приветливо поклонилась и повела пришельцев вверх по лестнице в залу, просторность и вышина которой, так же как деревянная облицовка по стенам и ряды исторических картин, сразу настроили их на возвышенный лад. Навстречу вошедшим появились двое: юная девица и престарелый мужчина.
Девица от души приветствовала гостя.
– Нам рекомендовали вас, – сказала она, – как близкого человека. Но как же мне в двух словах представить вам этого господина? Он – друг нашего дома в самом прекрасном и широком смысле этого слова: днем – многознающий собеседник, ночью – астроном и в любой час суток – врач.
– А мне, – дружелюбно отозвался старый господин, – позвольте познакомить вас с этой девицей, которая днем трудится без устали, ночью при малейшей нужде оказывается тут как тут и всегда весело сопутствует нам в жизни.
Потом Анжела (так звалась эта пленявшая и внешностью и манерами красавица) возвестила о выходе Макарии; раздернулся зеленый занавес – и две миловидные юные служанки вкатили кресло, в котором сидела престарелая дама весьма почтенного вида; следом две другие внесли круглый стол с накрытым завтраком. В углу шедшей вдоль стен скамьи из тяжелого дуба положены были подушки, на которых уселись трое взрослых; Макария в креслах расположилась напротив, а Феликс завтракал, расхаживая по зале и с любопытством разглядывая изображения рыцарей над карнизом облицовки.
Макария разговаривала с Вильгельмом как с близким другом; казалось, ей самой доставляло удовольствие описывать свою родню, что она и делала с таким умом и такой проницательностью, будто сквозь надетую на себя каждым особую личину прозревала его внутреннюю сущность. Люди, знакомые Вильгельму, вставали перед ним словно преображенные: доброжелательная проницательность этой редкостной женщины освобождала здоровое зерно от скорлупы и являла его живым и облагороженным.
Когда в дружелюбном разговоре этот приятный предмет был исчерпан, достойная дама обратилась к своему компаньону:
– Не старайтесь оправдаться присутствием нашего нового друга и не откладывайте снова обещанной беседы: он представляется мне человеком, вполне достойным принять в ней участие.
Тот возразил ей:
– Но вам известно, какой тяжкий труд внятно говорить об этих предметах; ведь речь пойдет, ни мало ни много, о злоупотреблении превосходными и широко употребительными средствами.
– Я согласна с вами, – отвечала Макария, – ибо тут сложность двоякого рода. Говоришь о злоупотреблении – а кажется, будто посягаешь на достоинство самого средства, хотя дело-то только в злоупотреблении. Начнешь говорить о самом средстве – и трудно допустить, чтобы его достоинство и основательность позволили злоупотребить им. Но мы здесь в своем кругу и не хотим ни окончательно устанавливать что-либо, ни влиять на других; наше желание – самим достичь ясности, поэтому разговор у нас может идти своим чередом.
– Но все же, – отозвался осторожный компаньон, – нам следует спросить сначала, есть ли у нашего друга желание разбираться вместе с нами в этой довольно-таки запутанной материи и не предпочтет ли он отдохнуть в своей комнате. Может ли быть, чтобы он с благосклонной охотой слушал нас, не зная ни последовательности, ни повода наших прежних бесед?
– Если объяснять сказанное вами через аналогию, то случай ваш, пожалуй, схож с тем, когда нападающий на ханжество боится обвинений в нападках на религию.
– Что ж, ваша аналогия годится, – сказал друг дома, – потому что и здесь речь идет о совокупном деле многих выдающихся личностей, о высокой науке, о важнейшем из искусств, короче говоря – о математике.
– Что до меня, – отвечал Вильгельм, – то даже когда разговор идет о совершенно неизвестных мне вещах, я всегда могу что-нибудь из него извлечь; ведь все, что занимает одного человека, найдет отклик и в другом.
– При том условии, – сказал его собеседник, – что им достигнута свобода духа; а так как мы полагаем, что вы обладаете ею, то я нисколько не возражаю, чтобы вы остались.
– Но что нам делать с Феликсом? – спросила Макария. – Он, как я вижу, рассмотрел все картины и явно выказывает нетерпение.
– Позвольте мне сказать кое-что на ухо этой девице, – отозвался Феликс и тихо прошептал что-то Анжеле, которая удалилась с ним, а потом, улыбаясь, вернулась одна. Тогда друг дома стал говорить в таком роде:
– В тех случаях, когда нужно высказать неодобрение, или хулу, или даже просто сомнение, я не люблю брать на себя почин, а стараюсь найти авторитет и успокоиться сознанием того, что рядом со мною есть союзник. Хвалить я хвалю без колебаний, ибо почему должен я молчать, когда мне что-то нравится? Пусть даже похвала обнаружит ограниченность, я не вижу причин стыдиться ее. Не то с хулою: тут может случиться, что я отвергну нечто превосходное и тем навлеку на себя неодобрение людей более сведущих, чем я. Потому я принес сюда кое-какие выписки, и притом переводные, потому что в таких вещах я верю моим соплеменникам так же мало, как себе самому, зато согласие издали, с чужбины, дает мне больше уверенности. – И вот, получив разрешение, он начал читать следующее…
Однако если мы последуем своему побуждению и не дадим достопочтенному мужу прочесть его рукопись, то благосклонный читатель, смеем надеяться, на нас не посетует, ибо все доводы, высказанные против присутствия Вильгельма при этой беседе, еще более действительны в нашем случае. Наши друзья взялись за роман, и поскольку он оказался местами более назидательным, чем следовало бы, то мы сочли разумным не испытывать более их благожелательное терпение. Бумаги, лежащие сейчас перед нами, мы рассчитываем напечатать в другом месте, а сейчас без дальнейших околичностей переходим к повествованию, так как и нам не терпится видеть загадку разгаданной.
И все-таки мы не можем удержаться и не упомянуть некоторых вещей, о коих говорилось в этом благородном обществе, прежде чем оно разошлось на ночь. Вильгельм, внимательно выслушав прочитанное, заметил непринужденно:
– Нам говорили о том, как велики дарованные природою способности и приобретенные совершенства и как часто, однако, применение их сомнительно. Если бы мне пришлось коротко подытожить сказанное, я бы воскликнул: пошли нам бог высокие помыслы и чистое сердце, а о другом и молить не следует.
Все присутствующие одобрили это разумное слово и затем разошлись, но астроном пообещал, что этой ясной, погожей ночью даст Вильгельму в полной мере приобщиться к чудесам звездного неба.
Спустя несколько часов астроном провел гостя по винтовой лестнице обсерватории и одного выпустил на открытую и неогороженную площадку высокой круглой башни. Безмятежная ночь, искрясь и сверкая всеми своими звездами, объяла наблюдателя, которому показалось, будто он впервые увидел высокий небосвод во всем его великолепии. Ведь в обыденной жизни, даже если не считать неблагоприятной погоды, так часто заслоняющей от нас блистающий простор эфира, нам мешают в городе стены и крыши, вне его – леса и скалы и повсюду – внутренние волнения, проносящиеся в душе, точно грозы и ненастья, и еще сильнее омрачающие кругозор.
Изумленный и захваченный, он зажмурил глаза. Непомерное перестает быть величественным, оно превосходит нашу способность восприятия, оно грозит уничтожить нас.
«Что я такое по сравнению со Вселенной? – говорил себе Вильгельм. – Как я могу противопоставлять себя ей или ставить себя в ее средоточие? – Потом, немного поразмыслив, он продолжал: – Конечный вывод нынешней вечерней беседы разрешает и загадку этого мига. Может ли человек противопоставлять себя бесконечному, иначе как собрав в глубочайших глубинах своего существа все духовные силы, обычно рассеянные по всем направлениям, и задав себе вопрос: «Какое право ты имеешь хотя бы помыслить себя в середине этого вечно живого порядка, если в тебе самом не возникает тотчас же нечто непрестанно-подвижное, вращающееся вокруг некоего чистого средоточия? И пусть тебе будет трудно найти в груди у себя это средоточие, все равно ты распознаешь его по тому благоприятному, благотворному действию, которое от него исходит и о нем свидетельствует».
Кто из нас, кто может оглянуться на прошедшую жизнь и не почувствовать, как мутится в глазах, – ибо любой обнаружит, что в желаниях своих он был прав, но действовал ложно, в вожделениях достоин был укора, но в достигнутом – зависти?
Как часто ты видел сияние светил, – и разве не всякий раз они находили тебя иным? А ведь они всегда одинаковы и всегда говорят одно: «Нашим равномерным движением, – повторяют они, – мы отмеряем день и час; спроси же себя, чем ты занял этот день, этот час». Но на этот раз я могу ответить: «Мне нет причины стыдиться того, чем я сейчас занят: мое намеренье – вновь сплотить подобающим образом всех членов благородного семейства; мой путь предначертан. Я должен исследовать, что разобщает благородные души, должен устранить препоны, в чем бы они ни состояли». Вот что можешь ты, как на духу, сказать этим небесным воинствам, и если бы они снизошли заметить тебя, то улыбнулись бы над твоей ограниченностью, но уж наверное не презрели бы твоего замысла и способствовали его исполнению».
С такими словами или мыслями он оглянулся вокруг, и в глаза ему бросился Юпитер, приносящий счастье, который сиял великолепней, чем всегда; он счел знаменье благоприятным и некоторое время неотрывно созерцал светило.
Тут астроном позвал его вниз и дал полюбоваться в отличную подзорную трубу тем же чудом звездного неба – Юпитером – во всю его огромную величину, со всеми его лунами.
Наш друг долго оставался погруженным в созерцание, потом обернулся и сказал звездослову:
– Не знаю, следует ли мне благодарить вас за то, что вы свыше всякой меры приблизили к глазам моим это светило. Когда я глядел на него раньше, оно соизмерялось для меня с бессчетным множеством остальных звезд и со мною самим, а теперь заняло в моем воображении несоизмеримо большое место, так что я не уверен, надо ли мне так же приближать к себе и весь прочий сонм светил. Мне будет тесно и страшно среди них. – Дальше наш друг продолжал в том же обычном для него роде, высказав по сему случаю немало неожиданного. К примеру, на какое-то возражение знатока астрономии Вильгельм отвечал: – Я прекрасно понимаю, какая радость для вас, космографов, приближать к себе всю необъятную Вселенную так же, как я сейчас видел одну планету. Но позвольте мне высказаться прямо: в жизни, если брать на круг, эти средства, предназначенные в помощь нашим чувствам, обычно не оказывают благотворного нравственного влияния. Кто носит очки, считает себя умнее, чем есть на самом деле, потому что нарушено равновесие между внешним чувством и внутренней способностью суждения; а умение уравновесить внутренним знанием правды то ложное, что приблизилось к нам извне, есть привилегия более высокого развития, доступного лишь избранным. Едва я надену очки, как становлюсь другим человеком и перестаю самому себе нравиться, я вижу больше, чем мне следует видеть, – чем отчетливей я вижу мир, тем меньше он гармонирует с моей внутренней сущностью, поэтому я, едва только удовлетворю любопытство и узнаю, что представляет собою тот или другой предмет вдалеке, поскорее снимаю очки.
Астроном возразил что-то в шутку, на что Вильгельм ответил:
– Мы не станем добиваться, чтобы эти стекла или любое другое механическое устройство были изгнаны из мира, однако наблюдателю нравов важно исследовать и понять, как прокралось в человеческую среду многое, на что теперь сетуют. Например, я уверен, что привычка носить очки, все приближающие к нам, есть главная причина самомнения нынешней молодежи.
В таких разговорах протекла большая часть ночи, поэтому испытанный в ночных бдениях астроном предложил своему молодому другу прилечь на походную кровать и поспать, чтобы потом свежим взглядом наблюдать восход предшествующей Солнцу Венеры и приветствовать светило, обещавшее именно сегодня явиться во всем своем блеске.
Вильгельм, до того мига державшийся бодро, чуть только услышал сочувственное предложение заботливого старика, сразу почувствовал себя утомленным и улегся, а через мгновение заснул глубоким сном.
Когда звездослов разбудил его, Вильгельм тотчас же вскочил и бросился к окну, где на мгновение замер в созерцании, а потом воскликнул, охваченный восторгом:
– Какое величие! Какое чудо! – Далее последовали новые возгласы восхищения, но зрелище по-прежнему оставалось для него чудом, великим чудом.
– Я предвидел заранее, что вас поразит это ласковое светило, редко являющее, как сегодня, всю полноту своего великолепия. Но осмелюсь сказать, не боясь упрека в холодности, что не вижу никакого, ну просто никакого чуда!
– Да как вам его видеть? – отозвался Вильгельм. – Ведь оно во мне, я принес его с собою, я сам не знаю, что со мной творится! Дайте мне еще молча на нее полюбоваться, а потом выслушайте меня. – Помолчав немного, он продолжал: – Я спал, и сон мой был легок, но глубок; я видел себя в давешней зале, но со мною никого не было. Зеленый занавес поднялся, само собой, как живое, выдвинулось кресло Макарии, блистая золотом. Ее одежда была словно ризы жреца, ее взгляд излучал кроткое сияние, я готов был броситься ниц перед нею. Под ее стопами появились облака и, поднимаясь ввысь, как на крыльях вознесли исполненный святости образ, на месте ее величавого лика я видел в разрыве облаков сверкающую звезду, взлетавшую все выше, пока наконец потолок не расступился и она не присоединилась к сонму светил на небе, которое расширялось, охватывая все сущее. В это мгновение вы будите меня; с затуманенной сном головой я иду к окну, та звезда еще стоит у меня в глазах, и что же я вижу? Передо мною наяву – утренняя звезда, такая же прекрасная, хотя, быть может, не столь блистательная и величавая! Звезда, действительно парящая там, в высоте, замещает виденную во сне, похищает ее великолепие, а я все смотрю и смотрю, и вместе со мною смотрите вы – на то, что должно было бы исчезнуть из моих глаз вместе с сонным угаром.
Астроном воскликнул:
– Да, это чудо, истинное чудо! Вы сами не знаете, сколько чудесного в ваших словах. Только бы все это не предвещало нам разлуку с блистательной, ведь такой апофеоз рано или поздно предназначен ей судьбою.
Наутро Вильгельм в поисках Феликса, который спозаранок куда-то ускользнул, поспешил в сад, где с удивлением обнаружил, что возделывают его девушки: их было немало, все не слишком красивы, но и не уродливы и, по-видимому, все не старше двадцати. Одеты они были каждая по-разному, как уроженки разных местностей, работали усердно, здоровались с ним весело и снова брались за дело.
Навстречу ему попалась Анжела, которая, расхаживая туда и сюда, распределяла и принимала работу. Гость поведал ей, как странно ему видеть эту миловидную и трудолюбивую колонию.
– Наша колония, – отвечала Анжела, – бессмертна, так как всегда изменяется и всегда остается все той же. По двадцатому году эти девушки, как и все обитательницы нашего убежища, начнут жить и трудиться самостоятельно, причем, большая часть их выйдет замуж. Вся мужская молодежь по соседству, желая иметь хороших, работящих жен, внимательно приглядывается к тому, что у нас подрастает. Да и наши воспитанницы не сидят тут взаперти, они не раз бывали на ярмарках, где могли людей посмотреть и себя показать, так что многие просватаны и обручены, а между тем другие семейства приглядываются в ожидании, не освободится ли у нас место, чтобы отдать к нам дочерей.
Побеседовав об этом предмете, гость не скрыл от новой приятельницы своего желания перечесть еще раз прочитанное вчера вслух.
– Общий смысл беседы я уловил, – сказал он, – но хотел бы в подробностях познакомиться со всем, о чем шла речь.
– К счастью, – отвечала Анжела, – я легко могу выполнить ваше желание. Вы так быстро получили доступ в святая святых нашего семейства, что я имею право сказать вам: бумаги уже у меня в руках, я тщательно подобрала их и присоединила к другим. Моя госпожа, – продолжала она, – незыблемо убеждена в важности всякой мимолетной беседы; она говорит, что тут, будучи сказано вскользь, пропадает и то, чего не найдешь ни в каких книгах, и самое лучшее, что только можно найти в книгах. Поэтому она вменила мне в обязанность собирать интересные мысли, когда в умной беседе они сыплются, словно семена с раскидистого растения. Она говорит: «Только если неизменно стараться закрепить настоящее, можно найти удовольствие в преданиях прошлого: тогда обнаруживаешь, что лучшие мысли были уже высказаны, а прекраснейшие чувства выражены. Через это становится для нас очевидно то единомыслие, к которому человек призван и должен приноровиться, – часто против своей воли, так как любит воображать, будто весь мир начался вместе с ним».
Далее Анжела поведала гостю, что таким образом собрался богатый архив, из которого она в бессонные ночи вслух читает Макарии то тот, то другой лист, и при таком чтении примечательным образом бросаются в глаза многочисленные частности, – так точно ртуть, упав, рассыпается на бессчетное множество шариков.
На вопрос о том, сохраняется ли этот архив в тайне, она не скрыла, что знают о нем только самые близкие, но сказала, что охотно возьмет на себя ответственность и по первому желанию вручит ему несколько тетрадей.
За таким разговором они пересекли сад и подошли к господскому дому, где Анжела, входя в одну из комнат во флигеле, сказала с улыбкой:
– Я воспользуюсь случаем доверить вам еще одну тайну, к которой вы менее всего подготовлены.
После этого она велела ему заглянуть за занавес в кабинет, где он, к величайшему своему изумлению, увидел за столом Феликса, занятого писанием, и не сразу мог угадать причину столь неожиданного усердия. Но Анжела тут же просветила его, открыв следующее: мальчик использует на это дело каждый миг уединения и объясняет, что ему, мол, ничего больше не хочется, кроме как ездить верхом и писать.
Тотчас после этого наш друг был отведен в комнату, где в шкафах по всем стенам мог увидеть множество аккуратно уложенных бумаг. Само число подразделений свидетельствовало о разнообразном содержании, во всем видны были внимание и порядок. Когда Вильгельм похвалил эти достоинства, Анжела ответила, что вся заслуга принадлежит другу дома: он не только продумал саму систему, но и умеет, с присущей ему широтой кругозора, в трудных случаях определенно указать, в какой раздел следует отнести бумагу. После этого она разыскала прочитанную вчера рукопись и разрешила любопытному гостю пользоваться и ею, и всеми остальными с правом не только в них заглядывать, но и снимать копии.
Этим делом нашему другу пришлось заниматься с умеренностью, потому что нашлось слишком много привлекательного и занимательного; особенно оценил он тетради с короткими, почти не связанными между собою высказываниями. Каждое было лишь конечным выводом и, если не знать породивших его обстоятельств, могло показаться парадоксом, однако каждое заставляло нас, двигаясь вспять, заново все додумывать и придумывать и взглядом издали и снизу вверх охватывать всю последовательность мыслей, порождающих одна другую.
Но и этим выпискам мы, по изложенным выше причинам, не можем уделить места. Однако мы не упустим первой же представившейся возможности с выбором преподнести читателю в подходящем месте почерпнутое нами из этого архива.
На третье утро наш друг отправился к Анжеле, перед которой предстал не без некоторого смущения.
– Сегодня пришел срок проститься, – сказал он, – и я должен получить у досточтимой госпожи, к которой, увы, не был вчера допущен, последние поручения. И есть еще нечто, затронувшее мне сердце и занявшее мои мысли, о чем я хотел бы получить разъяснения. Если это возможно, соблаговолите мне их дать.
– По-моему, я поняла вас, – сказала его очаровательная собеседница, – но продолжайте дальше.
– Чудесный сон, несколько слов, сказанных почтенным звездословом, особый запертый ящик с надписью «Странности Макарии» в одном из шкафов, куда вы дали мне доступ, – все эти обстоятельства вторят моему внутреннему голосу, а он твердит мне, что этот усиленный интерес к небесным светилам – не только научное увлечение любителя, стремление побольше узнать о звездной Вселенной; нет, тут скорее можно предположить, что между Макарией и светилами существует особая скрытая связь, которую мне было бы весьма важно узнать. С моей стороны это не любопытство и не назойливость: такой случай столь интересен для исследователя душ и умов, что я не могу удержаться и спрашиваю, не будет ли мне оказана, вдобавок к прежнему доверию, и эта чрезвычайная милость.