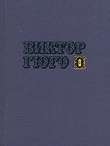Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
Из дальнейших расспросов выяснилось, что для наследника, к его сожалению, все здесь было слишком завершено, ему тут нечего было делать, а наслаждаться готовым он не умел и поэтому отыскал местность ближе к горам, где стал строить для себя и для приятелей шалаши из мха, воздвигая подобье пу́стыни для охотников. Что же до их собеседника, то он был, как они узнали, кастеляном, который перешел в наследство вместе с виллой и теперь неукоснительно заботился об ее сохранности и чистоте, чтобы какой-нибудь внук, если ему достанутся от деда не только владения, но и наклонности, нашел все таким же, каким тот оставил.
Некоторое время они продолжали путь в молчании, потом Ленардо заметил, что таково странное свойство человека – желать все начать сначала; друг возразил ему, что это легко объяснимо и простительно, потому что, если быть точным, каждый действительно начинает сначала.
– Ведь никто, – воскликнул он, – не избавлен от страданий, которыми терзались предки! Так надо ли упрекать людей за то, что они не желают упустить ни одной из доставшихся предкам радостей?
Ленардо отвечал на это:
– После ваших слов я осмелюсь признаться, что и сам люблю иметь дело только с тем, что мною самим создано. Никогда не ценил я слуг, которых не школил с детства, или лошадей, которых не сам объезжал. И еще я готов признаться вам в последствиях такого образа мыслей: меня неодолимо привлекают первобытные условия существования, этого чувства не притупили во мне все путешествия по цивилизованным странам среди просвещенных народов. Мое воображение любит переноситься за море, где заброшенное отцами в тех необжитых краях владение дает мне надежду осуществить так, как мне хочется, втайне задуманный и постепенно созревший план.
– На это мне нечего возразить, – отвечал Вильгельм, – в такой мысли, устремленной к новому и неизвестному, есть и необычайность и величие. Но прошу вас принять в соображение вот что: подобные предприятия осуществимы только соединенными усилиями. Вы отправляетесь туда, где вас ждут, как мне известно, наследственные владения; у моих сотоварищей такие же замыслы, они уже основали там поселения. Объединитесь с ними – осмотрительными, умными и сильными людьми: это поможет обеим сторонам шире вести дело.
За таким разговором друзья доехали до места, где должны были расстаться. Оба уселись за письма: Ленардо рекомендовал друга упомянутому выше чудаку; Вильгельм докладывал о своем новом друге сотоварищам по Обществу, для чего, понятно, требовалось написать рекомендательное письмо; в конце он сообщил также о деле, ранее обсужденном с Ярно, и еще раз изложил причины своего желания скорее избавиться от тягостного условия, которое запечатлевало его клеймом Вечного Жида.
Обмениваясь с другом письмами, Вильгельм не удержался и забросил в его сердце новые опасения.
– В моем положении, – сказал он, – для меня желанно такое задание, как ваше: избавить благородного человека от душевной тревоги и вызволить еще одно существо из беды, если оно бедствует. Эта цель может стать путеводной звездой, по которой направляют корабль, даже не зная, на что натолкнешься и с чем встретишься по пути. Но я не могу скрыть, что в любом случае вас подстерегает одна опасность. Не будь у вас привычки уклоняться от обещаний, я взял бы с вас слово никогда не встречаться с этой женщиной, которая, судя по всему, очень вам дорога, и удовольствоваться моим известием, что у нее все хорошо, – в том случае, конечно, если я найду ее счастливой или буду в силах способствовать ее счастью. Но я и не могу, и не хочу вымогать у вас обещание, а потому заклинаю вас всем, что вам дорого и свято: ради себя самого, ради ваших близких, ради меня, в ком обрели вы друга, ни под каким предлогом не позволяйте себе приближаться к той, которую потеряли, и не требуйте от меня, чтобы я определенно указал или назвал вам место, где нашел ее, и край, где оставил. Вы поверите мне на слово, что с нею все хорошо, и успокоитесь данным вам отпущением.
Ленардо отвечал с улыбкой:
– Сослужите мне эту службу, а уж я сумею быть благодарным. Вам дается право действовать по вашему желанию и силам, а меня препоручите действию времени, здравого смысла, а может быть, и разума.
– Простите меня, – отозвался Вильгельм, – но любому, кто знает, под какими странными обличиями закрадывается к нам в душу влечение, станет не по себе, ежели он предвидит, что друг может пожелать себе такого, от чего – при его обстоятельствах и отношениях с людьми – непременно выйдет беда и смятение чувств.
– Я надеюсь, – сказал Ленардо, – избавиться от мыслей о девушке, узнав, что она счастлива.
На этом друзья расстались и отправились каждый своим путем.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯДорога до указанного в письме города была короткой и приятной, а сам город Вильгельм нашел уютным и красивым, и только новизна строений с ясностью свидетельствовала, что недавно он пострадал от пожара. Адрес на письме привел Вильгельма на окраину, не тронутую огнем, к дому старинной постройки, суровому на вид, но хорошо сохранившемуся и чистому. Непрозрачные стекла в затейливых переплетах обещали обрадовать глаз вошедшего роскошью красок. И действительно, внутри все было как снаружи; в чисто прибранных комнатах повсюду попадалась утварь, послужившая, наверно, уже многим поколениям и лишь изредка перемежаемая новыми вещами. Хозяин дома радушно принял Вильгельма в комнате с таким же убранством. Эти часы многим пробили час рождения и смерти, и все стоявшее вокруг напоминало о том, что и прошлое может войти в настоящее.
Новоприбывший передал письмо, которое получатель, однако, отложил, не вскрыв, и затеял с гостем веселую беседу, ища узнать его непосредственно. Скоро они освоились, и так как Вильгельм, вопреки своему обыкновению, блуждал по всей комнате внимательным взглядом, добродушный старик сказал ему:
– Вас заинтересовала моя обстановка. Здесь вы видите, как долговечны могут быть вещи, а это зрелище необходимо нам как противовес всему, что в мире так быстро изменяется и заменяется новым. Этот чайник служил еще моим родителям и был свидетелем наших вечерних семейных трапез; этот медный экран перед камином по сей день защищает меня от жара, который я разгребаю этими старыми тяжелыми щипцами. И таково здесь все. Предметы моих интересов и трудов потому и были так многочисленны, что я не менял вещей, которые служат внешним потребностям, между тем как у большинства людей это занятие отнимает немало времени и сил. Человека делает богатым любовное внимание ко всему, чем он владеет, ибо так он пополняет сокровищницу воспоминаний, связанных с самыми неприметными вещами. Я знал одного молодого человека, который, прощаясь, похитил у возлюбленной булавку и каждый день закалывал ею манишку, а потом привез это любимое и лелеемое сокровище из долгого путешествия домой. Нам, маленьким людям, такое можно зачесть в добродетель.
– А иной, – отвечал Вильгельм, – привозит из такого долгого и дальнего путешествия занозу в сердце и рад был бы от нее избавиться.
Но старику, хоть он той порой вскрыл и прочел письмо, судя по всему, ничего не было известно о состоянии Ленардо, потому что он незамедлительно вернулся к прежнему предмету.
– Упорство в сохранении принадлежащего нам, – продолжал он, – часто придает нам величайшую энергию. Такому упрямству я обязан тем, что мой дом уцелел. Когда город горел, мои домашние тоже хотели бежать и спасать вещи. Я запретил им это, приказал закрыть окна и двери, а сам с несколькими соседями стал обороняться от пламени. Благодаря нашим усилиям этот конец города не выгорел. У меня в доме на следующее утро все стояло так же, как сейчас и как стоит уже почти сто лет.
– Но при всем при том вы признаете, – сказал Вильгельм, – что человек не в силах противостоять изменениям, которые приносит время.
– Конечно, – сказал старик, – но кто дольше сохранил себя, тот уже чего-то достиг. Ведь мы способны сохранять и упрочивать многое даже за пределами нашего существования; мы передаем знания, мы оставляем в наследство воззрения точно так же, как имущество, а я, поскольку больше всего меня заботит последнее, с давнего времени был на редкость осмотрителен и придумал совершенно особые меры предосторожности; но только на старости лет мне удалось увидеть исполнение моих желаний.
Обыкновенно сын расточает собранное отцом и собирает сам что-нибудь другое или по-другому. Но дождитесь внука, дождитесь нового поколения – и вы снова увидите те же склонности, те же взгляды. В конце концов мне удалось, благодаря стараниям наших педагогических друзей, взять к себе дельного молодого человека, который, если это возможно, больше меня дорожит наследственным добром и привержен редкостным вещам. Этот юноша окончательно завоевал мое доверие, когда, напрягая все силы, отстаивал наше жилище от пожара. Он вдвойне и втройне заслуживает владеть теми сокровищами, которые я намерен ему отказать; да, впрочем, они уже и переданы ему, и с этого времени наши запасы стали чудесным образом умножаться.
Но не все, что вы здесь видите, – наше. Ведь у закладчиков вы можете найти много чужих драгоценностей; точно так же и здесь я укажу вам немало дорогих вещей, которые ради лучшего их сохранения были оставлены нам при разных обстоятельствах.
Вильгельм тут же вспомнил о великолепном ларчике, который ему и прежде не хотелось возить с собою в путешествие, и, не удержавшись, показал его новому другу. Старик внимательно рассмотрел ларчик, назвал время, когда он мог быть изготовлен, и показал похожие вещи. Вильгельм заговорил о том, не следует ли открыть его. Старик, однако, думал иначе.
– Хотя, по-моему, это можно сделать, и не очень повредив ларчик, но коль скоро его дал вам в руки столь чудесный случай, вы должны попытать на нем счастье. Если вы родились счастливым и если этот ларчик не лишен значения, то ключ должен отыскаться сам собой, и непременно там, где вы меньше всего ожидаете.
– Такое иногда случается, – отвечал Вильгельм.
– Со мной самим это бывало, – отозвался старик. – И самый замечательный пример – вот это распятие. Тело Христа с головой и ногами, вырезанное из одного куска слоновой кости, принадлежит мне уже лет тридцать; ради священности предмета и ради искусной работы я хранил его в драгоценной шкатулке; а лет десять назад я раздобыл крест с надписью, явно от этого же распятия, и не устоял от искушения дать самому умелому из нынешних резчиков приделать еще и руки. Но как далеко ему, бедняге, до его предшественников! И все-таки я мог поставить распятие, больше чтобы предаваться перед ним душеспасительным размышлениям, чем любоваться искусным художеством.
Так вообразите себе, до чего я ликовал, когда раздобыл недавно изначальные, подлинные руки! Они были приложены на место, и вы видите, как пленительна гармония целого! Столь счастливое воссоединение разрозненного восхищает меня настолько, что я не могу не узнать в нем грядущей судьбы христианской религии; многократно расчлененная и раздробленная, она в конце концов всякий раз непременно собирается воедино у подножья креста.
Вильгельм вслух подивился и распятию, и странному стечению случайностей и прибавил:
– Я последую вашему совету: пусть ларчик остается запертым, пока не найдется ключ, хотя бы ему и пришлось пролежать до конца моих дней.
– Кто долго живет, – сказал старик, – у того на глазах многое собирается воедино и многое распадается.
Тут в комнату вошел младший владелец собрания, и Вильгельм объявил о своем намерении передать им ларец на сохранение. Тотчас же принесена была толстая книга, чтобы зарегистрировать доверенное имущество; с соблюдением множества формальностей и оговорок составили сохранную расписку на предъявителя, который, однако, имел право на получение вещи лишь по особому, обусловленному с хранителем знаку.
Когда все было готово, они принялись обсуждать содержание письма, прежде всего – советоваться о том, куда определить Феликса; по этому поводу старик объявил себя сторонником следующих правил, долженствующих быть основой всякого воспитания:
– Прежде чем вступить в жизнь, прежде чем заняться любым делом, любым искусством, следует сначала овладеть ремеслом, а это достигается только ценой ограничения. Кто хорошо знает и владеет чем-нибудь одним, тот более образован, чем многосторонний полузнайка. Там, куда я вас посылаю, все роды деятельности разделены; учеников ежеминутно испытывают и так узнают, к чему они стремятся по природе, хотя до поры их рассеянные желания обращаются то на одно, то на другое. Мудрые наставники незаметно наталкивают мальчиков на то, что отвечает их натуре, и сокращают кружные пути, на которых человеку так легко заблудиться и отклониться от своего призвания.
– Затем, – продолжал он, – я надеюсь, что вам, когда вы окажетесь в средоточии столь разумно устроенного сообщества, сумеют указать дорогу к девушке, так сильно поразившей вашего друга, что нравственное его чувство и размышления придали чрезвычайное значение несчастьям одного невинного существа, которое помимо его воли стало для него целью и смыслом жизни. Я надеюсь, вы сможете его успокоить, потому что у провидения есть бессчетное множество средств поднять павшего и выпрямить согбенного. Порой наша участь подобна плодовому дереву зимой. Кто мог бы подумать, взглянув на его унылый вид, что эти окоченелые сучья, эти узловатые ветви весною покроются листьями, цветами, а потом и плодами; но мы надеемся, мы знаем, что так оно и будет.
КНИГА ВТОРАЯ

Паломники отправились указанным путем и благополучно прибыли на границу той провинции, где им предстояло увидеть и узнать так много примечательного. Сразу же по въезде они могли обозреть плодородный край, где пологие склоны холмов благоприятствовали землепашеству, горы повыше – овцеводству, а низменные равнины – выпасу крупного скота. Урожай, и притом очень обильный, почти поспел для жатвы. С самого начала их удивило то, что за работой нигде не было видно ни мужчин, ни женщин; только мальчики и юноши готовились снимать богатый урожай, а то и справлять веселый праздник жатвы. С поклоном подъезжая то к одному, то к другому, путники осведомлялись, где найти Главного, но никто не мог назвать его местопребывания. Адрес на письме гласил: «Главному либо Троим». Мальчики и тут бессильны были ответить, но зато указали надзирателя, который как раз собирался сесть на лошадь. Ему путники и поведали о своей цели; открытый нрав Феликса, судя по всему, ему понравился, и все втроем поскакали по дороге.
Вильгельм еще прежде приметил, что одежда мальчиков была разного цвета и покроя, и это придавало малолетнему народцу весьма своеобразный вид; он собрался было спросить об этом вожатого, но его отвлекло еще более странное наблюдение: все дети, как бы ни были они заняты работой, прерывали ее и поворачивались лицом к проезжающим с особыми, но не у всех одинаковыми жестами, которые, как нетрудно было понять, относились к надзирателю. Младшие весело поднимали глаза к небу, скрестив руки на груди; средние с улыбкой смотрели в землю, заложив руки за спину; третьи, опустив руки по швам и повернув голову направо, выстраивались в ряд, между тем как остальные так и стояли поодиночке, где их застали.
В одном месте, где несколько мальчиков встали перед ними должным для каждого образом, путники спешились, и надзиратель произвел детям смотр; тут Вильгельм и задал вопрос о значении этих жестов, и Феликс тоже, без стеснения вмешавшись в разговор, спросил:
– А мне как положено стоять?
– Для начала, – отвечал надзиратель, – скрестить руки на груди и неотрывно смотреть вверх, весело, но серьезно.
Мальчик повиновался наказу, но вскоре воскликнул:
– Ну, особенного удовольствия я тут не нахожу: ведь наверху ничего не видно. Долго мне так стоять? – Потом он крикнул радостно: – Ох, нет! Вон с запада на восток летят два ястреба; это, кажется, хорошая примета?
– Смотря как ты ее истолкуешь и как будешь себя вести, – отвечал надзиратель. – А теперь ступай к мальчикам и будь с ними.
Он подал знак, дети принялись за прежние дела или игры.
– Не объясните ли вы мне, – сказал Вильгельм, – то, что меня удивляет? Я вижу, эти жесты и позы заменяют при встрече с вами приветствия.
– Совершенно верно. И эти приветствия сразу показывают мне, какой ступени образования достиг каждый из мальчиков.
– А не можете ли вы, – отозвался Вильгельм, – объяснить мне последовательность и значение этих ступеней? Ведь нетрудно понять, что такая последовательность есть.
– Это подобает сделать стоящим выше, чем я, – ответил надзиратель. – Но я вправе вас заверить, что все это – не пустые ужимки, и детям сообщают, в чем их смысл, пусть не высший, но важный и понятный для них; однако каждому наказано держать про себя все, что ему сочли за благо открыть; болтать об этом они не имеют права ни с посторонними, ни между собой, и таким образом учение принимает сотни разных обличий. Кроме того, у тайны есть большое преимущество: ведь если обо всем сразу же говорить, в чем тут дело, то начнут думать, будто ничего сокрытого и нет. Есть тайны, которым, даже когда они перестают быть тайнами, подобает честь остаться невысказанными и сокровенными, ибо это способствует стыдливости нравов.
– Это мне понятно, – ответил Вильгельм. – Почему бы не перенести обычай, столь необходимый во всем, что относится до тела, также и в сферу духовного? Но, быть может, вы снизойдете к моему любопытству и в другом. Мне бросилось в глаза, до чего разнообразна здесь и по покрою, и по цвету одежда, но все же я вижу не все цвета, а только некоторые, – правда, во всех оттенках, от самых светлых до самых темных. Но коль скоро костюмы одного покроя и цвета носят без разбора и старшие и младшие, а те, что приветствуют вас одинаково, могут различаться по платью, значит, оно, как я вижу, не предназначено указывать, на какой ступени, по возрасту или по успехам, стоит воспитанник.
– И об этом, – отвечал Вильгельму спутник, – я не имею права распространяться. Но едва ли я ошибусь, если скажу, что до отъезда вы получите все объяснения, какие пожелаете.
Они направлялись теперь к Главному, чей след, по-видимому, отыскался. Приезжий не мог не обратить внимания на благозвучный напев, который чем дальше продвигались они в глубь страны, тем громче звучал им навстречу. За что бы ни брались мальчики, за каким бы делом их ни заставали, все они пели песни, очевидно, наиболее подходящие к их занятию, а значит, одни и те же повсюду, где делалась одинаковая работа. Если собиралось несколько мальчиков, они, каждый в свой черед, подпевали друг другу; ближе к вечеру стали попадаться и танцующие, причем движения танца оживлялись ритмом хорового напева. Феликс, не слезая с коня, стал довольно удачно вторить мальчикам; Вильгельму пришлось по душе такое развлеченье, оживлявшее звуками окрестность.
– Судя по всему, – обратился Вильгельм к спутнику, – об этой стороне обучения здесь пекутся весьма усердно, иначе бы умение петь не было столь распространено и столь совершенно.
– Конечно, – отвечал тот. – Пение у нас – самая первая ступень образования, все остальное связано с ним как с посредствующим звеном. Пробудить простейшее чувство удовольствия, запечатлеть в памяти простейшие знания – вот чему служит у нас пение; даже те начатки веры и нравственности, которые мы хотим передать детям, сообщаются им при помощи песни. От этого неотделимы и другие преимущества, способствующие самостоятельным навыкам: ведь когда мы обучаем детей знаками записать на доске звуки песни, затем сразу же напеть их, а потом подписать под ними слова, они упражняют и руку, и ухо, и глаз, усваивают чисто– и правописание быстрее, чем можно было бы предположить; а поскольку все должно быть воспроизведено с соблюдением правильной меры и счета, то и высокое искусство измерения и счисления они так усваивают быстрее, чем любым другим способом. Мы потому и выбрали музыку первоосновой воспитания, что от нее торные дороги расходятся во все стороны.
Вильгельм, тщась получить новые сведения, не скрыл, что удивляется, не слыша инструментальной музыки.
– У нас не пренебрегают и ею, – отвечал надзиратель, – но для занятий отведен особый округ – красивая, замкнутая между горами долина; да и там позаботились чтобы на каждом инструменте учились играть в особом, удаленном от прочих месте. Прежде всего фальшивые звуки, извлекаемые новичками, сосланы в особые пу́стыни, где никого не могут довести до отчаяния. Ведь вы не станете отрицать, что в благоустроенном гражданском обществе вряд ли бывает мучение горше, чем терпеть по соседству начинающего флейтиста или скрипача.
А наши новички, в похвальном намеренье никому не быть в тягость, добровольно удаляются в пустыню на больший или меньший срок и в одиночку усердно трудятся там, чтобы заслужить себе право вернуться в обитаемый мир; ради этого каждому разрешается время от времени держать испытание, и неудачи редки, ибо тут, как и везде, мы растим и пестуем в наших воспитанниках стыдливость и скромность. Меня искренне радует, что у вашего сына оказался неплохой голос, – ведь тогда все остальное труда не составит.
Путники достигли места, где Феликс покамест должен был остаться и примериться к новой обстановке, прежде чем решено будет принять его по всей форме. Уже издали услышали они веселое пение: то была игра, которой мальчики забавлялись в этот час досуга. Порой звучал весь хор, причем каждый стоявший в обширном кругу радостно и чисто исполнял свою партию в общем напеве, повинуясь знаку регента. Однако регент, неожиданно для поющих, то и дело мановением руки приказывал хору умолкнуть, а одного из певцов прикосновением палочки заставлял подхватывать последнюю ноту и начать с нее новую, подходящую по смыслу песню. Большинство уже понаторело в этом искусстве, а те, у кого такой кунштюк не получался, покорно отдавали фанты, причем остальные и не думали над ними смеяться. Феликс был еще довольно ребячлив, чтобы присоединиться к хору, и вполне сносно справился с задачей. Потом ему дали право приветствия, положенного на первой ступени; он немедля скрестил на груди руки и стал глядеть вверх, однако с таким плутовским видом, что нетрудно было заметить, как далеко ему еще до понимания тайного смысла.
Красивая местность, радушный прием, бойкие товарищи – все до того понравилось мальчику, что отъезд отца не доставил ему особенного горя; едва ли не с большим огорчением глядел он вслед уводимому прочь коню, но образумился, когда узнал, что в здешнем округе нельзя оставить его при себе, зато потом он нежданно-негаданно получит другого скакуна, не хуже объезженного и не менее резвого.
Поскольку Главный оставался недосягаем, надзиратель сказал:
– Мне придется вас покинуть и заняться своими делами, но прежде я намерен доставить вас к Троим; они ведают нашими святынями и все вместе представляют особу Главного, письмо же ваше адресовано и к ним.
Вильгельм пожелал было заранее узнать что-нибудь о святынях, но спутник возразил ему:
– Вы оставляете нам сына, и в награду за такое доверие Трое, по долгу мудрости и справедливости, непременно поведают вам все, что необходимо. Видимые предметы почитания, которые я назвал святынями, сосредоточены в особом округе, вдали от всего постороннего и способного стать помехой; только несколько раз в год, в определенное время, туда допускаются воспитанники, соответственно ступени образования, чтобы получить там исторические и наглядные уроки, унести довольно впечатлений и некоторый срок находить в них пищу, занимаясь положенным делом.
И вот Вильгельм стоял у ворот в высокой стене, замыкавшей лесистую долину; по знаку калитка отворилась, и навстречу нашему другу вышел степенный, внушительного вида человек. Вильгельм очутился на широкой зеленой поляне, затененной деревьями и кустами разных пород; их высокая, вольно растущая чаща почти заслоняла от глаз стройные стены и внушительные строения. Один за другим подошли Трое, и их радушные приветствия стали началом разговора, в который каждый внес свою долю, но содержание которого мы изложим лишь вкратце.
– Поскольку вы доверили нам сына, – сказали они, – то наш долг – глубже познакомить вас с нашей методой. Вы уже видели некоторые внешние формы, но так как видеть не значит сразу же понять, то что бы вы хотели узнать о них?
– Я видел странные, хотя и благопристойные знаки приветствия, и желал бы осведомиться об их значении; ведь у вас, конечно, внешнее связано с внутренним и наоборот, и эту связь я прошу мне объяснить.
– Благородные и здоровые дети наделены многим: природа дала каждому в запас все необходимое на долгое время; наш долг – развивать эти задатки, которые часто лучше всего развиваются сами собою. Одного только никто не приносит с собою в мир, – того самого, от чего зависит, чтобы человек во всем был человеком. Если вы можете угадать сами, то назовите это одно.
Вильгельм задумался, потом покачал головой.
Трое, выждав, сколько требовали приличия, воскликнули:
– Благоговения! – Вильгельм замер от неожиданности. – Да, благоговения! – прозвучало вновь. – Его не хватает всем, может быть, даже и вам.
Вы видели жесты трех родов; мы и прививаем три рода благоговейного страха, которые, только слившись воедино, обретают высшую силу воздействия. Первый род – это благоговейный страх перед тем, что выше нас. Руки, скрещенные на груди, и радостный взгляд, устремленный к небу, – мы требуем этого от самых маленьких в свидетельство тому, что над нами есть бог, чей явный образ отпечатлелся для них в родителях, учителях и наставниках. Второй род – это благоговение перед тем, что под нами. Заложенные за спину и как бы связанные руки и опущенный, но веселый взгляд говорят о том, что землю следует воспринимать как благо и радость: она дает нам возможность прокормиться, она доставляет несказанные утехи, но приносит и неизмеримо большие страдания. Если кто по своей вине или ненароком поранит или изувечит себя, если кого поранят другие, намеренно или случайно, если кого заставят страдать земные обстоятельства, лишенные собственной воли, – пусть он поразмыслит об этом: ведь такие опасности сопутствуют нам всю жизнь. Но от этой позы мы освобождаем нашего воспитанника как можно скорее, едва только убедимся, что уроки этой ступени достаточно на него подействовали; тут мы призываем его ободриться духом и обратить взгляд на товарищей. Теперь воспитанник стоит прямо и мужественно, уже не в одиночку, ибо только в сообществе может он противостоять всему миру. Больше мы ничего сказать не можем.
– Теперь-то мне все ясно! – отозвался Вильгельм. – Толпа оттого так погрязла во всяческой гнусности, что для нее зложелательство и злоречие – родная стихия; кто предается им, тот скоро начинает относиться с равнодушием – к богу, с презрением – к миру и с ненавистью – к себе подобным, а подлинное, естественно присущее нам самоуважение вырождается в спесь и высокомерие. Но позвольте мне все же заметить одно: разве многие не считали страх, испытываемый дикарями перед грозными явлениями природы и другими необъяснимыми неожиданностями, тем зерном, из которого постепенно произросли высшие чувства и чистые помыслы?
Трое ответили ему:
– Страх – в природе человека, но это не благоговейный страх. Страшатся постижимого или непостижимого могущества, сильный ищет вступить с ним в борьбу, слабый – уклониться, но оба желают от него избавиться и счастливы, когда на короткий срок отвращают его от себя, когда природа их хотя бы отчасти обретает вновь свободу и независимость. Естественный человек производит такого рода маневр миллионы раз за свою жизнь, из-под ига страха он стремится на свободу, потом, лишившись свободы, снова загоняется под ярмо страха, и ничего больше. Страшиться легко, но тягостно; благоговеть трудно, но спокойно. Человек лишь с неохотой решается допустить в сердце благоговейный страх, вернее, вообще не решается на это: ведь благоговение – это высшее чувство, оно должно быть даровано человеческой природе, а само из себя оно развивается только у взысканных особой милостью, у тех, кого за это издавна считали святыми и божественными. В том и заключено все достоинство, в том и состоит прямое дело всех подлинных религий, которых существует только три, в зависимости от того, что служит в каждой предметом почитания.
Трое мужей прервали речь, Вильгельм некоторое время молчал в задумчивости; но так как он не чувствовал в себе смелости самому истолковать смысл странных слов, то попросил, чтобы достойные продолжали объяснение, и Трое незамедлительно снизошли к его просьбе.
– Если религия зиждется на страхе, – сказали они, – то у нас ее не признают. Но если этот страх возвысится в душе до благоговейного страха, или благочестия, тогда человек, воздавая честь, не теряет и собственной чести, ибо, не в пример первому названному случаю, сохраняет единство с самим собой. Религию, в основе которой лежит благоговейный страх перед тем, что превыше нас, мы называем этнической; это религия народов, знаменующая счастливое начало освобождения от низменного страха; к роду этнических принадлежат все языческие религии, как бы они ни именовались. Религию, которая зиждется на благоговении перед тем, что равно нам, мы называем философической, ибо философ, который ставит себя в средоточие мира, должен низвести все высшее и возвысить все низшее вровень с собою, а иначе он не заслуживает имени мудреца. Взгляд мудреца глубоко проникает в те отношения, которые связывают его с ближним, а значит, и со всем человечеством, и со всем случайным и необходимым, что окружает его на земле, и поэтому в космическом смысле только мудрец живет в истине. Теперь следует сказать и о той религии, которая зиждется на благоговении перед тем, что ниже нас; ее мы называем христианской, так как в христианстве такой образ мыслей обнаруживается всего явственней. Это – последняя ступень, которой можно и должно было достигнуть человечеству. Но для этого мало подняться над землей, покинув ее ради более высокой отчизны, – следует еще признать унижение и бедность, глумление и поругание, презрение и несчастие, страдание и смерть божественными, постичь, что даже грех и преступление не только не мешают, но и способствуют святости, и за то почтить и возлюбить их. Правда, следы такого умонастроения можно найти во все времена, но следы еще не цель, а когда цель достигнута, человечеству нет пути назад, и можно сказать, что христианская религия, раз возникнув, не исчезнет вновь, раз достигнув божественного воплощения, не расточится опять.