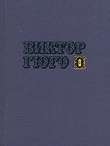Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Тут странник не преминул заметить, что жилища музыкантов в только что пройденном округе ни по красоте, ни по просторности не идут в сравнение со здешними, где селятся живописцы, ваятели и строители. Ему возразили, что это вполне естественно: ведь музыканту нужно постоянное самоуглубление, ибо вовне он может показать лишь то, что сумел развить внутри. «Ублажать себе зрение ему незачем. Ведь оно легко берет верх над слухом и отвлекает дух от внутреннего к внешнему. Тем же, кто занят изобразительными искусствами, необходимо, напротив того, жить во внешнем мире, обнаруживать свою внутреннюю сущность во внешнем и в соответствии с ним. Художники должны жить в чертогах, как цари или боги, а иначе как они смогут создавать и украшать чертоги для царей и богов? Они должны быть поставлены над общим уровнем настолько высоко, чтобы вся община, весь народ чувствовал себя облагороженным их созданиями и в их созданиях».
Потом наш друг попросил объяснить ему еще один парадокс: почему в эти праздничные дни, когда во всех прочих округах такое оживление и такая суматоха, здесь царит ненарушимая тишина, а работа не прекращается?
Ответ гласил, что ни зодчему, ни живописцу, ни скульптору празднества не нужны, для них весь год праздник. Если они сделали что-нибудь изрядное, оно постоянно находится перед глазами у них и у всего света. Поэтому им и не надобны ни повторение, ни новые усилия, ни новая удача, то есть все, над чем постоянно бьется музыкант и ради чего следует устраивать ему блистательнейшие и многолюднейшие празднества.
– Но все же, – отозвался Вильгельм, – хорошо было бы открывать на эти дни выставку, чтобы можно было с удовольствием увидеть и судить, каковы успехи лучших воспитанников за три года.
– В других местах, – отвечали ему, – выставки, быть может, и необходимы, но только не у нас. Ведь вся наша жизнь по сути своей есть выставка. Вы видите, эти разнообразные здания возведены воспитанниками, правда, по заранее обдуманным и многократно обсужденным чертежам, ибо строитель не имеет права пытаться на ощупь: что остается стоять, то должно стоять прочно и служить если не вечно, то очень долго. Ошибаться можно по всем, но нельзя ошибаться, когда строишь.
Больше воли даем мы ваятелям, еще больше – живописцам: они имеют право на пробы, каждый в своем искусстве. Они свободны выбрать любое место, какое хотят украсить: во внутренних комнатах дома или в наружных пристройках, на площади или на улице. Нам сообщают замысел, и если он заслуживает одобрения, то работу разрешают выполнить, оговорив одно из двух: художнику либо дается позволение рано или поздно убрать свою вещь, если она разонравится ему, либо ставится условие, чтобы, однажды водруженная на место, она там и осталась. Большинство художников выбирают первое, то есть заручаются таким позволением, поступая тем самым наиболее разумно. Второй случай реже, и было замечено, что тут уж художники бывают не так уверены в себе, подолгу совещаются с товарищами и знатоками, благодаря этому им удается создать поистине драгоценные, достойные остаться навечно работы.
Выслушав все это, Вильгельм не преминул осведомиться, что еще здесь преподается, и в ответ ему признались, что это поэзия, причем поэзия эпическая.
Но наш друг не мог не удивиться, когда к этому присовокупили, что ученикам не дозволяют читать про себя или во всеуслышание готовые поэмы древних и новых стихотворцев, а только лаконически излагают мифы, предания и легенды. И по тому, как воплощают их в картине или в стихах, удается очень быстро распознать творческую способность ученика, посвятившего свой талант одному из двух искусств. И поэты и художники трудятся у одного источника, каждый старается отвести из него воду в свою сторону, к своей выгоде, чтобы сообразно потребности достичь своей цели; и это удается лучше, чем если бы стали заново перерабатывать однажды обработанное.
Путешественник сам имел случай увидеть, как все происходит. Несколько художников, собравшись в одной комнате, занимались своим делом, а жизнерадостный молодой человек весьма подробно излагал им какую-то простую историю, и для того, чтобы повествование выглядело законченным и завершенным, ему понадобилось не меньше слов, чем им – ударов кисти.
Вильгельма заверили, что, работая рядом, сотоварищи очень мило беседуют и благодаря этому появилось немало импровизаторов, умевших вызвать общий восторг двояким воплощением одного сюжета.
Наш друг снова стал расспрашивать об изобразительных искусствах.
– Если у вас нет выставок, – говорил он, – то нет и работ на премию?
– В прямом смысле слова нет, – отвечал собеседник, – но здесь неподалеку я могу показать вам то, что считается у нас более полезным.
Они вошли в просторную залу, удачно освещенную сверху, где прежде всего заметили работающих художников, а посреди их широкого круга – благоприятнейшим образом установленную колоссальную группу. Могучие мужские и женские фигуры в напряженных позах воскрешали воспоминания о той прекрасной битве между юными героями и амазонками, когда вражда и ненависть разрешались во взаимное дружелюбие. Несмотря на удивительное переплетение тел, скульптура одинаково хорошо смотрелась с любой точки. Вокруг нее широким кольцом сидели и стояли художники, занимаясь каждый своим делом: живописцы – с мольбертами, рисовальщики – с чертежными досками, одни лепили в полный объем, другие – барельефом, даже зодчие делали наброски постамента, на который можно было бы впредь поставить такое произведение. Каждый участник воспроизводил по-своему: живописцы и рисовальщики разворачивали группу на плоскости, стараясь при этом не только ее не разрушить, но и по возможности сохранить расположение фигур. Так же действовали и лепщики барельефов. Только один повторил всю группу в уменьшенных размерах, и казалось, что он воистину превзошел модель в изображении некоторых жестов и в пропорциях.
Выяснилось, что это и есть создатель модели, который перед тем, как перевести ее в мрамор, подверг ее здесь не обсуждению, а практической проверке и мог точно заметить и при вторичном обдумывании использовать себе впрок все, что каждый из его сотрудников увидел, сохранил или изменил в ней соответственно своим взглядам и образу мысли, – таким образом, воздвигнутое наконец в мраморе высокое творение, хотя оно задумано, разработано и выполнено одним человеком, по видимости будет принадлежать всем.
И в этой зале царила полная тишина, но надзиратель поднял голос и крикнул:
– А ну, кто возьмется в виду этого неподвижного творения найти точные слова и подстегнуть ими наше воображение, чтобы увиденное нами неподвижным вновь ожило и затрепетало, не потеряв своего характера, и мы убедились бы, что схваченное художником и есть самое достойное?
Все стали выкликать одно имя, и красивый юноша, оставив работу, вышел на середину и начал неторопливое повествование, в котором, казалось, всего лишь описывал стоящую перед ним скульптуру; но потом он смело бросился в область поэзии в истинном смысле, нырнул в самую гущу действия и на диво удачно подчинил себе эту стихию; сила его описания, благодаря величавой декламации, возрастала и возрастала, пока не стало казаться, будто неподвижная группа движется вокруг своей оси, а число фигур на ней удваивается и утраивается. Вильгельм стоял завороженный и в конце воскликнул:
– Как тут удержаться и не запеть, если настоящая ритмическая песня просится сама собой!
– Это я бы предпочел запретить, – отозвался надзиратель, – ибо если наш превосходный ваятель будет откровенен, он признается, что наш поэт был ему в тягость – по той причине, что искусства их наиболее далеки друг от друга. И наоборот, я готов побиться об заклад, что кое-кто из живописцев позаимствовал у него не одну живую черту.
И все-таки я хочу, чтобы наш друг послушал ту задушевную песню, которую вы поете так истово и красиво. В ней поется обо всей целокупности искусств, и мне самому, когда я ее слушаю, она служит к назиданию.
После недолгой паузы, во время которой собравшиеся переговаривались кивками и знаками, со всех сторон грянули возвышающую сердце и дух песню:
Чтоб творить, в уединенье,
О художник, уходи!
Довершить свое творенье
В круг других людей иди!
Только там найдешь познанье
Жизни собственной своей.
Многих лет воспоминанья
Оживут в кругу друзей.
Размышленье, созерцанье,
Сотни лиц, их жизнь и связь,—
Все в могучее созданье,
Все ты вложишь, вдохновясь!
Мыслью, силой вдохновенья,
Формы дивной красотой
Мир приводит в изумленье
Дар художника святой.
Как в природе бесконечной
Бог единый нам открыт,
Так в искусстве с силой вечной
Вечно мысль одна царит:
Это истина святая,
Что, в союзе с красотой,
К солнцу, глаз не прикрывая,
Взор возводит светлый свой.
Как оратору дар прозы,
Рифмы дар тебе, поэт,—
Розы жизни, юной розы
Живописцу нужен цвет,
Пусть стоит она, сверкая
Несравненной красотой,
Мысль о жизни возбуждая
Свежей прелестью живой!
Форм красою упивайся,
Созидай их без конца,
Человеком восхищайся:
Он – подобие Творца,
Долг велит соединиться
Всем, жрецы искусства, вам:
Дружно к небу пусть курится
Ваш союзный фимиам [3]3
Перевод Н. Холодковского.
[Закрыть].
Все это Вильгельм, пожалуй, готов был признать, хотя оно и представлялось ему парадоксальным и, не убедись он воочию, даже невозможным. Но после того, как вся прекрасная череда была показана и растолкована ему вольно и без утайки, гостю уже не нужно было задавать вопросы, чтобы узнать остальное; и все же он не удержался и обратился к провожатому с такой речью:
– Я вижу, здесь разумно предусмотрено все, чего следует желать в жизни; но поведайте мне еще одно: в каком округе можно видеть такое же попечение о поэзии драматической и где я мог бы получить об этом сведения. Я осматривал у вас одно здание за другим и не обнаружил ни единого, которое было бы предназначено для этой цели.
– На ваш вопрос отвечу откровенно, что по всей нашей провинции вы ничего подобного не найдете; ведь драма предполагает наличие праздной толпы, может быть даже черни, а у нас ее нет, ибо сброд этот если сам не уходит от нас из недовольства, то выпроваживается за наши пределы силою. Не сомневайтесь, при том что наше заведение универсально, мы хорошо обдумали этот важный пункт, но никак нельзя было подыскать ни одного округа, всюду возникали серьезные опасения. Кто из наших воспитанников мог бы с легкостью решиться на то, чтобы поддельным весельем и притворным горем будить у толпы неискреннее, не оправданное минутой чувство и тем доставлять ей иногда сомнительное удовольствие? Мы признали такое фиглярство слишком опасным и несовместимым с серьезностью наших целей.
– Но ведь говорят, – отозвался Вильгельм, – что это почти всеобъемлющее искусство способствует успехам всех остальных.
– Это неверно, – возразили ему, – оно пользуется ими, но при этом губит их. Я не виню актера, когда он сходится с живописцем, но в его обществе живописец гибнет.
Актер без зазрения совести использует для своих мимолетных целей – и с немалым барышом – все то, что преподносят ему искусство и жизнь; а вот живописец, который хотел бы извлечь прибыль из театрального искусства, всегда останется в накладе, и то же самое музыкант. Все искусства представляются мне детьми одного семейства, где почти все братья и сестры склонны к рачительному хозяйствованию и только один по легкомыслию хотел бы присвоить и промотать достояние братьев и сестер. Я имею в виду театр; происхождение его сомнительно, а отречься от него он не может – ни как искусство и ремесло, ни как забава любителей.
Вильгельм потупился с глубоким вздохом, ибо вся радость и все горе, пережитые им на подмостках и подле них, воскресли в его памяти, и благословил смиренномудрых мужей за то, что они сумели избавить воспитанников от такой муки и по непреложному убеждению изгнали из их круга такого рода опасность.
Однако провожатый не дал ему времени углубиться в эти размышления и продолжал:
– Но поскольку среди основных правил для нас превыше и непреложней других одно: не преграждать пути никакому таланту, никаким задаткам, – мы не закрываем глаз на то, что у кого-нибудь из множества учеников может решительным образом проявиться и природное мимическое дарование; оно обнаруживает себя в неодолимой охоте подражать чужому нраву, обличью, осанке, манере говорить. Мы этого не поощряем, но пристально наблюдаем за таким учеником, и если он остается верен своей природе, то мы, состоя в связи с крупными театрами всех стран, немедля посылаем к ним доказавшего свои способности юношу, чтобы он, как утка, выпущенная в пруд, поскорей оказался бы в своей будущей стихии и обучился ковылять по подмосткам и крякать.
Вильгельм слушал все это терпеливо, но до конца не соглашался и даже немного досадовал, – ибо такова странность человеческих чувств: можно быть убежденным в никчемности прежде любимого предмета, отвернуться от него и даже проклясть его, но не терпеть, чтобы и другие относились к нему так же, и, быть может, никогда дух противоречия, живущий в каждом, не проявляется живее и настойчивее, нежели в этом случае.
Ведь и сам издатель настоящих заметок должен признаться, что лишь скрепя сердце пропускает в печать этот странный пассаж. Разве и он не отдал театру, трудясь в нем на многих поприщах, более, чем следовало бы, времени и сил? И неужто можно убедить его, будто он непростительно заблуждался, старался понапрасну?
Но у нас нет времени предаваться воспоминаниям и запоздалой досаде: сейчас наш друг радостно изумлен тем, что вновь видит рядом одного из Троих, причем наиболее ему приятного, чья ласковая предупредительность – признак ненарушимого душевного покоя – ободряла всех вокруг. Наш странник доверчиво приблизился к нему, чувствуя, что ему ответят таким же доверием.
Он узнал, что Главный находится при святынях и там наставляет, вразумляет и благословляет, а Трое тем временем разделились, чтобы посетить все области и повсюду, глубоко во все вникнув и переговорив с подчиненными им надзирателями, способствовать дальнейшему развитию введенного ранее и создавать основы для учреждаемого вновь, тем самым неукоснительно исполняя свой высокий долг.
Благодаря этому замечательному человеку Вильгельм получил возможность шире обозреть внутреннее состояние и внешние связи провинции, а также ясно понять, как влияют друг на друга различные округа и как ученик в свой срок, раньше или позже, переводится из одного округа в другой. Все вновь узнанное вполне согласовалось с услышанным ранее. Вдобавок и то, как описали ему нрав сына, было весьма приятно Вильгельму и он не мог не одобрить целиком тот план, по которому предполагалось направлять развитие мальчика.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯПосле этого надзиратель с помощником пригласили Вильгельма на имеющий состояться вскоре праздник горнорабочих. Не без труда начали они подъем в горы. Вильгельму показалось, будто его провожатый к вечеру зашагал медленнее, как будто темнота не должна была вскоре еще больше задержать их восхождение. Но когда ночь совсем сгустилась вокруг, загадка разрешилась: Вильгельм увидел колеблющиеся огоньки, которые замерцали из всех долин и ущелий, а потом, вытянувшись в цепочки, стали переваливать через хребты. Явление это выглядело куда более мирно, чем извержение вулкана, чей искрометный грохот грозит гибелью целым областям, однако сияние становилось все ярче и шире, огоньки, сошедшись теснее, полились звездной рекой, сиявшей тихо и ласково, но смело затоплявшей всю окрестность.
Спутник Вильгельма, потешившись некоторое время изумлением гостя, – ибо их лица и фигуры, как и дорога под ними, были ясно видны при дальнем свете огней, – заговорил так:
– Конечно, то, что вы видите, – зрелище необычайное: Эти светильники, которые круглый год горят и трудятся под землей день и ночь, помогая добывать почти недоступные земные сокровища, сейчас хлынули наружу из своих пропастей и весело освещают ночь под открытым небом. Вряд ли где можно увидеть такой радующий сердце парад, когда во всей полноте предстает взору всегда скрытая от него, порознь совершаемая под землей полезнейшая работа и показывает, какое множество людей она тайно объединяет.
За такими разговорами и рассуждениями добрались они до места, где огненные ручьи вливались в огненное озеро вокруг ярко освещенного острова. Странник встал в ослепительный круг, где тысячи мерцающих светильников многозначительным контрастом выделялись на фоне темной стены пришедших с ними людей. Тотчас же раздалась веселая музыка, зазвучало искусное пение. Полые изнутри глыбы скал, раздвинутые механизмами, открыли взгляду восхищенных зрителей залитые светом недра. Мимическое представление сопровождалось всем прочим, что может в такой миг доставить радость множеству людей, и не только раззадорить, но и удовлетворить их веселый интерес.
Каково же было удивление нашего друга, когда он, будучи представлен начальникам, увидал среди них в строгом торжественном одеянье своего друга Ярно!
– Недаром, – воскликнул тот, – я сменил свое прежнее имя на другое, полное смысла имя Монтан: вот ты и застаешь меня здесь, посвященного в служители этих гор и ущелий и живущего в тесных границах на земле и под землей более счастливо, чем я сам мог подумать.
– Теперь, верно, – отозвался Вильгельм, – при твоем опыте и знаниях ты не так скупишься делиться ими и обучать других, как тогда, среди скал и утесов.
– Ничуть не бывало, – возразил Монтан. – Горы – немые наставники и делают своих учеников молчаливыми.
После празднества уселись за столы и начался пир. Все гости, званые и незваные, были товарищами по ремеслу, поэтому и за столом, куда сели Монтан с другом, завязалась подходящая к месту беседа: подробно говорили о горах, о рудных залежах и жилах, о жильных породах и о здешних металлах. Потом пустились рассуждать об общих предметах, речь пошла не больше не меньше как о создании и возникновении мира; тут уж разговор недолго оставался мирным, гости схватились в горячем споре.
Многие утверждали, что своим обликом земля обязана покрывавшим ее, но постепенно схлынувшим водам, и упоминали как аргумент в свою пользу остатки обитавших в море организмов, находимые и на самых высоких вершинах, и на пологих холмах. Другие, вопреки им, со страстью раскаляли и расплавляли все и вся и приписывали всю власть огню, который, наделав довольно дел на поверхности, скрылся в глубину, но продолжал свою работу через посредство неистово свирепствующих в море и на суше вулканов, а именно: последовательными извержениями и наслоениями лавы создавал самые высокие горы; несогласным всячески внушали, что без огня ничего нельзя раскалить, а деятельный огонь предполагает наличие очага. Хотя на взгляд все сказанное отлично согласовалось с опытом, многие этим не удовлетворились, но утверждали так: мощные, вполне сложившиеся в лоне земли формации, выталкиваемые вверх неодолимыми эластическими силами, прорывали земную кору, дробя ее, а осколки разлетались в этой буре не только на близкое, но и на дальнее расстояние; при этом ссылались на многие явления, которые без такой предпосылки нельзя было бы объяснить.
Четвертая, не столь многочисленная, партия посмеивалась над этими напрасными стараниями и клятвенно заверяла: на земной поверхности мало что удается объяснить, пока не согласишься, что большие и малые хребты упали из атмосферы и покрыли огромные пространства суши. Они ссылались на глыбы камня, какие находят разбросанными по земле во многих странах и собирают, считая их упавшими с неба.
Наконец, двое-трое гостей потише призывали на помощь века́ жестокого холода; они видели внутренним взором, как с высочайших хребтов по спустившимся глубоко в долину ледникам, словно по готовым санным дорогам, тяжелые глыбы камня скользят все дальше и дальше. Когда же наступила пора оттаивания, они опустились на чужую почву и навеки остались лежать в ней. А благодаря плавучим льдинам становилась возможной переправа гигантских валунов прямо с севера. Но этим добрым людям не удавалось пробить дорогу своей чересчур студеной теории. Несравненно более естественной казалась мысль, что мир создавался, обрушиваясь и вздымаясь с невероятным грохотом и огненными извержениями. А так как жару поддавало еще и крепкое вино, то великолепное празднество чуть было не закончилось смертоубийственной потасовкой.
В голове у нашего друга все перепуталось, а на душе стало тоскливо: ведь он издавна тихо лелеял в мыслях образ духа, носившегося над водами, и картину потопа, когда влага стояла на пятнадцать локтей выше высочайших гор, а от этих странных речей благоупорядоченный мир – обитель растительной и животной жизни – в его воображении рушился в хаос.
На следующее утро он не преминул расспросить об этом премудрого Монтана, воскликнув:
– Вчера я не мог понять тебя. Среди всех этих странных речей я надеялся услышать наконец твое решающее суждение, а ты вместо этого примыкал то к одной, то к другой стороне и старался подкрепить мнение всякого, кто в тот миг говорил. Но теперь скажи мне без шуток, что ты об этом думаешь и что знаешь.
На это Монтан ответил:
– Я знаю столько же, сколько они, а думать об этих вещах не желаю.
– Но ведь тут столько противоречивых мнений, – отозвался Вильгельм, – а говорят, что истина всегда посредине.
– Ничуть не бывало, – возразил Монтан, – посредине по-прежнему находится проблема, быть может, не поддающаяся исследованию, а может быть, и разрешимая, если за нее взяться.
Такого рода препирательство продолжалось еще некоторое время, потом Монтан сказал доверительно:
– Ты сердишься, что я помогал каждому отстаивать свое мнение, но ведь еще один довод можно найти в пользу любого из них; этим я действительно еще больше запутал дело, но не могу же я принимать его всерьез, когда вокруг такой народ. Я совершенно убежден, что самое дорогое – то есть наши убеждения – каждый должен таить в себе, истово и глубоко: пусть он знает про себя то, что знает, и держит свое знание в тайне, ибо стоит ему высказаться, как тут же поднимает голову противоречие, а ввязавшись в спор, он теряет внутреннее равновесие, и лучшее в нем терпит урон, если не гибнет вовсе.
Побуждаемый возражениями Вильгельма, Монтан высказался еще яснее:
– Мы разговорчивы до тех пор, пока не знаем, что главное.
– А что же главное? – поспешно спросил Вильгельм.
– Это сказать нетрудно, – отвечал Монтан. – Думать и делать, делать и думать – вот итог всей мудрости: это искони признано, искони исполняется, но постигается не всяким. И то и другое в течение всей нашей жизни должно вершиться непременно, как вдох и выдох, и, как вопрос без ответа, одно не должно быть без другого. Кто ставит себе законом то, что шепчет на ухо каждому новорожденному его гений – человеческий разум: испытывай мысль делом, а дело мыслью, – тот не собьется с пути, а если и собьется, быстро отыщет верную дорогу.
Монтан водил своего друга по всему горному участку, подведомственному ему; их всюду приветствовали задорным возгласом «Удачи вам!» – на который они так же весело отвечали.
– Иногда мне хочется, – сказал Монтан, – крикнуть им: «Разума вам!» Ведь разум выше удачи; впрочем, толпа всегда достаточно разумна, коль скоро наделены разумом начальники. Поскольку я призван сюда не столько приказывать, сколько советовать, я стараюсь изучить свойства здешних гор. Здесь рьяно стремятся добыть залегающие в них металлы. Я постарался выяснить, где они могут залегать, и мне это удалось. Дело тут не в одной удаче: разум призвал ее и направил. Как возник этот хребет, я не знаю и знать не хочу, но стараюсь ежедневно выпытать у него какое-нибудь из его свойств. Все падки до свинца и серебра, которые скрыты в его недрах, я умею их обнаруживать; способ я таю про себя, но даю возможность найти желанное. По моим указаниям начинают пробные разработки, они удаются, и все говорят, что я удачлив. Что я понимаю, то понимаю про себя, а что мне удается, то удается для других, и никто не предполагает, что на этом пути и его бы ждала удача. Они подозревают, что у меня есть рудознатская лоза, но не замечают, как противоречат всякому моему разумному утверждению и тем отрезают себе дорогу к древу познания, с которого и надобно ломать эти пророческие ветки.
Разговор этот ободрил Вильгельма, ибо он убедился, что и ему доселе во всех делах и мыслях, пусть и посвященных совсем другому ремеслу, удалось в самом главном стать вровень с требованиями друга; поэтому он отчитался в том, на что употребил свое время с тех пор, как получил послабление и мог распределять срок возложенного на него странствия не по часам и дням, а соответственно истинной его цели – довершить свое развитие.
Случай сделал так, что долгих речей для этого не понадобилось, ибо тяжкое происшествие дало нашему другу возможность умно и удачно применить свой новоприобретенный талант и доказать свою истинную полезность человеческому обществу.
Какого рода было это происшествие, мы покамест не можем открыть, хотя читатель получит об этом сведения еще прежде, чем отложит этот том в сторону.