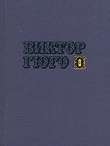Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)
Иоганн Вольфганг Гете
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Том восьмой
ГОДЫ СТРАНСТВИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА,
ИЛИ ОТРЕКАЮЩИЕСЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

Бегство в Египет
Вильгельм сидел под сенью могучей скалы, в том примечательном месте, где обрывистая дорога резко поворачивала и шла под уклон. Солнце стояло еще высоко и озаряло верхушки сосен в теснинах у ног путника. Едва он занес что-то в записную книжку, как Феликс, карабкавшийся вверх и вниз по крутизне, подошел к нему, протягивая в руке камень.
– Как этот камень называется? – спросил мальчик.
– Не знаю, – ответил отец.
– А что в нем так блестит, – верно, золото?
– Это не золото; помнится мне, люди зовут его «кошачьим золотом».
– Кошачье золото! – со смехом отозвался мальчик. – А почему кошачье?
– Потому, как видно, что оно фальшивое, а кошки тоже считаются животными фальшивыми.
– Надо это запомнить, – сказал сын, сунул камень в кожаную дорожную сумку и тотчас извлек из нее еще что-то. – А это что такое? – спросил он.
– Какой-то плод, – отвечал отец, – судя по этим чешуйкам, сродни еловым шишкам.
– Совсем и не похоже на шишку! Ведь эта штука круглая.
– Спросим у лесника; они знают весь лес и все шишки и ягоды, знают, как сеять, как сажать деревья, они умеют ждать, дают стволам вытянуться и набрать росту.
– Лесники все знают; вчера только наш проводник показал мне, где олень перешел дорогу. Он позвал меня назад, чтобы я посмотрел «натопы» – так он назвал след. Сам я пробежал было мимо, а тут увидел, как ясно отпечаталось раздвоенное копыто; олень, наверно, был крупный.
– Я слышал, как ты расспрашивал проводника.
– Он хотя и не лесник, но знал очень много. А я хочу стать лесником. Ведь как это хорошо: весь день быть в лесу, слушать птиц, знать, как их называют, и где их гнезда, и как добыть из гнезд яйца и птенцов, и какой нужен корм, и когда ловить взрослых птиц. Вот это радость!
Едва это было сказано, как выше них на крутой дороге показалось нечто не совсем обычное. Сверху вприпрыжку бежали друг за другом двое мальчиков, красивых, как ясный день, в ярких курточках, больше похожих на подпоясанные рубашки. Вильгельму удалось подробней рассмотреть их, когда они, прервав бег, на мгновенье застыли перед ним. С головы старшего ниспадали обильные белокурые пряди, их-то прежде всего и замечал взгляд, только потом его привлекали и голубые глаза, и весь облик, прелестью которого можно было любоваться без конца. Второго мальчика скорей можно было принять за его товарища, нежели за брата: волосы его, темные и прямые, опускались по плечам, и казалось, будто отблеск их отражается в его глазах.
Однако Вильгельм не успел внимательней рассмотреть эти существа, так странно и неожиданно появившиеся в столь дикой местности, потому что мгновенье спустя он услышал из-за скалы, скрывавшей поворот дороги, мужской голос, крикнувший строго, но не сердито:
– Что вы там встали? Не загораживайте нам путь!
Вильгельм взглянул наверх, – и если встреча с детьми немало удивила его, то зрелище, представшее сейчас его взору, повергло его в совершеннейшее изумление. Молодой мужчина, крепкий и ладно сложенный, хотя и невысокого роста, черноволосый и загорелый, в подпоясанной легкой одежде, твердо и вместе осторожно шагал вниз по скалистой дороге, ведя в поводу осла; сперва показалась раскормленная и чистая морда, а потом и прекрасный груз, который осел нес на крестце. В широком, красиво обитом седле ехала тихая миловидная женщина, окутанная голубым плащом, под ним она прижимала к груди новорожденного младенца и глядела на него с несказанной нежностью. Тот, кто вел осла, при виде Вильгельма на мгновение замер на месте, точь-в-точь как мальчики, животное замедлило шаг, но спуск был слишком крут, шествие не могло остановиться, и Вильгельм с изумлением провожал его глазами, пока оно не скрылось за отвесной скалой.
Столь редкостное зрелище, разумеется, оторвало Вильгельма от размышлений. Он поднялся с места и стал с любопытством глядеть вниз – не появятся ли опять необычайные путники. Когда он уже собрался было спуститься и поздороваться с ними, снизу подошел Феликс и сказал отцу:
– Можно мне пойти к этим мальчикам? Они хотят взять меня к себе домой. И ты тоже пойди – так мне сказал тот человек. Идем, они ждут внизу.
– Я хочу с ними поговорить, – отвечал Вильгельм.
Он нашел их на дороге, там, где она шла не так круто, и опять залюбовался дивной картиной, столь привлекавшей его. Только теперь мог он заметить некоторые особые их черты: так, молодой силач нес на плече топор-тесак и длинный, гибкий стальной наугольник, дети держали в руках вязки тростника, словно то были вайи; но если этим они напоминали ангелов, то корзиночки со съестным у них за спиной делали их похожими на обыкновенных проводников, что день за днем снуют туда и сюда через горы. Присмотревшись поближе, наш друг заметил, что у матери под синим плащом было красное, неяркого цвета платье, и поэтому поневоле изумился, обнаружив перед собою во плоти то самое бегство в Египет, которое столько раз видал на картинах.
Мужчины поклонились друг другу, и меж тем как Вильгельм, пристально созерцавший молодого прохожего, от изумления не мог вымолвить ни слова, тот произнес:
– Наши дети подружились в один миг, так не угодно ли и вам пойти с нами? Посмотрим, быть может, и между взрослыми завяжутся добрые отношения.
Вильгельм, подумав немного, отвечал:
– Ваше семейное шествие одним своим видом внушает доверие и приязнь и, признаться откровенно, также любопытство и желание узнать вас поближе. Ведь в первый миг хочется задать себе вопрос, истинные ли вы путники или же духи, которые тешатся, оживляя приятными видениями эти неприветливые горы.
– Так пойдемте в наше жилище! – сказал прохожий.
– Пойдемте с нами! – закричали дети, увлекая за собой Феликса.
– Пойдемте с нами! – сказала и женщина, и взгляд ее, оторвавшись от младенца, излил ту же нежную приязнь на незнакомца.
Но Вильгельм без колебаний ответил:
– Мне очень жаль, но я не могу сей же час последовать за вами. Хотя бы нынешнюю ночь мне придется провести в доме на перевале. Мой чемодан, мои бумаги – все осталось наверху, не уложенное и без присмотра. А чтобы доказать мою добрую волю принять ваше любезное приглашение, я отдаю вам в заложники Феликса. Завтра же буду у вас. Далеко к вам идти?
– Мы попадем к себе еще до заката, – ответил плотник, – а от дома на перевале ходу не больше полутора часов. На эту ночь членом нашей семьи станет ваш мальчик, а завтра мы ждем и вас.
Мужчина и ослик тронулись с места. Вильгельму любо было видеть Феликса в такой компании, он сравнивал сына с обоими ангелочками, от которых тот так сильно отличался. Для своих лет Феликс был не слишком высок, но кряжист, широк в груди и крепок в плечах; в его натуре странно смешались потребности повелевать и служить; он уже завладел пальмовой ветвью и корзинкой, в чем, по всей видимости, и обнаружились обе эти склонности.
Шествие должно было вот-вот вновь скрыться за отвесной скалой, когда Вильгельм, спохватившись, крикнул вслед:
– Как мне вас спросить?
– Спросите Святого Иосифа, – послышалось снизу, и сидение исчезло за синею стеной тени. Издали донесся, постепенно затихая, благочестивый многоголосный хорал, и Вильгельму почудилось, будто он различает голос Феликса.
Поднимаясь все время в гору, он отсрочил миг солнечного заката. Небесное светило, которое он не раз терял из виду, вновь заливало его лучами, едва он поднимался выше, и до своего пристанища Вильгельм добрался еще засветло. Еще раз полюбовавшись широким видом окрестных гор, он удалился затем к себе в комнату, где немедля взялся за перо, и часть ночи провел в писании письма.
Вильгельм – Наталии
Вот наконец и достиг я вершины – той вершины хребта, что отныне разделит нас более неодолимой преградой, чем доселе вся ширь равнин. Для моего чувства любимые остаются рядом до тех пор, пока потоки стремятся от нас в их сторону. Сегодня я еще могу вообразить себе, что если я брошу ветку в лесной ручей, она, может статься, доплывет до нееи всего лишь через несколько дней прибьется к берегу в ее саду; и точно так же дух наш легче посылает вниз по склону образы, а сердце – чувства. А по ту сторону гор, я боюсь, и воображение и чувство встретят перед собою глухую стену. Но, быть может, тревога преждевременна, и там, за горами, все будет так же, как здесь. Что может встать преградой между мною и тобой – тобой, кому я принадлежу навечно, хотя странная судьба и разлучает нас, нежданно замыкая передо мною двери близкого рая? У меня было время решиться, и все же мне не хватило бы и более долгого времени, чтобы набраться решимости, если бы в тот роковой миг я не почерпнул ее в твоих устах, на твоих губах. Как бы я мог оторваться от тебя, если бы уже не была спрядена та прочная нить, которая должна связать нас на годы, навеки? Я не желаю преступать твои кроткие заповеди: здесь, на этой вершине, я произнесу перед тобой слово «разлука» в последний раз. Моя жизнь должна стать странствием. В этом странствии я должен буду исполнять необычные обязанности и пройти совсем особые испытания. Порой я улыбаюсь, перечитывая условия, которые предписало мне Общество, которые я предписал себе сам. Многие из них я выполняю, многие нарушаю; но при каждом нарушении этот листок – свидетельство моей последней исповеди и последнего отпущения – заменяет мне наказы совести, и я возвращаюсь на праведный путь. Я стал осмотрителен, и мои проступки уже не набегают друг на друга, как бурливые воды горного потока.
Но сознаюсь тебе, что нередко дивлюсь тем учителям и наставникам людских душ, которые возлагают на своих учеников одни лишь внешние, механические обязанности. Этим они только облегчают жизнь и себе и всем. Ведь как раз ту часть моих обязательств, которая сначала представлялась мне самой обременительной и непонятной, я выполняю с наибольшей легкостью и охотой.
Я не имею права оставаться под одним кровом долее, чем на три дня. Я должен, покинув свое пристанище, удалиться от него не меньше, чем на милю. Эти запреты поистине созданы затем, чтобы превратить годы моей жизни в годы странствий и оградить мою душу от малейшего соблазна оседлости. Этим условиям я подчинялся до сей поры неукоснительно и даже ни разу не воспользовался дозволенным мне сроком. Здесь я впервые сделал привал, впервые сплю третью ночь в одной постели. Отсюда я шлю тебе многое из того, что успел услышать, увидеть, накопить, а ранним утром двинусь вниз по противоположному склону, сперва к одному необычайному семейству, мне бы даже хотелось сказать, святому семейству, – в моем дневнике ты найдешь о нем побольше. А теперь прощай и, откладывая этот листок, постигни сердцем, что он должен сказать тебе только одно, и только одно хотел бы говорить и повторять, но не желает ни говорить, ни повторять до тех пор, пока я вновь не обрету счастья пасть к твоим ногам и плакать обо всех моих лишениях, обливая твои руки слезами.
Наутро
Все уложено. Проводник приторачивает чемодан на крюки. Солнце еще не взошло, туман клубится, вздымаясь, словно пар, изо всех ущелий, но наверху небо ясно. Мы спускаемся в мрачные глубины, но скоро и там у нас над головой прояснится. Позволь, чтобы последний взгляд, обращенный в твою сторону, увлажнился невольной слезой! Я решителен и тверд. Больше ты не услышишь от меня жалоб; ты услышишь лишь о том, что встретилось страннику в пути. И все же, пока я собираюсь кончить письмо, в душе теснятся тысячи помыслов, желаний, надежд и намерений. По счастью, меня уже гонят прочь. Проводник зовет, а хозяин гостиницы прибирается прямо в моем присутствии, как будто меня уже нет, – совсем как те бесчувственные, опрометчивые наследники, которые, не стесняясь присутствием умирающего, открыто готовятся вступить во владение его добром.
ГЛАВА ВТОРАЯСвятой Иосиф Второй
Уже наш странник, спускаясь по пятам за проводником, оставил позади и выше крутые скалы, уже пересекали они не столь суровую срединную полосу склона и спорым шагом шли через ухоженные леса и приветливые луга, все вперед и вперед, пока не очутились наконец у косогора и не заглянули с него вниз, в тщательно возделанную долину, замкнутую в кольцо холмов. Прежде всего внимание Вильгельма привлек обширный монастырь, частью сохранившийся, частью лежавший в развалинах.
– Это и есть святой Иосиф, – сказал проводник. – Жалко такой красивой церкви! Смотрите, вон там, среди кустов и деревьев, виднеются ее колонны и столпы, целехонькие, хоть сама она уже много веков, как рухнула.
– А братские кельи, я вижу, целы и невредимы, – отозвался Вильгельм.
– Да, – сказал его спутник, – здесь-то и живет управляющий, который смотрит за хозяйством и взимает подать и десятину, которой обложено много сел вокруг.
За такою беседой они вошли в отворенные ворота на просторный двор, окруженный почтенного вида строеньями, совсем неповрежденными. Тут перед ними предстала мирная картина: Вильгельм увидел своего Феликса вместе с давешними ангелами, они собрались вокруг какой-то дюжей женщины, перед которой стояла корзина, и покупали вишни, – хотя настоящим покупщиком был один Феликс, у которого всегда водилось при себе немного денег. Тотчас же сделавшись из гостя хозяином, он стал щедро оделять приятелей ягодой; даже и отцу приятно было подкрепиться ею среди здешних мшистых, бесплодных лесов, где яркие блестящие вишни выглядели еще красивей. Желая выставить приемлемой цену, которая покупателям показалась чересчур высокой, торговка объяснила, что носит ягоду сюда, наверх, издалека, из большого сада. Дети сказали Вильгельму, что отец скоро вернется, а он тем временем пусть пойдет в залу немного отдохнуть.
До чего же удивился Вильгельм, когда дети отвели его в помещение, именуемое «залой». Прямо со двора они вошли в широкие двери – и наш странник очутился в очень чистой и ничуть не поврежденной часовне, которая, однако, как он обнаружил, была приспособлена для повседневных надобностей домашней жизни. По одну сторону стоял стол с креслом и несколько стульев и лавок, по другую были красивой резьбы полки и на них – пестро расписанная глиняная посуда, стеклянные кувшины и стаканы. Еще там были сундуки и лари, и хотя в зале царил порядок, все в ней оживлялось прелестью повседневных домашних забот. Свет падал в часовню сбоку из высоких окон. Но более всего заняли внимание странника писанные красками по стене картины, которые шли под окнами, но довольно высоко и, словно ковры, украшая три стороны часовни, спускались вплоть до деревянной обшивки, покрывавшей низ стены до полу. Картины изображали житие святого Иосифа. Здесь представал он взгляду, занятый плотничьей работой; там он встречал Марию, из земли между ними росла лилия, а сверху на них поглядывали реющие ангелы. Здесь было его обручение, там – благовещенье. Тут он сидит в расстройстве, оставив начатую работу, бросив топор, и помышляет оставить жену. Но там во сне ему является ангел, и все в нем переменяется. С благоговением взирает он на новорожденного младенца в вифлеемском хлеву и молится ему. Затем следует особенно прекрасная картина. На ней видно множество обтесанных брусьев; скоро должны их сложить в сруб, и случайно два бруса составили крест. Младенец уснул на кресте, мать, присев рядом, с сердечной любовью на него взирает, приемный отец прерывает работу, чтобы не разбудить его. Сразу после этой картины изображено бегство в Египет. На губах засмотревшегося странника оно вызвало улыбку, потому что здесь, на стене, он увидел точное повторение вчерашней живой картины.
Вильгельму не дали долго предаваться созерцанию, в залу вошел хозяин, которого он тотчас узнал: то был давешний вожатый святого каравана. После искренних приветствий завязался разговор обо многих предметах, но внимание гостя было занято росписями. Хозяин заметил его интерес и начал с улыбкой:
– Вас, конечно, удивляет соответствие между этой постройкой и ее обитателями, с которыми вы вчера познакомились. Соответствие это даже более странно, чем можно вообразить: ведь именно постройка создала своих обитателей такими. Ибо если безжизненное живо, оно может произвести на свет нечто живое.
– О да, – отвечал Вильгельм, – мне было бы странно, если бы дух, с такою мощью действовавший в этих пустынных горах много веков назад, столь могуче воплотившийся в этих постройках, угодьях, правах и за то распространявший в округе всяческое просвещение, – мне было бы странно, если бы он даже среди нынешних развалин не явил бы на живом существе своей животворящей силы. Но оставим общие рассуждения; лучше поведайте мне вашу историю, дабы я узнал из нее, как вы сумели, не впадая в кощунственную игру, повторить образы прошлого так, что давно минувшее воротилось снова.
Вильгельм ожидал от хозяина все объясняющего ответа, когда приветливый голос во дворе выкликнул имя Иосиф. Хозяин, услышав, пошел к дверям.
«Значит, его и зовут Иосиф! – сказал Вильгельм про себя. – Само по себе это достаточно странно, но еще более странно то, что он и в жизни являет образ своего святого».
Он выглянул в дверь и увидел, что с мужем разговаривает вчерашняя Матерь Божья. Потом они разошлись, и жена направилась к стоявшему напротив жилищу.
– Мария, – крикнул вслед ей муж, – послушай-ка еще!
«Значит, ее и зовут Мария! – подумал Вильгельм. – Еще немного, и я почувствую, что перенесся на восемнадцать столетий назад». Тут он представил себе суровую замкнутую долину, где находился сейчас, развалины и тишину и вдруг настроился на какой-то старинный лад. Но в эту минуту вошел хозяин с детьми; мальчики пригласили Вильгельма прогуляться с ними, покуда отец управится с делами. Путь их шел через руины многоколонной церкви, чьи высокие щипцы и стены, казалось, стали лишь крепче от ветров и ненастий, хотя по верху толстых стен давно уже пустили корни могучие деревья, которые вместе с травами, цветами и мхами составили целый сад, дерзко повисший в воздухе. Мягкие луговые тропинки вели вверх, к веселому ручью, и теперь наш странник мог с высоты обозреть монастырь и его окрестность с тем большим интересом, что его обитатели казались ему все примечательнее, а гармония между ними и их окружением пробуждала в нем живейшее любопытство.
Когда они воротились, стол в благочестивой зале был уже накрыт. Кресло во главе его заняла хозяйка. Подле нее стояла высокая плетеная люлька, где лежал младенец; отец сел от нее по левую, Вильгельм по правую руку. Дети расположились в конце стола. Старая служанка подала отлично приготовленные кушанья. Тарелки, кружки, вся посуда тоже напоминали о стародавних временах. Начали с разговора о детях; Вильгельм смотрел на святую мать семейства и не мог налюбоваться ее красотой и осанкой.
После обеда собравшиеся разбрелись, хозяин отвел гостя в тенистый уголок среди руин, откуда можно было с приятностью обозревать всю ширь долины и видеть, одну дальше другой, гряды менее высоких гор с их плодородными склонами и лесистыми гребнями.
– Настало время, – сказал хозяин, – удовлетворить ваше любопытство, тем более что вы – я это чувствую – способны серьезно отнестись даже к людским причудам, если смысл их серьезен. Святая обитель, остатки которой вы видите, была воздвигнута во имя святого семейства, она исстари прославилась многими чудесами и стала местом паломничества. Церковь во имя матери и младенца разрушилась уже много веков назад. Сохранилась часовня святого Иосифа – приемного отца Христова – и еще частично жилые постройки. Доходы с давних пор перешли к владетелю-мирянину, который держит здесь управляющего. Я и есть этот управляющий, сын прежнего управляющего, который тоже был преемником своего отца на этой должности.
Хотя всякое богослужение прекратилось здесь много лет назад, святой Иосиф оказывал так много благодеяний нашему семейству, что нет ничего странного, если мы были особенно ему преданны. Так и вышло, что меня окрестили Иосифом и тем отчасти определили мою жизнь. Подросши, я охотно помогал отцу в сборе податей, но с еще большей охотой пособлял матери, которая с радостью раздавала, что могла, и была известна и любима по всем горам за свою доброту и благодеяния. Она посылала меня то отнести, то передать, то устроить что-нибудь, и я скоро освоился с этим богоугодным ремеслом.
Вообще жизнь в горах человечнее, чем жизнь на равнине. Здешние обитатели ближе друг другу и, если угодно, дальше; потребности их не столь велики, но более настоятельны. Человек больше предоставлен сам себе и поневоле научается полагаться на свои руки и ноги. Он и работник, и проводник, и носильщик – все в одном лице; каждый здесь ближе к другому, люди чаще встречаются и живут сообща, занятые одними заботами.
Когда я был еще мал и не мог много таскать на плечах, мне пришло в голову завести ослика с вьючными корзинами и гонять его вверх и вниз по отвесным тропам. Осел в горах вовсе не такое презренное животное, как на равнине, где батрак, если у него в плуг впряжены лошади, величается перед другим, который перепахивает поле на волах. И совсем уж без стеснения стал я ходить вслед за осликом, когда еще ребенком увидал в часовне, что этому животному выпала честь везти на своем хребте бога и пресвятую матерь его. Впрочем, тогда часовня была не в том виде, что в нынешнее время. Ее превратили в кладовую, даже в сарай. Вся она была загромождена поленьями, жердями, сельскими орудиями, бочками, лестницами и еще чем попало. К счастью, росписи там высоко, а обшивка на стенах довольно прочна. Но для меня уже в детстве величайшим удовольствием было карабкаться по всем поленницам и рассматривать картины, которые никто не мог мне толком объяснить. Я знал только, что крещен в честь святого, чье житие нарисовано наверху, и любил его так, словно он мой родной дядя. Я подрастал, и так как особое условие обязывало всякого, кто притязал на доходное место управляющего, владеть каким-нибудь ремеслом, то и я должен был по воле родителей, желавших передать мне в наследство выгодное владение, обучиться ремеслу, и притом непременно полезному в хозяйстве здесь, на горах.
Мой отец был бочар и один на всю округу выполнял всю потребную по этой части работу, отчего и он и все получали немалую выгоду. Но я не мог решиться стать и в этом его преемником. Неодолимо влекло меня к плотничьему ремеслу, все орудия которого я с малых лет видел тщательно изображенными рядом с моим святым. Я объявил о своем желании; родители ничего против не имели, тем более что для всяческих построек у нас частенько требуются плотники, а у кого руки ловки и есть любовь к более тонкой работе, тому, особенно в лесистой местности, недолго стать столяром и резчиком. Но особенно укрепляла меня в таких высоких стремлениях одна картина, – сейчас она, к сожалению, почти совсем стерлась, но, зная, что на ней представлено, вы сможете ее разобрать, когда я вас к ней подведу. Святому Иосифу заказали ни больше ни меньше, как трон для царя Ирода. Роскошный престол следует воздвигнуть между двух заранее указанных колонн. Иосиф тщательно измеряет ширину и высоту и делает драгоценный трон. Но как удивлен он, как смущен, когда, доставив престол на место, обнаруживает, что тот слишком велик в высоту и мал в ширину. С царем Иродом, как известно, были шутки плохи, и благочестивый плотник оказался в большом затруднении. Младенец Христос, привыкший повсюду сопровождать его и в смиренной детской игре носить за ним орудия, замечает беду и желает немедля помочь словом и делом. Чудесное дитя требует, чтобы приемный отец взялся за трон с одной стороны, само берется с другой, и оба начинают тянуть. Легко и просто, будто кожаный, резной трон растягивается в ширину, соответственно убавляется в высоте и отлично устанавливается на место, к великому утешению успокоенного мастера и к полному удовольствию царя.
В мои детские годы этот трон был еще хорошо виден, да и вы по остаткам одной его стороны заметите, что резьбы для него не пожалели; ведь живописцу она далась легче, чем далась бы плотнику, если бы от него такой работы потребовали.
Но никаких опасений это мне не внушало, наоборот, ремесло, которому я посвятил себя, виделось мне особенно почтенным, и я не мог дождаться, когда же наконец отдадут меня в учение. Исполнить это было нетрудно: по соседству от нас жил мастер, который работал на всю округу, так что мог занять в деле многих учеников и подмастерьев. Поэтому я остался при родителях и жил по-прежнему, – в том смысле, что отдавал часы и дни досуга благотворительным поездкам, которые мать поручала мне, как и раньше.
Посещение Елизаветы Марией
– Так прошло несколько лет, – продолжал свой рассказ хозяин. – Я быстро постиг все преимущества моего ремесла, тело у меня развилось от работы, так что мне было по силам все, чего она требовала. Вдобавок я по-прежнему служил моей добросердечной матушке, или, вернее, больным и нуждающимся: ходил с осликом по горам, раздавал, кому следовало, его поклажу, а обратно привозил от купцов и разносчиков все, чего не было у нас в горах.
Мною были довольны и мастер и родители. Странствуя по округе, я с радостью видел там и сям дома, которые возводил вместе с другими или украшал. Потому что обтесывать балки по концам и вырезывать на них незамысловатые фигуры, выжигать узоры и закрашивать алым углубления, словом, делать всю ту искусную работу, благодаря которой деревянные домики в горах выглядят так весело, поручалось чаще всего мне: с этим я справлялся лучше остальных, постоянно имея в памяти трон Ирода и его украшения.
Из числа нуждающихся в помощи под особой опекой матушки были молодые женщины, ожидавшие потомства; я сам постепенно приметил это, потому что в таких случаях смысл посольства держали от меня в тайне. Прямых поручений я тогда не получал, дело велось через повивальную бабку, которая жила неподалеку, ниже по склону, и звалась госпожою Елизаветой. Моя мать, и сама сведущая в том искусстве, которое многим спасало жизнь при самом вступлении в жизнь, всегда была с госпожою Елизаветой в добром согласии, и мне частенько приходилось слышать, что многие наши дюжие горцы обязаны жизнью этим двум женщинам. Таинственный вид, с каким всякий раз принимала меня Елизавета, краткость ее ответов на мои загадочные, непонятные мне самому вопросы заставляли меня почти что благоговеть перед ней, а ее дом, всегда чисто прибранный, казался мне чем-то вроде маленького святилища.
Постепенно, благодаря моим познаниям и моему ремеслу, я приобрел в семье некоторое влияние. Как отец, будучи бочаром, обеспечивал наш погреб, так на моем попеченье было теперь наше жилище: я, где мог, исправлял поврежденные части старого строения. Особенно успешно удалось мне вновь приспособить для домашних нужд обветшалые амбары и саран; а как только это было сделано, так я тотчас же принялся освобождать от скарба и чистить мою любимую часовню. За несколько дней я навел порядок, и она стала почти такой же, какой вы ее видели. При этом, заменяя сорванные или поврежденные доски обшивки новыми, я старался в точности подогнать их под старые. И створки входных дверей вы наверняка приняли за старинные, – а они моей работы. Много лет пошло у меня на то, чтобы украшать их резьбою в часы досуга, после того как я сбил их из хорошо пригнанных дубовых плах. Что из росписей к тому времени не было повреждено и не стерлось, то сохранилось и по сей день, а я помог стекольщику строить новый дом с тем, чтобы он вставил в окна цветные стекла.
Если и раньше картины в часовне и мысли о житии моего святого немало занимали мое воображение, то особенно сильно запечатлелись они в моей душе теперь, когда я мог снова смотреть на эту залу как на святилище, проводить в ней, особенно летом, немало времени и на досуге думать о том, что я видел или о чем догадывался. Я испытывал неодолимую склонность во всем следовать святому Иосифу, но, так как вряд ли можно было надеяться, чтобы повторились сходные обстоятельства, я решил начать путь уподобления ему с вещей более обыденных, – что я и сделал уже тогда, когда приспособил под груз ослика. Я считал, что низкорослая скотинка, служившая мне до тех пор, больше мне не подходит, и отыскал себе более статную, раздобыл самой лучшей работы седло, одинаково удобное и для езды, и под вьюки. Припас я и пару новых корзин, а шею осла украшала сетка из разноцветных шнурков, с помпонами и кисточками, с позвякивающей металлической бахромой, так что скоро моей длинноухой твари не стыдно было бы показаться рядом со своим образцом на стене. Никому не приходило в голову насмехаться надо мною, когда я ехал таким образом по горам: ведь в каком бы причудливом обличье ни явилось благодеяние, люди охотно ему это прощают.
Между тем и до наших мест добралась война, или, вернее сказать, ее последствия: стали собираться банды всякого сброда, которые то там, то тут буянили и чинили насилья. Правда, местное ополчение у нас действует хорошо: разъезжая по округе, оно своей мгновенной бдительностью разогнало эту напасть, но слишком скоро все снова впали в беспечность, и не успел никто опомниться, как злодейства повторились снова.
В наших местах долгое время было тихо, и я спокойно странствовал с моим осликом по знакомым тропам, пока однажды не очутился на только что засеянной лесной прогалине и не увидал у обводной канавы сидящую или, вернее, лежащую женщину. Она то ли спала, то ли потеряла сознание. Я стал над ней хлопотать; едва лишь она открыла прекрасные глаза и выпрямилась, как тотчас воскликнула с живостью: «Где он? Вы не видели его?» – «Кого?» – спросил я. Она отвечала: «Моего мужа». При том, как молодо она выглядела, ее ответ был для меня неожидан; но тем охотнее продолжал я о ней заботиться и уверять ее в своем участии. От нее я узнал, что оба они, находясь в пути, из-за трудности дороги отошли от повозки, чтобы пройти короткой тропой. Неподалеку отсюда на них напали вооруженные люди, ее муж, обороняясь, отступал все дальше, она не могла за ним поспеть и осталась здесь, а долго ли пролежала, она сказать не могла. Женщина настойчиво меня просила, чтобы я ее оставил и поспешил к мужу. Она встала на ноги, и я увидел, как она мила и хороша собой, но при этом мне нетрудно было заметить, что ей в самом скором времени может понадобиться помощь моей матери и госпожи Елизаветы. Сначала мы немного поспорили: я настаивал, что сперва должен отнести ее в безопасное место, а она настаивала, чтобы я принес ей вести о муже. Она не хотела уходить прочь и терять его след, и все мои доводы остались бы, верно, напрасны, если бы на ту пору через лес не проскакал разъезд наших ополченцев, которых известия о новых злодеяньях заставили взяться за дело. Им было сообщено обо всем, обговорено все необходимое, назначено место встречи, и на первый случай дело оказалось улажено. Я поскорей спрятал корзины в ближней пещерке, которая и прежде не раз служила мне тайным хранилищем, приспособил седло так, чтобы на нем удобней было сидеть, и со странным волнением поднял прекрасную ношу на хребет моего послушного ослика, который сам тотчас же нашел привычную тропу, так что я получил возможность идти рядом.