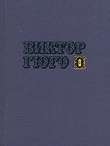Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
– Ну, а вы-то, – улыбнулся майор, – вы поддерживаете молодость если и не колдовством, то каким-нибудь тайным средством или, по крайней мере, одним из тех неназываемых снадобий, что так расхваливают в газетах: вам на опыте удалось выбрать из них наилучшее.
– Не знаю, шутишь ты или нет, – ответил ему друг, – но попал ты в самую точку. Среди множества питательных вещей, испробованных для поддержания нашей внешности, куда менее стойкой, чем наша внутренняя сущность, есть неоценимые средства, и простые и составные; об одних я узнал от товарищей по искусству, о других мне сообщили за деньги или случайно, третьи я сам нашел по опыту. При них я и остаюсь, хотя не отказываюсь от дальнейших изысканий. Вот что я могу сказать тебе, не преувеличивая: туалетный ящичек всегда и во что бы то ни стало находится при мне, и я бы с удовольствием испробовал на тебе действие этого ящичка, если бы мы могли пробыть вместе хоть две недели.
Мысль о такой возможности, которая к тому же случайно представилась ему в самый нужный момент, до того обрадовала майора, что он уже от одного этого посвежел и ободрился на вид, а надежда привести наконец лицо и волосы в соответствие с сердцем и беспокойство по поводу скорого знакомства с потребными для этого средствами так оживили и взволновали его, что за обедом он казался другим человеком, без смущения принимал все милые знаки внимания, оказываемые ему Гиларией, и глядел на нее с уверенностью, которой еще нынче поутру у него не было.
Однако театральный приятель майора, который своими воспоминаниями, рассказами и удачными шутками умел поддержать и даже усилить его хорошее настроение, вскоре поверг его в замешательство угрозой сразу же после обеда покинуть дом и продолжать путешествие. Майор изо всех сил добивался, чтобы приятель пробыл у него хотя бы еще одну ночь, и обещал наутро не только дать лошадей, но и выслать подставу. Одним словом, целительный ящичек не должен был исчезнуть до того, как станет известно и его содержимое, и применение оного.
Майор отлично видел, что терять времени нельзя, и постарался сразу же после обеда переговорить со старым своим любимцем с глазу на глаз. Правда, ему не хватило духу прямо приступать к делу, и он начал издалека, с того, что, возвращаясь к давешнему разговору, стал уверять, будто с охотой начал бы заботиться о своей наружности больше, если бы люди не провозглашали каждого, в ком заметят такое стремление, тщеславием и если бы их уважение к его нравственной сути не убывало настолько же, насколько возрастет в них невольное восхищение его внешним благообразием.
– Оставь эти выражения и не серди меня! – отвечал ему приятель. – Ведь такие речи повторяются в обществе по привычке, без смысла и толку, а если взглянуть строже, то в них выражается злобность и недоброжелательность людской натуры. Разберись как следует, что чаще всего предают анафеме как пустое тщеславие. Человек должен нравиться сам себе, и счастлив тот, кто этого достиг. А достигши, как может он не обнаружить этого приятного чувства? Как можно жить и прятать в себе радость жизни? Если бы еще в хорошем обществе, – а речь у нас о нем, – осуждали только чрезмерные изъявления этой радости, когда один довольный собой человек, радуясь, мешает другим делать то же и свою радость выказывать, то тут нечего было бы возразить, и я полагаю, что осуждение вообще началось из-за такой чрезмерности. Но к чему с таким своенравным упорством противиться неизбежному? Почему не счесть приемлемым и терпимым изъявление такого чувства, если время от времени каждый его себе позволяет? и если без него само общество не могло бы существовать? Ведь любой, когда он приятен сам себе и чувствует потребность, чтобы это его ощущение разделили другие, становится приятным в обществе, а кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным. Дай-то бог, чтобы все люди были тщеславны, но тщеславны разумно, с должным чувством меры, – тогда не было бы никого счастливее нас, живущих в цивилизованном мире! Про женщин говорят, что они тщеславны по природе, но ведь это их и украшает, этим они и нравятся нам еще больше. Как может образоваться молодой человек, если он не тщеславен? Пустой и никчемный по натуре сумеет приобрести хотя бы внешний лоск, а дельный человек быстро переходит от внешнего совершенствования к внутреннему. Что до меня, то я имею основание почитать себя счастливейшим из смертных еще и потому, что мое ремесло дает мне право быть тщеславным, и чем я буду тщеславнее, тем больше удовольствия доставлю людям. Что на других навлечет хулу, то мне заслужит похвалу, и на этом именно пути я обрел счастливое право развлекать и увлекать зрителей, будучи в таком возрасте, когда другие или поневоле уходят с подмостков, или, себе на позор, медлят с них сойти.
Майору было не слишком приятно выслушать это рассуждение до конца. Произнесенное им словечко «тщеславие» должно было лишь дать повод половчее сообщить приятелю о своем желании, а теперь он опасался, что продолжение разговора уведет его еще дальше от цели, и потому поспешил перейти прямо к делу.
– Что до меня, – сказал он, – то я не прочь был бы присягнуть твоему знамени, коль скоро ты считаешь, что это не слишком поздно и упущенное можно наверстать. Удели мне немного от твоих микстур, помад и бальзамов, – и я сделаю попытку.
– Эта наука труднее, чем ты думаешь, – сказал приятель. – Ведь дело тут не только в том, чтобы отлить тебе понемногу из каждой склянки или оставить половину лучших смесей, что есть в моем ящичке, самое трудное – правильно применять их. Устный урок нельзя усвоить сразу; на что годится то или другое, при каких обстоятельствах и в каком порядке надо употреблять зелья, – без упражнения и размышления этого не поймешь, да и от них мало пользы, если у тебя нет врожденного таланта к тому, о чем мы говорим.
– По-моему, ты идешь на попятный, – отозвался майор. – Зачем тебе все эти сложности, если не для того, чтобы обезопасить твои баснословные утверждения? Ты просто не хочешь дать мне случай и возможность проверить твои слова на деле.
– Сколько бы ты надо мной ни подтрунивал, мой милый, – отвечал приятель, – тебе бы не заставить меня согласиться на твою просьбу, не будь я с самого начала расположен сделать по-твоему и не предложи я этого сам. К тому же подумай, мой милый, какое удовольствие для человека – вербовать себе прозелитов, добиваться, чтобы и в других обнаружилось все то, что он ценит в себе самом, чтобы и они находили вкус в том же, в чем он, и видеть в них свое подобие. Право, если это и род эгоизма, то самый отменный и почтенный, он сделал нас людьми и позволяет нам оставаться людьми. Ради него – помимо моей привязанности к тебе – я и возымел охоту взять тебя в ученики и посвятить в искусство омоложения. Но от мастера нельзя ожидать, чтобы он заведомо готовил пачкуна, поэтому я теряюсь и не знаю, как нам взяться за дело. Я уже сказал, что одних только снадобий да устных наставлений мало, – в общих словах пользоваться ими не научишь. Но ради тебя и ради удовольствия распространить мое учение я готов на любую жертву. Поэтому я и предлагаю тебе самую большую, какая сейчас возможна: я оставлю здесь у тебя моего лакея. Он у меня вроде прислуги за все, и хотя не каждое зелье умеет сам приготовлять и не во всякий секрет посвящен, однако дело знает неплохо и на первых порах будет тебе весьма полезен, пока ты сам во все не вникнешь и я не смогу открыть тебе тайны высшего искусства.
– Как, – воскликнул майор, – и в искусстве омоложения есть чины и степени? Есть тайны для особо посвященных?
– Конечно, – отвечал наставник, – ведь плохо то искусство, которое можно постичь на лету, чьи последние тайны видны с порога.
Мешкать больше не стали, лакей был откомандирован к майору, который обещал хорошо его содержать, баронессе пришлось выдать для неведомых ей целей коробочки, банки и склянки. Раздел был произведен, веселая и остроумная беседа зашла за ночь. При позднем восходе луны гость удалился, пообещав в скором времени воротиться.
Майор ушел к себе в комнату изрядно усталым. Поднялся он рано, целый день не давал себе роздыха и сейчас не чаял добраться до постели. Но вместо одного слуги его встретили двое. Старик-стремянный по заведенному обычаю наспех раздел его; но тут выступил новый камердинер и объявил, что ночью самое время пустить в ход омолаживающие и прихорашивающие снадобья: они во время спокойного сна подействуют всего вернее. И майору пришлось покорно терпеть, пока в волосы ему втирали одну мазь, в кожу лица – другую, по бровям водили кисточкой, а по губам – помадой. И помимо того потребовались разные церемонии; даже ночной колпак требовалось надевать не сразу, а на какую-то сетку или тонкую кожаную камилавку.
Майор улегся в постель с неприятным ощущением, которое, однако, не успело определиться, так как скоро он заснул. Но если уж заглядывать ему в душу, то надо сказать, что ощущал он себя не то больным, не то набальзамированной мумией. Впрочем, сладостный образ Гиларии вкупе с отрадными надеждами помог ему скоро погрузиться в живительный сон.
Наутро в должное время стремянный был уже на месте. Одежда барина была в обычном порядке разложена по стульям, и майор совсем было собрался встать с постели, как вошел новый камердинер и заявил решительный протест против такой поспешности. Если хочешь, чтобы принятые меры были успешны, а труды и хлопоты доставили радость, то следует полежать спокойно и не торопиться. Затем майор услышал, что встать он должен будет лишь спустя некоторое время, позавтракать легко, а вслед принять ванну, которая уже приготовлена. Распорядок этот нельзя было нарушать, пришлось следовать ему неукоснительно, и несколько часов было потрачено на все эти процедуры.
Майор сократил отдых после ванны и намерен был поскорее одеться, так как по природе был спор во всем, а сверх того хотел пораньше встретиться с Гиларией; но путь ему сейчас же преградил новый слуга и дал понять, что привычку быстро со всем расправляться надобно позабыть, а делать дело не спеша, в свое удовольствие, особливо же время одевания рассматривать как час приятной беседы с самим собой.
Образ действий камердинера полностью согласовался с его речами. Зато майор, когда встал перед зеркалом и увидел, как его вычистили и вырядили, счел себя одетым лучше, чем всегда. Камердинер без спроса перешил его мундир по современной моде, потратив на эту метаморфозу всю ночь. Столь быстрое и явное омоложение настроило майора на самый веселый лад, он чувствовал себя посвежевшим и душевно и телесно и с нетерпением поспешил навстречу родным.
Сестру он застал перед родословным древом, которое она приказала повесить на стену, после того как вчера у них зашла речь о дальних родственниках, которые, частью оставшись холостыми, частью проживая в отдаленных краях, частью вообще пропав из виду, сулили брату и сестре либо их детям надежду на богатое наследство. Некоторое время они разговаривали о том же предмете, избегая упоминать лишь об одном: что до сих пор все заботы и труды в семействе предпринимались только ради детей. Конечно, склонность Гиларии вела к перемене такого взгляда, но сейчас ни майор, ни сестра его не желали думать о последствиях.
Баронесса удалилась, майор остался стоять в одиночестве перед лаконическим изображением семейства. Гилария подошла и, по-детски прильнув к нему, стала рассматривать таблицу и спрашивать, обо всех ли он знает и кто еще может быть жив.
Майор начал свой рассказ с самых старших, о которых у него осталось только смутное детское воспоминание, потом продолжил его описанием характера отцов и рассуждением о сходстве или несходстве с ними детей, причем заметил, что дед часто повторяется во внуке, и кстати заговорил о влиянии женщин, которые, через замужество переходя в другое семейство, часто меняют характер целых родов. Многих предков и дальних родственников он похвалил за их достоинства, но не умолчал и об их заблуждениях. Молчанием обошел он лишь тех, кого следовало стыдиться. Наконец майор добрался до нижних рядов таблицы, где находился он сам с братом – обер-маршалом и с сестрою, а еще ниже – его сын рядом с Гиларией.
– Ну, эти двое смотрят прямо друг на друга, – сказал майор и не добавил, что же он имел в виду.
Гилария, помолчав, робко ответила почти что шепотом:
– Но, по-моему, нельзя осудить и того, кто взглянет выше! – При этом она поглядела на майора снизу вверх такими глазами, что в них легко было прочесть ее склонность.
– Правильно ли я тебя понял? – спросил майор, оборачиваясь к ней.
– Я не скажу вам ничего, – отвечала она с улыбкой, – о чем бы вы сами не знали.
– Ты делаешь меня счастливейшим из людей во всей подлунной! – вскричал майор и упал к ее ногам. – Хочешь быть моею?
– Ради бога, встаньте! Я твоя навеки.
Тут вошла баронесса и, хотя не была ошеломлена, замерла на месте.
– Если случилось несчастье, – сказал майор, – то вина твоя, сестрица! А счастьем мы навеки обязаны тебе.
Баронесса с юных лет так любила брата, что отдавала ему предпочтение перед всеми мужчинами, и, быть может, сама склонность Гиларии если и не произошла от материнского пристрастия, то, во всяком случае, им укреплялась. Теперь всех троих связали воедино одна любовь, одно блаженство, и дальнейшие часы протекли для них в полном счастии. Но в конце концов им пришлось снова обратить взгляд на окружающий мир, а он редко пребывает в гармонии с такими чувствами.
Вспомнили о сыне майора. Гилария предназначалась ему в жены, и он отлично об этом знал. По заключении сделки с обер-маршалом майор должен был отправиться к сыну в гарнизон, обо всем с ним договориться и счастливо покончить дело. А теперь неожиданное событие перевернуло все вверх дном, отношения, которые раньше слаживались так дружелюбно, теперь грозили стать враждебными, и трудно было предугадать, какой оборот примут события и каково будет настроение духа в семье.
Между тем майору предстояло решиться и нанести сыну визит, о котором тот уже был извещен. После долгих промедлении майор нехотя пустился в дорогу, полный странных предчувствий, горюя, что пришлось хотя бы ненадолго покинуть Гиларию. Стремянный и лошади были оставлены у сестры, а майор в сопровождении камердинера, без чьих омолаживающих услуг он уже не мог обойтись, поехал в город, где стоял сын.
Отец и сын сердечно поздоровались и обнялись после долгой разлуки. Хотя обоим предстояло многое поведать друг другу, они не сразу высказали, что у них на сердце. Сын распространялся о надеждах на скорое повышение в чине, отец, в свою очередь, дал ему подробный отчет о переговорах между старшими членами семьи и о решениях насчет владений в целом и каждого поместья в отдельности.
Разговор начал было понемногу иссякать, когда сын собрался с духом и, улыбаясь, сказал отцу:
– Я благодарен вам, батюшка, за вашу деликатность: вы рассказываете мне о семейных владениях и состоянии, но не упоминаете об условии, под которым они должны, хотя бы частью, достаться мне: вы не произнесли имени Гиларии, вы ждете, пока я сам его назову и скажу, как мне не терпится поскорее соединиться с этим милым ребенком.
Майора такая речь привела в великое замешательство; но так как он, отчасти по природе, отчасти по привычке, склонен был раньше вызнавать мысли тех, с кем имел дело, то и сейчас он промолчал и только глядел на сына с загадочной улыбкой.
– Вы ни за что не угадаете, батюшка, что я вам собираюсь поведать, – продолжал поручик, – а я хочу все высказать и покончить дело раз навсегда. Я могу положиться на вашу доброту, которая во всем меня опекает и, без сомнения, имеет в виду мое истинное счастье. Раз уж это должно быть сказано, пусть будет сказано сейчас же: Гилария не может сделать меня счастливым. О ней я вспоминаю как о милой кузине, дружбу с которой хотел бы сохранить на всю жизнь; но другая пробудила во мне страсть и приковала мои чувства! Это влечение неодолимо, и вы не захотите сделать меня несчастным.
Майор с трудом скрыл радость, готовую выразиться у него на лице, и мягко, но серьезно осведомился, кто же та особа, которой удалось целиком завладеть его сердцем.
– Вы должны увидеть ее, батюшка, ибо описать ее так же невозможно, как и понять. Я только боюсь, что и вы увлечетесь ею, как все, кто к ней приближается. Боже мой, я уже сейчас чувствую ревность, видя в вас соперника собственного сына!
– Кто же она? – спросил майор. – Коль скоро ты не способен описать ее, так расскажи хоть о ее внешних обстоятельствах: их-то легче изобразить словами!
– Разумеется, батюшка, – отвечал сын, – хотя и эти внешние обстоятельства у другой были бы другими и по-другому подействовали бы на нее. Она – молодая вдова, наследница недавно скончавшегося мужа, старого богача; она независима и достойна быть независимой, вокруг нее множество людей, множество влюбленных и домогающихся ее руки, но, если я не обманываюсь, сердцем она преданна мне.
Так как отец молчал и не выказывал неудовольствия, сын почувствовал себя вольно и стал расписывать отношение к нему прекрасной вдовицы, превознося ее прелесть и похваляясь каждым знаком ее благосклонности, в которых отец, однако, мог усмотреть лишь мимолетные любезности привыкшей ко всеобщим домогательствам женщины, когда она, хотя и отдает известное предпочтение одному из многих, все же не решила окончательно в его пользу. При других обстоятельствах майор не преминул бы обратить внимание не только сына, но и приятеля на самообман, который скорей всего имел здесь место, однако сейчас ему самому слишком хотелось, чтобы сын не ошибался, чтобы вдова действительно его любила и приняла благоприятное для него решение, поэтому у отца либо и впрямь не возникло никаких опасений, либо же он отогнал сомнение, а может быть, и просто не высказал его. Помолчав немного, он начал так:
– Ты ставишь меня в большое затруднение. Договоренность между мною и остальными членами семейства основана на условии, что ты женишься на Гиларии. Выйди она замуж за чужого, все усилия, призванные искусно соединить в одно немалые богатства, окажутся напрасны, и ты больше всех рискуешь остаться в убытке. Правда, есть одно средство, но выглядит оно довольно странно, да и ты немного от этого выиграешь: я должен был бы на старости лет взять Гиларию в жены, что, по-моему, не доставило бы тебе особой радости.
– Нет, великую радость! – вскричал поручик. – Кто же, испытывая сердечную склонность, наслаждаясь или надеясь насладиться счастьем любви, не пожелает этого наивысшего счастья всем друзьям, всем, кто ему дорог! Вы, батюшка, совсем не стары, а Гилария так прелестна! Сама мимолетная мысль просить руки Гиларии свидетельствует о том, что вы молоды душой и бодры сердцем. Давайте поразмыслим и обдумаем это предложение, что так внезапно пришло вам в голову! Я буду по-настоящему счастлив, только зная, что и вы счастливы; я буду по-настоящему рад, только видя, что за вашу предусмотрительную заботу о моей судьбе вы сами получили такую прекрасную награду. Только теперь я смело, с полным довернем и открытым сердцем поведу вас к моей красавице. Вы одобрите мои чувства, ибо сами способны на такие же: вы не преградите сыну дорогу к счастью, ибо сами идете навстречу счастью.
Хотя майор и собирался высказать немалые сомнения, сын, настойчиво твердя свое, не дал ему вставить ни слова и поспешил с ним к прекрасной вдовице, которую они застали в ее просторном, изысканно убранном жилище за веселой беседой с немногочисленными, но избранными гостями. Вдова была из тех женщин, от чар которых не уходит ни один мужчина. С небывалым искусством она сумела сделать майора героем нынешнего вечера. Казалось, из всех собравшихся один майор у нее в гостях, а остальные – только члены ее семейства. Она была неплохо осведомлена о его делах, но умела так расспрашивать о них, словно ей хотелось все узнать непременно от него самого, и поэтому каждый из присутствующих принужден был выказать интерес к новоприбывшему. Один знал его брата, другой – его владения, третий – еще что-нибудь, так что все время майор чувствовал себя средоточием оживленного разговора. К тому же он сидел ближе всех к красавице; ее взгляд был устремлен к нему, ее улыбка предназначалась ему; одним словом, он чувствовал себя до того вольно, что почти позабыл о причине своего прихода. К тому же она ни словом не обмолвилась о его сыне, хотя молодой человек живо участвовал в беседе; казалось, что он, как и все прочие, нынче находится здесь только ради майора.
Рукоделье, которым дамы занимаются и среди гостей, продолжая его как будто бы машинально, у женщины умной и привлекательной может сказать о многом. Работая усердно и непринужденно, красотка делает вид, будто ей нет дела до окружающих, чем возбуждает в них молчаливое неудовольствие. Потом она словно пробуждается, и какое-нибудь слово, взгляд возвращают собравшимся отсутствующую как новую желанную гостью; а уж если она опустит работу на колени, выказывая сугубое внимание к рассказу или назидательному рассуждению, в которые так охотно пускаются мужчины, то удостоенный такой милости чувствует себя польщенным сверх меры.
Таким именно образом и наша прекрасная вдовушка занималась вышиванием бювара, пышно, но со вкусом украшенного и к тому же отличавшегося большими размерами. Бювар этот, став предметом обсуждения собравшихся, был взят у ней из рук ближайшим соседом и, пущенный по кругу, стяжал немалые похвалы, меж тем как сама мастерица была занята серьезной беседой с майором. Старый друг дома преувеличенно расхвалил почти готовую работу, когда же она дошла до майора, вдова, казалось, хотела отвлечь его от такой не заслуживающей внимания мелочи, но он, напротив того, сумел наилюбезнейшим образом воздать должное достоинствам бювара, между тем как друг дома усматривал в работе вдовицы медленность Пенелопина тканья.
Гости стали расхаживать по комнатам, объединяясь в случайные кружки. Поручик подошел к красавице и спросил:
– Что вы скажете об отце?
Она отвечала с улыбкой:
– Мне сдается, вы могли бы брать с него пример. Поглядите, как он одет! И держится он едва ли не лучше, чем его сынок! – Так она расхваливала и превозносила отца в ущерб сыну, вызвав в сердце юноши смешанное чувство удовлетворения и ревности.
Спустя недолгое время сын подошел к отцу и во всех подробностях пересказал ему разговор. Это еще более расположило отца ко вдовице, а она, оживленно с ним беседуя, перешла на совсем уж доверительный тон. Короче, майор к моменту прощания стал, можно сказать, таким же ее присным, как и все прочие в кружке.
Неожиданный ливень помешал гостям воротиться домой, как они пришли. Явившиеся пешком уселись по нескольку человек в проезжавшие мимо экипажи, и поручик под тем предлогом, что в них и так тесно, отправил отца, а сам остался.
Майор, как только вошел в свою комнату, почувствовал такую неуверенность в себе, что голова у него пошла кругом, как это бывает с людьми, резко переходящими из одного состояния в противоположное. Земля колеблется под ногами у сошедших с судна, свет мерцает перед глазами неожиданно вошедшего во мрак. Так и майор все еще ощущал рядом присутствие прелестной женщины. Ему хотелось видеть и слышать ее снова, видеть и слышать ее непрестанно; и по недолгом размышленье он простил сына и даже счел его счастливцем, коль скоро он вправе притязать, чтобы такие достоинства ему принадлежали.
От этих переживаний его отвлек сын, который влетел в дверь и в порыве восторга обнял отца.
– Я самый счастливый человек на свете! – вскричал он.
После еще нескольких восклицаний в том же роде они наконец объяснились. Отец заметил, что красавица в разговоре с ним ни словом не обмолвилась о сыне.
– Это обычная ее манера: деликатно молчать, о чем-то промолчать, на что-то намекнуть. Так можно узнать ее желания, но окончательно избавиться от сомнений нельзя. Она и со мной до сего дня так обращалась, но ваше присутствие, батюшка, совершило чудо. Не скрою, что я остался там, желая еще разок ее увидеть. Я застал ее расхаживающей по освещенным комнатам; мне известна эта ее привычка – не гасить свет, когда гости разойдутся. Она ходит одна по волшебным чертогам, когда отпускает духов, вызванных ее чарами. Предлог, под которым я вернулся, сошел мне с рук, заговорила она со мною приветливо, но о вещах безразличных. Двери не были затворены, и мы ходили взад и вперед по всей анфиладе комнат. Несколько раз добирались мы до крайней из них – тесного кабинета, освещенного только тусклой лампой. Как ни хороша была она, когда проходила в сиянии люстр, но в мягком свете лампы она казалась еще прекрасней. Мы снова достигли кабинета и, прежде чем повернуть обратно, на миг остановились. Не знаю сам, что заставило меня отважиться, не знаю, как я мог посметь посреди безразличного разговора вдруг схватить ее за руку, расцеловать эту нежную ручку и прижать ее к сердцу. И у меня ее не отняли. «Небесное создание, – воскликнул я, – не таись от меня больше! Если в твоем сердце есть склонность к счастливцу, что стоит сейчас перед тобой, то не скрывай ее больше, выскажись, признайся в ней! Сейчас самая пора, самое время! Прогони меня или прими в объятия!»
Не помню, как я все это вымолвил, не помню, что при этом делал. Она не отстранилась, не сопротивлялась, не отвечала. Я осмелился заключить ее в объятия и спросить, хочет ли она быть моею. Я стал неистово целовать ее, она меня оттолкнула, а сама, как будто в растерянности, повторяла: «Ну да, да», – или что-то в этом роде. Я бросился прочь, восклицая: «Я пошлю к вам отца, пусть он просит за меня!» – «Ни слова ему об этом! – отвечала она, провожая меня. – Ступайте прочь и забудьте то, что произошло».
Мы не будем распространяться о том, что думал майор. Сыну же он сказал:
– Как по-твоему, что теперь делать? Я думаю, что начало, хотя и внезапное, положено удачно и теперь мы можем приступить к делу по всей форме. Приличней всего, верно, будет мне завтра отправиться туда с визитом и за тебя попросить ее руки.
– Ради бога, не надо, батюшка! – воскликнул поручик. – Ведь это значит погубить все дело. При таких отношениях, при таком тоне формальности невозможны – они только все осложнят и расстроят. Довольно и того, батюшка, что вы, не сказав ни слова, одним своим присутствием ускорили наш союз. Да, вам я обязан счастьем! Уважение к вам устранило из сердца моей возлюбленной все колебания, и никогда сын не дожил бы до столь счастливой минуты, если бы отец не подготовил почвы.
Так беседовали они вплоть до глубокой ночи и обоюдно договорились о дальнейших планах. Майор намеревался лишь из вежливости нанести вдове прощальный визит и отправиться домой, чтобы вступить в брак с Гиларией, а сын должен был по возможности способствовать собственному скорейшему бракосочетанию.