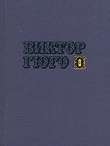Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Наступил знаменательный день – срок первого шага ко всеобщему переселению, срок, когда должно было решиться, кто отправится в широкий мир и кто останется пытать счастье здесь, на суше старого континента.
Все улицы приветливого городка оглашались бодрыми звуками песни, люди стекались плотными толпами, члены товарищества собирались по ремеслам и, распевая в унисон, входили в залу по порядку, определенному жребием.
Начальствующие – под этим словом мы разумеем Ленардо, Фридриха и управителя – уже собирались войти следом и занять положенное им место, когда нежданно подошедший человек, чей вид сразу же располагал к нему, попросил у них разрешения присутствовать на собрании. Он держал себя столь вежливо, предупредительно и дружелюбно, а его импозантная внешность, обличавшая в нем либо военного, либо придворного, во всяком случае, человека светского, производила такое приятное впечатление, что разрешенье ему было дано. Новоприбывший вошел вместе с остальными, занял предложенное ему почетное место, все уселись, кроме Ленардо, который начал такую речь:
– Друзья! Если мы окинем взглядом самые обжитые области и царства нашего материка, то увидим, что повсюду, где только попадается клочок годной для обитания почвы, она возделана, засеяна, вымерена, улучшена, на нее зарятся – и в той же мере ее обороняют и укрепляют те, кто захватил ее во владение. Это и заставляет нас верить в высочайшую ценность земельной собственности, вынуждает видеть в ней самое лучшее, что может достаться человеку. Всмотревшись глубже, мы обнаруживаем, что взаимная любовь детей и родителей, сплоченность односельчан и сограждан, вообще любое патриотическое чувство зиждется на ощущении родной почвы, и от этого присвоение земельных пространств, больших или малых, и утверждение пашей власти над ними представляется нам делом особенно важным и почетным. Да, такова воля природы! Привычка прикрепляет человека к тому клочку земли, на котором он родился, и так возникает прекраснейшая из всех связей. Кто осмелится посягнуть на эту основу земного существования, отрицать ценность и важность этого неповторимого дара небес?
И все же мы вправе сказать: как ни ценно то, чем владеет человек, но то, что он делает и создает, должно ценить еще выше. И если мы охватим взором все и вся, то владение землей окажется лишь малой частью дарованных нам благ, наибольшую же часть этих благ, и притом высших, составляет то, что именуется движимостью и приобретается как плод жизни подвижной.
Не упускать все это из виду должны более всех мы, молодые, ибо даже если бы мы унаследовали от отцов охоту жить неподвижно и оседло, все же тысячи разных обстоятельств требовали бы от нас не закрывать глаз и глядеть вдаль и вширь. Так поспешим на берег моря, чтобы воочию убедиться в безграничности просторов, открытых для пашей деятельности, и признаемся, что одна мысль о них будит в нас совсем особые чувства.
Но не будем блуждать взглядом в этой беспредельности, а пристальней устремим его на те страны, где сплошь простираются вдаль и вширь огромные пространства суши. Мы увидим, как по широким просторам бродят кочевники, чьи города подвижны и чье живое владенье и пропитанье – скот – можно гнать куда угодно. Мы увидим их на зеленеющих среди пустыни пастбищах, где они лишь встают на якорь, словно суда в желанной гавани. Движение и странствие для них – привычка и потребность, в конце концов весь мир представляется им сплошной равниной, не перегороженной горами и не пересеченной реками. Ведь мы уже видели, как северо-восток двинулся на юго-запад, один народ гнал перед собою другой, явились новые властители царств и владетели земли.
В долгом кругообороте мировой истории такое движение из перенаселенных краев произойдет еще не однажды. Трудно сказать, чего нам ждать от чужеземцев, – удивительно то, что внутри наших стран мы из-за их перенаселенности тесним друг друга и, не дожидаясь, пока нас изгонят другие, собственным приговором отправляем друг друга в изгнание.
Здесь и сейчас должны мы, позабыв недовольство и досаду, дать волю живущей в нас подвижности и не подавлять нетерпеливую охоту к перемене мест. Совершим же то, о чем мы мечтаем и что ставим себе целью, но не по принуждению и не под действием страсти, а по разумному убеждению.
Много раз говорили и твердили: «Где мне хорошо, там и родина». Но это утешительное изречение было бы еще лучше, ежели бы гласило так: «Где я принесу пользу, там и родина». Дома человек может быть бесполезен незаметно для себя и для всех, а выйдя в мир, он немедля обнаружит свою бесполезность. Если я говорю: «Пусть каждый стремится повсюду приносить пользу себе и другим», – это не назидание и не совет, это правило, установленное жизнью.
Окинем же взглядом земной шар; оставим прежде всего без внимания моря, не дадим увлечь себя снующим по ним кораблям, приглядимся к суше и подивимся муравьиному племени, что в таком множестве снует и кишит по ней. Начало этому положил сам господь бог, помешав вавилонскому столпотворению и рассеяв по свету род людской. Восславим же его за то, что это благословение перешло и на новые поколенья.
Приметим с ликующим сердцем, как все, что молодо, немедля движется в путь. Хотя никому не заповедано учиться дома или по соседству, молодежь тотчас же устремляется в те города и страны, куда кличет ее зов знания и мудрости; наскоро получив хоть какое-то образование, она чувствует неодолимую тягу шире обозреть мир, поискать, нельзя ли ради своей цели набраться там или тут полезного опыта. Что же, пусть пытает счастья! А мы сейчас помянем людей зрелых и замечательных – тех благородных естествоиспытателей, которые заведомо идут навстречу трудностям и опасностям, чтобы открыть миру мир, чтобы проложить тропы через непроходимое бездорожье.
А теперь взглянем на большие дороги: какие облака пыли вздымаются на них, отмечая путь удобных перегруженных карет, в которых катят богачи, знать и прочие особы, чьи думы и помыслы с такой тонкостью растолковал нам Йорик.
Пусть без досады смотрит им вслед бравый ремесленник, бредущий пешком: родина обязала его набраться сноровки на стороне и не возвращаться к родному очагу, покуда это ему не удастся. Но еще чаще мы встретим на дорогах купцов и торговцев; даже лавочник не преминет иногда покинуть тесноту своей лавки и отправиться на торг или ярмарку, чтобы уподобиться крупному купцу и урвать свою малую долю барыша из беспредельного оборота. Но еще беспокойней толпа тех, кто в одиночку снует верхом по большим и малым дорогам, притязая залезть к нам в кошелек даже вопреки нашей воле. Образцы всяческих товаров и перечни цен преследуют нас в городе и в деревне, и куда бы мы ни скрылись, они деловито застигают нас врасплох и предлагают такие оказии, каких никто бы не подумал искать сам. А что мне сказать о том народе, который прежде всех остальных присвоил себе благодать вечного странствования, которому деятельная подвижность помогает перехитрить живущих оседло и перегнать странствующих рядом? Мы не вправе сказать о них ни хорошего, ни дурного: хорошего – потому, что наше Общество их остерегается, дурного – потому, что странник обязан дружелюбно относиться к каждому встречному, помня, что так лучше для обоих.
Но прежде всего мы должны с чувством сердечного участия вспомнить художников, ибо и они вовлечены в мировое движение. Разве не странствует от ландшафта к ландшафту живописец, неразлучный с мольбертом и палитрой, разве не призывают его товарищей по искусству то туда, то сюда, потому что везде надобно строить и ваять? Еще легче на подъем музыкант, ибо кто, как не он, должен заново поражать все новых слушателей, волновать не знавшее таких волнений чувство. Актеры, хотя и презревшие Феспидову повозку, по-прежнему бродят маленькими хорами, в любом месте мгновенно возводя свой передвижной мирок. Они и поодиночке охотно кочуют с места на место, зачастую теряя важные и выгодные связи, побуждаемые растущими вместе с талантом потребностями. А обычной подготовкой к этому им служат выступления на всех без изъятия крупных сценах родной страны.
После них нам положено взглянуть и на ученое сословие, которое мы тоже видим в непрестанном движении: поспешая с кафедры на кафедру, оно щедро разбрасывает во все стороны семена скороспелого просвещения. Еще ревностнее и еще дальше странствуют те благочестивые души, которые направляются во все части света, дабы принести спасение язычникам. Другие, напротив, становятся странниками ради спасения собственной души; целыми толпами тянутся они к чудотворным святыням, чая воспринять там то, в чем было отказано их сердцу дома.
Если мы ничуть не удивляемся всем названным мною, ибо сама их деятельность была бы немыслима без странствий, то уж от тех, кто отдает свой усердный труд земле, мы вправе были бы ждать привязанности к ней. Ничуть не бывало! Ведь возможно и пользование без владенья, и мы видим, как ревностный земледелец покидает арендованный участок, который много лет приносил ему радость и доход, и нетерпеливо ищет – близко ли, далеко ли – равного или большего дохода. Даже и собственник покидает впервые поднятую им новь, возделав ее настолько, что она может приглянуться менее умелому хозяину, и опять вторгается в пустыню, расчищает среди дебрей участок вдвое и втрое больше прежнего, чтобы вознаградить себя за потраченный там труд, а сам, быть может, и не помышляет навсегда остаться на новом месте.
Но пусть он борется себе с медведями и прочим зверьем, – оставим его и вернемся в цивилизованные страны: мы найдем и в них не больше оседлости. Поглядим на любую обширную и благоустроенную державу: там человек, чем он способнее, тем должен быть легче на подъем; по манию государя, по распоряжению государственного совета любой, кто годен для дела, перебрасывается с места на место. И к нему тоже относится наш призыв: «Старайтесь всюду приносить пользу – и вы повсюду будете дома!» Но вот когда мы видим, как против воли покидают свои высокие посты важные чиновники, тогда у нас есть причина пожалеть их, так как мы не можем считать их ни переселенцами – потому что они лишаются завидного положения и не имеют взамен даже мнимых видов на лучшее будущее, – ни странниками – потому что редко кому из них дано принести пользу на новом месте.
К странничеству особого рода призван солдат, – даже в мирное время ему приказывают стоять то тут, то там, он должен быть всегда готов двинуться в дальний или близкий путь, чтобы сражаться за отчизну, и не только ради того, чтобы спасти ее сей миг; нет, по умыслу народов и их повелителей, он направляет шаг в любую часть света, и только немногим удается осесть где-нибудь навсегда. А поскольку из всех качеств солдата превыше всего ставится храбрость, которую полагают всегда неразрывно связанной с верностью, то мы видим, как некоторые народы, прославленные постоянством и преданностью, призываются служить телохранителями у владетельных особ, духовных и светских.
Особый разряд легких на подъем людей видим мы в тех незаменимых для каждого государства должностных лицах, которые посылаются одним двором к другому, берут в осаду государей и министров и опутывают невидимыми нитями всю вселенную. Для них тоже не бывает постоянных мест, в мирное время самых дельных из них ежеминутно посылают с одного конца света на другой, в военное они плетутся вслед за побеждающей армией, а разбитой подготавливают путь отступления, и переезд с места на место никогда не застает их врасплох, ради чего они постоянно имеют при себе запас прощальных визитных карточек.
Если и до сих пор мы на каждом шагу воздавали себе честь, объявляя своими спутниками и товарищами по судьбе деятельных людей в наибольшей и наилучшей их части, то под конец, дорогие друзья, вас ожидает высшая милость – право считаться братьями императоров, королей и прочих монархов. В начале помянем и благословим странника в сане императора – Адриана, который во главе войск прошел из края в край подвластную ему вселенную и лишь через это вступил в полное владение ею. Помянем с трепетом завоевателей, этих странников в доспехах, которым невозможно было сопротивляться, от которых ни стены, ни бастионы не могли оборонить мирные народы. Наконец, проводим полным искреннего сожаления взглядом несчастных монархов-изгнанников, которые, пав с высот прежнего величия, даже не могут быть приняты в скромный цех деятельных странников.
И вот когда мы напомним и разъясним все это друг другу, над нами станут не властны ни стесненное уныние, ни тоскливый мрак. Прошли те времена, когда в широкий мир бросались наудачу: стараниями объездивших мир ученых, мудро его описавших и живописно изобразивших, мы знакомы с каждым краем и можем примерно знать, что нас там ожидает.
Но одному человеку полная ясность недоступна. Наше товарищество затем и основано, чтобы каждый в свою меру и в соответствии со своей целью получил должные объяснения. Если кто-нибудь задумывается о стране, куда направлены его желания, то мы стараемся во всех подробностях представить ему то, что смутным целым маячило в его воображении; к тому же нельзя провести время с большей приятностью и пользой, чем давая друг другу возможность обозреть обитаемый и годный для обитания мир.
Вот в каком смысле мы и вправе считать себя включенными в некий всемирный союз. Прост и велик замысел, разум и сила делают легким его исполнение. Единенье всемогуще, потому между нами ни раскола, ни раздора. Те основные правила, что у нас есть, приняты всеми. Мы говорим: пусть человек научится в мыслях не соотносить себя постоянно с внешним миром, пусть ищет причины и следствия не в обстоятельствах, а в себе самом – там он найдет их связь и с любовью взлелеет. Он воспитает себя и приучит к мысли, что для него везде дом. Кто посвящает себя самому необходимому, тот везде самым верным путем придет к цели, между тем как другие, ищущие более высокого и тонкого, должны быть осторожны уже при выборе пути. Но за что бы человек ни взялся и ни принялся, в одиночку ему не хватит сил: жить в обществе – высшая потребность всякого, кто на что-то годен. Такие люди должны быть связаны друг с другом, – так желающий строить ищет архитектора, а тот – каменщиков и плотников.
Всем известно, как заключен и на чем зиждется наш союз; в нашем товариществе мы не видим таких, кто не мог бы во всякий миг посвятить свой труд полезной цели и не был бы уверен, что везде, куда бы ни привели его случай, сердечное влечение и даже страсть, он будет хорошо рекомендован и принят, найдет поддержку, а при каком-нибудь несчастном происшествии – также возможную помощь и лечение.
Зато мы приняли на себя два строжайших обязательства: чтить все виды богослужения, ибо все они, в большей или меньшей мере, объемлются символом веры; далее, считать одинаково законными любые формы правления и, поскольку каждое правительство требует целесообразного труда и поощряет его, работать по его воле и желанию, какой бы срок мы ни оставались под его властью. Наконец, мы считаем своей обязанностью соблюдать законы нравственности, хотя и без педантической строгости, как того требует уважение к самим себе, проистекающее из трех видов благоговейного страха, каковые мы все исповедуем, ибо все имеем счастье быть посвященными – а некоторые даже с юности – в эту высокую и всеобъемлющую мудрость. В торжественный час расставания мы должны еще раз все это обдумать, объяснить, услышать и сознать – и, наконец, запечатлеть дружеским прощальным приветом.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В землю ты не врос корнями!
В путь-дорогу! В добрый час!
Если ум и сила с нами,
Будет всюду кров для нас.
Лишь бы только солнце грело,
А о прочем нет тревог.
Мы кочуем без предела,—
Для того и мир широк!
Под звуки заключительного хора большая часть присутствующих быстро встала с мест и, построившись попарно, вышла из залы, оглашая шумом все окрест. Ленардо, усевшись, спросил гостя, собирается ли он сейчас сказать то, ради чего прибыл, или же ему нужно особое заседание. Приезжий встал, поклонился присутствующим и начал такую речь:
– Здесь, на таком вот собрании, я и хочу объясниться без всяких околичностей. Все, кто не двинулся с места, – а судя по виду, это люди честные и дельные, – тем самым ясно выразили свое желание и намеренье не порывать с родною почвой и впредь. Их-то я и приветствую с особым радушием, ибо должен объявить, что всем, сколько ни есть их в этой зале, я могу предложить работу на много лет. Но я желал бы вскорости снова встретиться с вами, потому что считаю необходимым приватно изложить мои обстоятельства достопочтенным руководителям, до сих пор сплачивавшим воедино присутствующих здесь добрых людей, и удостоверить их в моих полномочиях. А сразу после этого мне надобно будет подробно побеседовать с остающимися, чтобы я знал, какими трудами собираются они ответить на мое солидное предложение.
В ответ Ленардо выразил желание, чтобы им дали некоторый срок для улаживанья неотложных дел, а когда срок этот был определен, вся толпа остающихся чинно встала с мест и так же парами удалилась из залы, негромко и приятно распевая песню.
Одоард тотчас же предъявил обоим оставшимся руководителям свои бумаги и поведал им о своих намереньях и планах. Но в дальнейшей беседе со столь превосходными людьми, давая им отчет о своем предприятии, он не мог не упомянуть и о тех чисто человеческих причинах, из которых оно возникло.
Из-за этого дальнейший разговор сплошь состоял из взаимных объяснений и признаний, в которых собеседники открывали друг другу глубочайшие сердечные тайны. Не разлучались до глубокой ночи и все дальше и безысходнее забирались в лабиринт человеческих умонастроений и судеб. Одоард чувствовал, что его побуждают дать отчет о помыслах его ума и чувствах его сердца, но делал он это постепенно и отрывочно, почему и до нас дошли неполные и неудовлетворительные сведения об этом разговоре. И все же мы должны быть благодарны Фридрихову счастливому дару все схватывать и закреплять на бумаге, ибо он позволил нам представить себе некоторые любопытные сцены и пролил свет на жизненные обстоятельства превосходного человека, который начинает занимать наше любопытство, пусть даже мы находим всего лишь намеки на то, что впредь, быть может, будет рассказано более подробно и связно.
Не заходи далеко!
Пробило десять вечера, к назначенному часу все было готово: в увешанной гирляндами маленькой зале был красиво накрыт на четыре персоны широкий стол, уставленный лакомствами и сластями вперемежку с цветами и яркими канделябрами. Как радовались десерту дети, которым также разрешено было сесть за стол! Покуда же они на цыпочках бродили вокруг стола в праздничных нарядах и в масках, а так как детей нельзя изуродовать, то они и так были прелестны, словно два эльфа-близнеца. Отец подозвал их, и они почти без подсказки весьма мило произнесли торжественный диалог, сочиненный ко дню рождения их матушки.
Время шло, старуха не могла удержаться и каждые четверть часа подогревала нетерпенье нашего друга, сообщая ему, что лампы на лестнице вот-вот погаснут, что она боится, как бы любимые лакомства виновницы торжества не перестоялись. От скуки дети расшалились, от нетерпения стали и вовсе несносны. Отец сдерживался, но обычное спокойствие не желало к нему возвращаться; он жадно прислушивался к стуку экипажей, – они проезжали мимо, и в нем шевелилась невольная досада. Чтобы скоротать время, он потребовал от детей еще одной репетиции, но им так надоело ждать, что они стали невнимательны, рассеянны и неловки, говорили деланными голосами, жестикулировали неестественно, переигрывали, как ничего в душе не чувствующие актеры. Добрый супруг с каждым мгновеньем мучился все больше. Пробило пол-одиннадцатого, живописать дальнейшее мы предоставляем ему самому.
«Миновал одиннадцатый час, мое нетерпение перешло в отчаяние: надежды больше не было, оставался один страх. То я опасался, что она войдет и с обычной своей грациозной небрежностью извинится, уверяя, что очень устала, и всем своим поведением упрекая меня за то, что я ограничиваю ее в удовольствиях. Все во мне переворачивалось, многое из того, что я годами сносил терпеливо, теперь вернулось и тяжким грузом легло мне на душу. Я начинал ненавидеть ее, я не мог придумать, как мне вести себя с нею при встрече. Детки, разубранные как ангелы, мирно спали на диване. Земля горела у меня под ногами, я не помнил и не понимал себя, мне оставалось только бежать, чтобы хоть как-то перемочь наступавшие мгновения. И вот я, как был, в легком праздничном платье, бросился к выходу. Не помню, что пробормотал я старухе, какой придумал предлог. Она сунула мне в руки плащ, и я оказался на улице в таком состоянии, в каком не бывал уже долгие годы. Словно потерявший голову от страсти юнец, я стал носиться из переулка в переулок. Тут было где дать выход досаде, но холодный, сырой ветер своим суровым дуновеньем изрядно остудил ее».
Как нетрудно усмотреть из приведенного места, мы присвоили себе права эпического поэта и ввели благосклонного читателя в самую гущу бушующих страстью событий. Мы застаем человека высокого ранга посреди домашних неурядиц, не узнав никаких подробностей о нем; поэтому, чтобы хот, отчасти уяснить себе причину такого его состояния, мы присоединимся к старушке и послушаем, что она в замешательстве и в волнении бормочет себе под нос или громко восклицает.
«Так я и думала, так и говорила заранее; ведь я не щадила хозяйку, я ее предупреждала, но это выше ее сил. Хозяин целый день или в присутствии, или в городе, или в разъездах по делам, а как вернется вечером усталый, дома или никого, или целое общество, а оно ему и вовсе не нужно. И никак она от этого не отстанет! Если не видит вокруг себя людей, мужчин, если не разъезжает туда-сюда и не переодевается десять раз на дню, ей как будто и дышать нечем. Нынче ее день рождения, а она с утра укатила за город. Ну ладно, мы тут все устраиваем честь по чести, она дает слово ровно в девять быть дома, у нас все готово. Хозяин слушает стишок, что детки наизусть заучили, я их приодела; лампы-свечи горят, всего наварено-нажарено, а ее нет. Хозяин – а уж он умеет владеть собой! – старается спрятать нетерпение, да оно прорвалось. Вот он и бежит из дому в такую тьму! Почему бежит, понятно, но вот куда? Я ей прямо и честно говорила: ужо будет у нее соперница! Покуда я ничего за хозяином не замечала, хотя одна красотка давно уже к нему подбивается да увивается вокруг. Бог знает, как он устоял до сих пор. А теперь вот оно и случилось: барин за все свое добро и старанья никакой благодарности не видит, с отчаянья ночью бежит из дому, – значит, пиши пропало. Сколько раз я ей говорила, чтобы она не заходила слишком далеко!»
А теперь отыщем нашего друга и послушаем его самого.
«В лучшей здешней гостинице я увидал свет в нижнем окошке и постучался в него, а когда высунулся слуга, я спросил его, благо мой голос был ему знаком: не прибыл ли кто из приезжих и не известил ли о прибытии? Он отворил мне ворота, на оба вопроса ответил отрицательно и попросил меня войти. В моем положении я счел за лучшее держаться своей сказки и спросил у него комнату, которую он мне тотчас же и отвел на верхнем этаже, потому что нижний, как он полагал, следует оставить для ожидаемых приезжих. Он поспешил туда кое о чем распорядиться, я ему не мешал и только поручился, что счет будет оплачен. Покамест все сходило мне с рук; но мои муки опять вернулись ко мне: я воображал себе все, что было, то преувеличивая, то смягчая, я бранил самого себя и пытался овладеть собой, смирить досаду. Лишь бы только завтра все пошло обычным чередом! Я уже представлял себе завтрашний день таким же, как все прочие, но потом раздражение снова прорывалось и брало надо мною верх, я никогда бы не подумал, что могу быть так несчастен».
Наши читатели, без сомнения, уже прониклись участием к благородному человеку, которого мы застигли в таком смятении по ничтожному на первый взгляд поводу, и поэтому хотят поближе узнать все его обстоятельства. Мы воспользуемся для этого перерывом в череде ночных происшествий, во время которого сам он продолжает безмолвно метаться по комнате.
Так познакомимся с Одоардом – отпрыском старинного рода, унаследовавшим от многих поколений своих предков благороднейшие душевные качества. Воспитание в военной школе придало ему то проворное изящество манер, которое, сочетаясь со многими достоинствами ума и сердца, делало его обхождение особенно приятным. Недолгая служба при дворе научила его хорошо разбираться во всех внешних обстоятельствах жизни высокопоставленных особ, а когда, быстро заслужив их благосклонность, он был прикомандирован к посольской миссии и так получил возможность увидеть мир и узнать дворы других государей, в нем незамедлительно обнаружилась трезвость взгляда, счастливая способность в точности запоминать все случившееся и прежде всего готовность брать на себя любые поручения. Легкость, с какой он изъяснялся на нескольких языках, и непринужденная без навязчивости манера держать себя способствовали его быстрой карьере; во всех дипломатических поручениях ему сопутствовала удача, так как он быстро завоевывал людскую благосклонность, и такое преимущество позволяло ему умело сглаживать недоразумения, а способность по справедливости взвешивать наличные причины помогала действовать всегда к удовольствию обеих сторон.
Первый министр вознамерился сделать столь превосходного человека своей креатурой и отдал за него дочь, девицу, наделенную, сверх красоты и живого нрава, всеми потребными в высшем свете добродетелями. Но всегда благополучное течение жизни наталкивается однажды на преграждающую плотину; так случилось и с Одоардом. При княжеском дворе воспитывалась как приемная дочь принцесса Софрония – последний отпрыск своей ветви рода; хотя и страна и подданные давно уже отошли к ее дяде, но ни ее богатства, ни ее притязания никак нельзя было сбрасывать со счета, по каковой причине, желая избежать далеко идущих разногласий, Софронию прочили замуж за наследного принца, бывшего намного младше нее.
Одоарда заподозрили в сердечной склонности к ней, сочтя, что он слишком пламенно воспел ее в одном из своих стихотворений под именем Авроры; к этому присовокупилась неосторожность с ее стороны: на подтруниванье подруг она с присущей ей прямотой характера резко ответила, что, мол, нужно быть слепой, чтобы не видеть стольких достоинств.
Вследствие женитьбы Одоарда это подозрение заглохло, но противники не давали ему угаснуть совсем и при случае вновь его раздували.
Хотя в стране избегали касаться вопросов государственной власти и престолонаследия, все же речь о них иногда заходила. Если не сам князь, то его мудрые советники считали, что полезнее всего с этим делом потянуть, между тем как негласные приверженцы принцессы желали бы, чтобы с ним скорее было покончено и благородной даме предоставлена бо́льшая свобода, тем более что престарелый король соседней державы, родственник и покровитель Софронии, был еще жив и при случае выказывал готовность по-отечески вмешаться.
Одоарда заподозрили в том, что он, участвуя в посольстве, отправленном туда лишь во исполнение этикета, вновь возбудил этот вопрос, решение которого намеренно затягивали. Противники воспользовались случаем, и тестю, которого он убедил в своей невиновности, пришлось пустить в ход все свое влияние, чтобы добиться для него должности наместника в одной из дальних провинций. Там Одоард почувствовал себя счастливым, ибо мог сделать много необходимого, полезного, доброго, прекрасного и великого, причем сделать на века и не жертвовать при этом собой, между тем как в условиях придворной жизни люди порой губят себя, занимаясь вопреки убеждению вещами преходящими.
Не то чувствовала его супруга, не мыслившая себе жизни вне большого света и лишь долго спустя поневоле поехавшая вслед за мужем. Он угождал ей чем мог и старался всеми подручными средствами возместить ей прежнее блаженство, поощряя летом – загородные поездки, зимой – любительские спектакли, балы и прочие любимые ею затеи.
Одоард терпел даже друга дома, иностранца, который с недавних пор втерся к ним, хотя вовсе ему не нравился, ибо проницательный взгляд Одоарда усматривал в нем некоторую неискренность.
И вот в эти опасные минуты многое из рассказанного нами прошло перед его внутренним взором, то смутно и туманно, то ясно и отчетливо. Но довольно! Конфиденциально поведав читателю то, что сберегла для нас превосходная память Фридриха, вернемся к Одоарду, который по-прежнему мечется по комнате, жестами и восклицаниями обнаруживая, какая борьба происходит у него в душе.
«Обуреваемый такими мыслями, я метался по комнате; слуга принес мне чашку бульона, в чем я весьма нуждался, ибо, занятый приготовлениями к празднику, не съел ни крошки, а изысканный ужин остался дома нетронутым. В эту минуту с улицы послышались приятные звуки почтового рожка. «Это с гор», – сказал слуга. Мы подбежали к окнам и увидели барскую карету с двумя горящими фонарями по бокам, запряженную четверкой и тяжело нагруженную. Лакеи соскочили с козел. «Это они!» – воскликнул слуга и поспешил вон. Я удержал его и строго-настрого наказал не говорить, что я здесь, и не выдавать, что комнаты заказаны; он пообещал мне и убежал.
За разговором я упустил поглядеть, кто вышел из кареты; мною вновь овладело нетерпение, мне казалось, будто слуга слишком долго медлит сообщить мне о прибывших. Наконец я узнал от него, что это две дамы, одна пожилая и почтенная на вид, одна помоложе, невероятной красоты, и при них горничная, да такая, что лучше не сыщешь. «Она было начала приказывать, – говорил слуга, – потом хотела ко мне подольститься, а когда я за ней приударил, стала насмешничать, – видно, такая бойкость у нее от природы. Я сразу заметил, как они удивились, что я начеку, а в доме все готово к приему: в комнатах свет, камин затоплен, так что можно расположиться с удобством, в зале ждет холодный ужин, а когда я им предложил бульону, они остались и совсем довольны».
И вот дамы сели за стол; пожилая не ела почти ничего, красавица вовсе не ела, зато горничная, которую они называли Люси, ужинала в свое удовольствие, расхваливая при этом гостиницу и наслаждаясь ярким блеском свеч, тонкостью столового белья, фарфора и всей сервировки. Она уже успела отогреться у пылающего камина и, когда снова вошел слуга, стала выспрашивать, всегда ли у них все готово к приему, даже если постояльцы нагрянут в любой час дня и ночи. Хотя слуга был хитрый малый, но сейчас он вел себя в точности как дети, которые хоть и не выдают секрета, но не могут скрыть, что какой-то секрет им доверили. Сперва он отвечал уклончиво, потом – ближе к правде, а в конце концов, загнанный в тупик неуемной служанкой, донимавшей его все новыми расспросами, сознался, что тут был слуга, нет, приходил один господин, он ушел, он потом вернулся; в конечном итоге у служителя выпытали, что господин находится наверху и в беспокойстве расхаживает взад-вперед. Молодая дама вскочила с места, остальные за нею; красавица поспешно высказала предположение, что господин, должно быть, стар, но слуга стал уверять, что он, напротив того, молод. Дамы усомнились в его словах, он заверил их, что говорит правду. Дамы пришли в еще большее замешательство и волнение. Красавица уверяла, что это дядюшка, старшая дама возражала, что такие вещи не в его привычках. Но младшая упрямо настаивала на том, что никто, кроме него, не мог знать об их прибытии сюда в этот час. Слуга клялся и божился, что господин наверху молод, крепок и хорош собой. Люси давала голову на отсечение, что это дядюшка: слуга большой плут, ему нельзя верить, он уже целых полчаса путается в противоречиях.