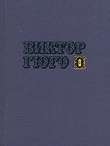Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
– Милая матушка! Как хорошо, что мы так долго молчали о столь важных делах! Спасибо вам за то, что вы покуда не задевали этой струны. А теперь самое время объясниться, если вам будет угодно. Что вы обо всем этом думаете?
Баронесса, радуясь спокойному и кроткому настроению дочери, тотчас же стала вразумительно объяснять минувшие события: описав характер брата и его заслуги, она согласилась, что на никем не занятое сердце девушки не мог не произвести впечатления единственный знакомый ей мужчина таких достоинств и что отсюда вместо детского почтения и доверия могла развиться склонность, которую легко было принять за любовь и страсть. Гилария слушала мать внимательно, знаками и выражением лица давая понять, что вполне согласна с нею; та заговорила о сыне, и дочь опустила длинные ресницы; хотя баронессе не хватило красноречия привести столь же хвалебные доводы в пользу сына, как в пользу отца, она указывала прежде всего на сходство обоих, на преимущества, которые дает сыну молодость, и на то, что, избранный супругом и спутником жизни, он со временем обещает стать совершенным воплощением отцовского образа. Судя по всему, Гилария и об этом мыслила одинаково с матерью, хотя омрачившийся и много раз потупляемый взгляд выдавал естественное в этом случае внутреннее волнение. Далее речь пошла о внешних обстоятельствах, весьма благоприятных, но налагающих известные обязательства. Завершенный раздел имущества, немалая выгода в настоящем и еще большая в будущем – все было представлено Гиларии в полном соответствии с истиной; не обошлось без намека на то, что и сама Гилария должна была помнить, – ведь она, пусть даже в шутку, с детства была помолвлена с подрастающим рядом кузеном. Из всего вышесказанного мать сделала сам собой разумеющийся вывод, что с согласия ее и дядюшки брак между молодыми людьми должен быть заключен безотлагательно.
Гилария, с полным спокойствием во взоре и в речах, возразила, что она не может тотчас же признать правильным такое заключение, и с присущим ей очарованием стала приводить противные доводы; а поскольку все нежные души, без сомнения, способны на такие же чувства, мы не возьмемся облечь эти чувства в слова.
Люди рассудительные, когда придумают разумное средство устранить затруднение либо достигнуть цели и в должном порядке изложат все мыслимые аргументы в его пользу, чувствуют себя прямо-таки оскорбленными, если те, чьему счастью они хотят содействовать, вдруг оказываются совсем другого мнения и по причинам, кроющимся в глубине их сердца, противятся столь же необходимым, сколь и похвальным советам. Речи, произнесенные каждой, не убедили другую; та, что руководствовалась разумом, не желала вникать в чувства собеседницы, та, что руководствовалась чувством, не желала покоряться соображениям пользы и необходимости. Разговор стал горяч, острый разум вонзился в сердце, и без того раненное, и оно, отбросив сдержанность, со всей страстью обнаружило свои горести, так что мать в конце концов удалилась, изумленная высотою духа и достоинством девушки столь юной, но с такой убедительной энергией настаивавшей на неуместности и даже преступности предлагаемого брака.
Читатель легко представит себе, в каком замешательстве баронесса воротилась к брату, а быть может, и почувствует, хотя бы отчасти, то же, что испытал с глазу на глаз с сестрой майор, который был в глубине души польщен и утешен столь решительным отказом и хотя не питал надежд, но ощущал себя избавленным от унижения и получившим возмещение в деле, успевшем стать для него деликатнейшим вопросом чести. Однако покамест он спрятал эти чувства от сестры, скрыв свое горестное удовлетворение словами, вполне естественными при таком случае: не следует, дескать, торопить события, надо дать милой девочке срок самой вступить на путь, который теперь самоочевидно перед нею открылся.
Нам трудно потребовать от читателя, чтобы от таких захватывающих внутренних переживаний он перешел ко внешним обстоятельствам, которые между тем приобрели важнейшее значение. Той порой как баронесса предоставила дочери свободу целыми днями с приятностью заниматься музыкой и пением, вышиванием и рисованием, а также проводить время в одиночестве или с матерью, за чтением про себя или вслух, майор озаботился тем, чтобы к наступлению весны привести семейные дела в порядок. Его сын, в будущем видевший себя богатым землевладельцем и, в чем он не сомневался, счастливым супругом Гиларии, впервые преисполнился воинским пылом и жаждой славы и чинов, – на тот случай, если грозившая разразиться война действительно начнется. И среди этого наступившего покамест успокоения все с уверенностью предвидели, что необъяснимое затруднение, вызванное, судя по всему, лишь прихотью, скоро разъяснится и разрешится.
Но этот видимый покой, увы, не дал найти успокоения. Баронесса ждала со дня на день, что чувства дочери изменятся, но ждала напрасно, ибо Гилария хотя и сдержанно и редко, но решительно давала по всякому поводу попять, что твердо стоит на своем, как человек, пришедший к незыблемому внутреннему убеждению, стоит на нем независимо от того, находится ли оно в согласии с внешним миром или нет. Майор пребывал в разладе с собой: он чувствовал бы себя оскорбленным, если бы Гилария решила в пользу его сына, но не сомневался, что, буде она решит в его пользу, он должен отказаться от ее руки.
Нельзя не посочувствовать этому достойному человеку, перед которым, словно клубящийся туман, постоянно витали эти заботы и муки и то становились фоном всех происшествий и неотложных занятий дня, то заволакивали все находившееся рядом. Такая колеблющаяся и зыблющаяся пелена застила его духовный взор, и если настойчивый день требовал от него быть деятельным и не мешкать, то ночью, стоило ему пробудиться, все неприятное, обретая образ и ежеминутно его меняя, проносилось через его душу в безрадостном кругообороте. Неотвратимость этого вечного возврата приводила его, можно сказать, в отчаяние, так как дела и труды, обычно служащие лучшим лекарством для таких состояний, не могли не то что умиротворить его, но даже смягчить страдание.
В таком состоянии был наш друг, когда получил написанное незнакомым почерком приглашение прибыть в соседний городок на почтовую станцию, где будет спешно проезжать некто, настоятельно желающий с ним поговорить. Майор, при своих многочисленных деловых и светских знакомствах привыкший к подобным вещам, не преминул последовать приглашению, тем более что размашистый беглый почерк показался ему знакомым. Спокойный и сдержанный, как всегда, он прибыл в указанное место, и в знакомой ему, почти по-деревенски убранной горнице его встретила прекрасная вдовушка, еще красивей и милее, чем тогда, когда он с нею расстался. Потому ли, что наше воображение не способно удержать и во всех чертах воспроизвести самое прекрасное, или потому, что волнение придало ей особую прелесть, но только майору понадобилось вдвое больше самообладания, чтобы скрыть удивление и замешательство видимостью обычной вежливости; поздоровался он учтиво, но со смущением и холодностью.
– Не надо так, милый друг! – воскликнула она. – Я не для того зазвала вас сюда. В этих беленых стенах, среди этого дешевого домашнего скарба не место для светских бесед. Я сброшу с груди тяжелое бремя, если скажу, как на духу: в вашем доме я наделала много бед. – Майор отступил, оторопев, а она продолжала: – Я знаю все, нам незачем объясняться. Мне жалко вас всех: вас и Гиларию, Гиларию и Флавио, вашу любезную сестру… – Слова застряли у нее в горле, прекрасные ресницы не преграждали более путь заструившимся слезам, щеки зарумянились, она была хороша, как никогда.
В крайнем замешательстве стоял перед нею благородный майор, его сердце прониклось не изведанным прежде умилением.
– Сядем, – сказала красавица, утирая глаза. – Простите меня, пожалейте меня, вы видите, как я наказана. – Она снова поднесла вышитый платок к глазам, чтобы спрятать в нем горькие слезы.
– Объяснитесь же наконец, милостивая государыня, – поспешил сказать майор.
– Не называйте меня милостивой государыней, – отвечала она с ангельской улыбкой, – зовите меня своим другом, ведь у вас нет друга вернее. Так вот, друг мой, я знаю все, мне в точности известно, как обстоят дела у вас в семье, я посвящена во все настроения, во все печали.
– Кто же мог сообщить вам такие подробности?
– Некие подлинные признания. Я думаю, этот почерк вам знаком. – Она показала ему пачку распечатанных писем.
– Это рука сестры! Сколько писем! И, судя по небрежности почерка, интимных. Разве между вами были отношения?
– Прямых – никогда, а косвенно мы связаны с недавнего времени. Вот адрес: к ***.
– Еще одна загадка! Письма адресованы Макарии, а кто из женщин лучше умеет молчать!
– Потому-то она и стала наперсницей и исповедницей всех, кто пал духом, кто потерял себя и хочет найти вновь, но не знает, где искать.
– Слава богу, – воскликнул майор, – что нашлась такая посредница! Мне не подобало прибегать к ней с мольбою, и я благословляю сестру за то, что она это сделала; ведь и мне известны случаи, когда эта необыкновенная женщина, как бы держа перед нравственным взором несчастного волшебное зеркало, помогала ему сквозь искаженную внешность увидеть внутреннюю красоту и впервые примириться с собой и возродиться к новой жизни.
– Она и мне оказала это благодеяние, – отозвалась прекрасная вдова.
И в тот же миг у нашего друга возникло еще не вполне отчетливое, но неодолимое ощущение, что из-под обличия замечательной, но отъединенной от всех своей необычайностью женщины проступают черты другого существа, редкой нравственной красоты, участливого и щедрого на участие.
– Я не была несчастна, но не знала покоя, – продолжала она, – и, по сути, не принадлежала более сама себе, а ведь это и значит быть несчастной. Я перестала нравиться сама себе, я могла как угодно вертеться перед зеркалом – мне все равно казалось, будто я наряжаюсь в маскарад; но она поднесла мне к глазам свое зеркало, я узнала, как можно украсить себя изнутри, – и с той минуты вновь стала казаться себе красивой.
Все это она говорила, улыбаясь и плача, и была, надо признаться, необыкновенно хороша. Казалось, она заслуживает и уважения, и неизменной преданности навеки.
– А теперь, друг мой, будем кратки. Вот письма; чтобы прочесть и перечесть их, а потом подумать и принять решение, вам наверняка понадобится час, даже больше, если вы захотите. Потом мы поговорим о наших обстоятельствах и быстро все решим.
Она оставила его и спустилась пройтись по саду, он развернул письма баронессы и ответы Макарии. Содержание переписки мы изложим лишь в общих чертах. Баронесса жалуется на прекрасную вдовушку. С очевидностью явствует, как смотрит одна женщина на другую и как резко о ней судит. Речь идет, собственно, только о внешнем – о поступках и словах, о внутреннем даже не задается вопроса.
В ответах Макарии суждение более мягко. Описание другого существа, исходящее из его внутренней сути. Внешнее представлено следствием случайностей, оно не заслуживает укоризны, быть может, заслуживает прощения. Но вот баронесса сообщает о неистовстве и умоисступлении сына, о растущей симпатии юной четы, о прибытии отца, о решительном отказе Гиларии. Отклики Макарии исполнены непредвзятой справедливости, которая коренится в убеждении, что и здесь результатом может быть нравственное совершенствование. Наконец она пересылает всю переписку красавице вдове, чья внутренняя красота теперь обнаруживается вполне, отчего и внешность ее кажется еще блистательней. Все в целом заканчивается ответным письмом к Макарии с изъявлениями благодарности.
ГЛАВА ШЕСТАЯВильгельм – Ленардо
Наконец, любезный мой друг, я могу сказать Вам, что она найдена, и для Вашего спокойствия добавить, что нашел ее в таком положении, когда невозможно пожелать ей ничего больше. Позвольте мне говорить в общих словах; я пишу Вам с места, здесь у меня перед глазами все, о чем я должен дать Вам отчет.
Домашний уклад, зиждущийся на благочестии, оживляемый усердием и поддерживаемый порядком; ни излишнего стеснения, ни излишнего простора, а главное – счастливое соответствие между ее обязанностями и ее силами и способностями. Вокруг нее – коловращение людей, занятых ручной работой в самом чистом, изначальном смысле слова; во всем – узость границ и широта влияния; предусмотрительность и воздержность, невинная простота и деятельное усердие. Мне редко приходилось бывать в столь приятном окружении, где виды и на ближайшее, и на отдаленное будущее так радостны. Всего этого вместе довольно, чтобы успокоить любого небезучастного наблюдателя.
Но в память обо всем, что было между нами говорено, я смею настоятельно просить вот о чем: пусть мой друг довольствуется этим общим изображением, пусть в мыслях разукрашивает его сколько угодно, но откажется от дальнейших разысканий, отдаст все силы тому жизненной важности предприятию, в которое его уже, вероятно, полностью посвятили.
Это письмо я отсылаю Герсилии, копию с него – аббату, который, я полагаю, наверняка знает, где Вы обретаетесь. Ему, испытанному другу, на которого можно равно положиться в делах тайных и явных, я напишу еще несколько строк, содержание которых он Вам сообщит; я прошу особенно внимательно отнестись к тому, что касается меня самого, и скромными, но неотступными просьбами способствовать моим планам.
Вильгельм – аббату
Если я не во всем обманываюсь, то человек столь высоких достоинств, как Ленардо, принят в вашу среду, почему я и посылаю Вам копию письма к нему, чтобы оно было наверняка ему доставлено. Как я желал бы, чтобы этот превосходный молодой человек в вашем кругу погрузился в непрестанную и весьма важную работу, – ибо я надеюсь, что душа его успокоилась.
Что до меня, то я за долгий срок успел испытать себя на деле и могу настоятельнее повторить просьбу, ранее переданную через Монтана; желание провести годы странствий с меньшим рассеянием и большим постоянством становится во мне все настойчивее. Твердо надеясь на то, что ходатайство мое удовлетворят, я ко всему подготовился и обо всем распорядился. По завершении дела, предпринятого ради моего благородного друга, я при указанном выше условии впредь смогу со спокойной душой продолжать свой жизненный путь. Совершив еще одно благочестивое паломничество, я намерен прибыть в ***. Надеюсь застать там Ваши письма и, как того требует мое внутреннее влечение, начать все заново.
ГЛАВА СЕДЬМАЯОтправив приведенные выше письма, наш друг пустился в дорогу и, переваливая хребет за хребтом, шел все далее, пока перед его взором не простерлась роскошная равнина, где он намерен был, прежде чем начать новую жизнь, подвести итог многому из своего прошлого. Здесь он неожиданно встретил жизнерадостного молодого попутчика, которому предстояло много способствовать и его стремлениям, и приятности путешествия.
Итак, Вильгельм оказывается в обществе живописца, одного из тех, каких немало встречается на белом свете, а еще больше бродит призраками по страницам романов и драм, но на сей раз он являл собой тип замечательного художника. Они сходятся очень быстро и поверяют друг другу свои пристрастия, намерения и замыслы; при этом обнаруживается, что художник, отличавшийся в искусстве оживлять акварельные ландшафты превосходно придуманным и великолепно нарисованным стаффажем, страстно увлечен судьбою Миньоны, ее обликом и характером. Он и прежде многократно изображал ее и сейчас пустился в путешествие затем, чтобы с натуры писать край, где она жила, нарисовать милое дитя и в отрадном, и в безотрадном окружении, в счастье и в горе, и зримо явить очам ее образ, живущий во всех нежных сердцах.
Вскоре друзья прибывают на берег большого озера, где Вильгельм намерен отыскать одно за другим все указанные ему места. Загородные дворцы и обширные монастыри, переправы и заливы, песчаные косы и причалы – всё они посещают, не пропуская ни хижин смелых и добродушных рыбаков, ни радующих взгляд городков на берегах, ни маленьких замков на ближних высотах. И все это художник умеет схватить и с помощью освещения и колорита подчинить тому настроению, которое навеяно сюжетом, так что Вильгельм всякий день и час испытывает глубокое умиление.
На переднем плане многих листов Миньона была изображена как живая – во многом благодаря Вильгельму, чьи точные описания были подспорьем щедрому воображению художника и вводили то, что он представлял себе в общих чертах, в узкие границы индивидуального облика.
Благодаря этому изображения девочки-мальчика были весьма разнообразны и по композиции, и по содержанию. То Миньона стояла под высокими колоннами портала и задумчиво рассматривала статуи в преддверье роскошной виллы, то с плеском раскачивалась в причаленной лодке, то взбиралась на мачту, показывая себя смелым матросом.
Среди остальных выделялась одна картина, все характеристические детали которой художник успел наблюсти еще по пути к озеру, до встречи с Вильгельмом. Среди суровых гор блещет прелестью мнимый мальчик; его обступают крутые скалы, его обдают брызгами водопады, он окружен не поддающейся описанию ордой. Быть может, никогда мрачная теснина среди отвесных древних гор не оживлялась такими прелестными и полными значения фигурами: пестрый сброд, вроде цыган, вместе грубый и фантастический, странный и пошлый, слишком беспутный, чтобы испугать, слишком причудливый, чтобы внушить доверие. Крепкие вьючные лошади тащат то по выстланным жердями тропам, то по выбитым в склоне ступеням тюки пестрого хлама и болтающиеся поверх них инструменты, потребные для оглушительной музыки и от времени до времени терзающие слух грубым ревом; и среди всего этого – миловидный ребенок, погруженный в себя, но не замкнувшийся упрямо, уводимый против воли, но не влекомый насильно. Кому не понравилась бы столь замечательная по исполнению картина? С какой характеристической силой была передана угрюмость тесно стоящих скал, чернота прорезающих горы теснин, которые грозили бы закрыть всякий выход, если бы смело переброшенный мост не указывал на возможность сообщаться с остальным миром. Чувство правды – лучший творец мудрых вымыслов – побудило художника показать и пещеру, которую можно было бы признать и природной мастерской мощных кристаллов, и убежищем страшного выводка сказочных драконов.
С трепетом благоговения заглянули друзья во дворец маркиза; старец еще не вернулся из путешествия, но и в этой округе их приняли радушно и обращались с ними хорошо, так как они умели ладить с духовными и светскими властями.
Отсутствие хозяина дома обрадовало Вильгельма, который хотя и с охотой повидал бы достойного человека и от всей души приветствовал бы его, тем не менее опасался, как бы его щедрая благодарность не навязала вознаграждения за верность и любовь, уже оплаченные самой нежною платой.
Так друзья плавали в стройном челне от берега к берегу, бороздя озеро по всем направлениям. В прекраснейшее время года они не пропустили ни единого восхода и заката, ни единого из бесчисленных оттенков, которыми солнце щедро одаряет небесную твердь, а через ее посредство – озеро и берег и лишь в этом отблеске до конца являет свое великолепие.
Пышная растительность, насажденная природой, ухоженная и взлелеянная искусством, окружала их. Раньше их приветливо манили первые встреченные ими рощи каштанов, теперь, расположившись под кипарисами, они не могли без грустной улыбки смотреть на побеги лавра, на алеющие гранаты, на распустившийся цвет померанцев и лимонов и одновременно пылающие в их темной листве плоды.
Благодаря новому товарищу для Вильгельма открылось еще одно наслаждение. Наш старый друг не был от природы наделен глазом живописца. Восприимчивый к видимой красоте, лишь когда она воплощалась в человеческом облике, он вдруг заметил, что одинаково с ним чувствующий, но воспитанный для других трудов и наслаждений друг открыл ему внешний мир.
В каждом разговоре Вильгельму указывали на непрестанно сменяющиеся красоты здешних мест, он видел их концентрированное воспроизведение, – и глаза у него раскрылись, упрямо питаемые сомнения рассеялись. Изображения итальянских красот всегда были ему подозрительны: небо казалось слишком синим, сиреневый оттенок чарующих далей – хотя и приятным, но неправдоподобным, свежее разнообразие зелени – слишком пестрым; теперь, слившись душой с новым другом, Вильгельм со свойственной ему восприимчивостью научился видеть мир его глазами, и, между тем как природа раскрывала зримую тайну своей красоты, нельзя было не испытывать неодолимого стремления к искусству – достойнейшему ее истолкователю.
Неожиданно у друга-живописца обнаружилось еще одно свойство, приятное Вильгельму: нередко и раньше он запевал веселую песню, оживляя этим задушевным сопровождением тихие часы разъездов по озеру. Но вот случилось так, что в одном из дворцов ему попался необычайный струнный инструмент – лютня малого размера, с сильным и полным звуком, удобная и легкая для ношения; художник сумел тотчас же ее настроить, с успехом ею овладеть и доставить всем присутствующим такое удовольствие, что ему, словно новому Орфею, удалось смягчить всегда сухого и угрюмого кастеляна, который вынужден был уступить ему лютню во временное пользование, с условием, чтобы певец перед отъездом непременно возвратил ее, а до того заглядывал во дворец по воскресным и праздничным дням порадовать семейство музыкой.
Теперь и озеро и берег словно ожили для них: лодки и челноки ластились и льнули к ним, даже грузовые и купеческие суда задерживали рядом с ними ход, люди рядами выстраивались на берегу и веселой толпой окружали их, едва они причаливали, а при отплытии все благословляли их, довольные, но уже тоскуя по отъезжающим.
В конце концов любой сторонний наблюдатель мог бы заметить, что миссия обоих друзей выполнена: все напоминавшие о Миньоне места и ландшафты были зарисованы, частью, как принято, в красках, со светотенью, частью, как они подлинно выглядели в жаркие полуденные часы. Ради этого им пришлось особым образом передвигаться с места на место, так как весьма часто помехой им становился Вильгельмов обет, который, впрочем, они сумели обойти, истолковав его таким образом, что он, мол, действителен на суше, а на воде неприменим.
Вильгельм и сам чувствовал, что главная их цель достигнута, но не мог скрыть от себя и другое: чтобы со спокойной душой уехать из этих мест, надо увидеть Гиларию с прекрасной вдовой, и тогда все желания будут удовлетворены. Его другу, которому он поведал их историю, было так же любопытно поглядеть на столь привлекательных особ, он радовался тому, что на одном из его рисунков лучшее место оставлено пустым и может быть искусно украшено их фигурами.
И вот они вновь стали разъезжать по озеру, наблюдая за теми местами, которые непременно посещаются заезжими гостями этих райских краев. Лодочникам они сообщили о том, что надеются повстречаться с друзьями, а недолго спустя увидели скользящий по воде роскошно убранный корабль, за которым принялись охотиться и, не сдержав нетерпеливого желания, взяли его на абордаж. Дамы, несколько задетые, сразу же пришли в себя, едва Вильгельм предъявил им листок и они без колебаний узнали нарисованную ими же стрелу. Друзья тотчас же были приглашены взойти к ним на корабль и исполнили это без промедлений.
Пусть читатель представит себе теперь, как они вчетвером сидят друг против друга в изысканно убранной каюте, как мир вокруг них полон блаженства, как мягкие ветерки овевают, а блистающие волны покачивают их. Пусть вообразит себе обеих женщин такими, какими мы их недавно нарисовали, и обоих мужчин, с которыми мы уже делим их странническую жизнь несколько недель, и после недолгого размышления поймет, что положение их весьма приятно, хотя и опасно.
Для тех троих, что вольно или невольно примкнули к числу Отрекающихся, не приходится опасаться самого тяжкого; но и четвертому предстояло вскоре увидеть себя вступившим в тот же орден.
Еще несколько раз объехав озеро и показав дамам самые примечательные местности как на берегу, так и на островках, друзья остановили корабль против того пункта, где предстояло провести ночь и где нанятый на это путешествие проводник сумел обеспечить все желательные удобства. Здесь Вильгельмов обет распорядился как благопристойный, но назойливый церемониймейстер, ибо как раз здесь друзья недавно провели три дня и исчерпали все достопримечательности в окрестностях. Художник, не связанный обетом, хотел испросить разрешения проводить дам на берег, но они отклонили просьбу, и все четверо расстались в некотором отдалении от пристани.
Певец, едва спрыгнул в свою лодку, поспешно отплывавшую прочь от берега, взялся за лютню и нежно затянул тот дивно-печальный напев, которым венецианские лодочники с моря оглашают сушу и с суши – море. По мере того как расстояние росло, художник все усиливал звук, так что стоявшим на берегу казалось, будто они слышат отплывающего все так же близко; и если он и раньше понаторел в такой манере пения, то сейчас оно звучало особенно нежно и трогательно. Потом он отложил лютню, полагаясь лишь на свой голос, и с удовольствием увидел, что дамы, вместо того чтобы уйти в дом, предпочли задержаться на берегу. Он так воодушевился, что не мог кончить даже тогда, когда ночь и расстояние скрыли от глаз все предметы, – покуда не столь взволнованный друг не указал ему, что хотя темнота и благоприятствует звукам, но лодка давно уже покинула тот круг, в пределах которого можно их услышать.
Как и было условлено, на следующий день встретились также посреди озера. На лету влюблялись они в те ландшафты, которые здесь то простираются прекрасной чередой, обозримые одним взглядом, то оттесняют друг друга и, удвоенные отражениями в воде, услаждают разнообразием всех плывущих вдоль берегов. При этом их искусные воспроизведения на бумаге позволяли воображать и угадывать то, чего в сегодняшней поездке нельзя было увидеть воочию. И ко всему этому тихая Гилария обнаруживала тонкое чутье и непредвзятый вкус.
Но около полудня опять начались чудеса: дамы высадились на берег одни, мужчины крейсировали в виду пристани. И тут певец постарался избрать манеру пения, наиболее подходящую при таком малом расстоянии, на котором, как можно было надеяться, произведут впечатление не одни только мягкие и выразительные переливы голоса, но и его веселая всепокоряющая прелесть. Сами собой просились у него на уста и на струны те песни, которыми мы обязаны любимым персонажам «Годов учения», но он сдерживался из благоразумной деликатности, в которой и сам нуждался; его мечты уносились прочь, к другим образам и чувствам, отчего весьма выиграло исполнение, так как песня еще вкрадчивее заставляла слушать себя. Друзья, таким образом взяв пристань в блокаду, не вспомнили бы о еде и питье, если бы предусмотрительные приятельницы не отправили им всяких лакомств, с которыми особенно вкусно было пить присланные заодно отборные вина.
Всякая разлука, всякое ограничение, преграждая путь нашей зарождающейся страсти, не заглушает ее, но усиливает; так и сейчас можно было предполагать, что короткое разобщение вызовет с обеих сторон одинаковую взаимную тягу. И на самом деле! Скоро дамы подъехали к друзьям в своей ослепительно яркой гондоле.
Слово «гондола» здесь не следует понимать в погребальном венецианском смысле, – так назвали мы удобное, приятно жизнерадостное судно, которое было бы достаточно просторно, даже если бы маленький кружок удвоился.
Так странно, среди встреч и прощаний, то вместе, то в разлуке, провели они несколько дней; наслаждаясь радостью общенья, взволнованная душа каждого видела маячившую впереди необходимость расстаться и тосковать друг без друга. В присутствии новых друзей они воскрешали образы старых, а когда и новых не было рядом, то приходилось признать, что они тоже сумели приобрести немалые права на память о себе. Только такая испытанная, владеющая собой душа, как у нашей прекрасной вдовы, могла не утрачивать равновесия в подобные часы.
Сердце Гиларии было ранено слишком недавно и не способно воспринять чистое новое впечатление; но если нас окружает исцеляющая прелесть дивных мест, если на нас действует ласковость чувствительных друзей, то с нашим духом и чувствами происходит странная метаморфоза: минувшее и далекое воскресает в нас, подобно сновидению, а настоящее, словно наважденье, призрачно отдаляется. Так, попеременно колеблемые между влечением и отталкиванием, между свиданием и разлукой, день за днем носились они по волнам.
Хитрый, многоопытный проводник, хотя и не вдавался в оценку этих отношений, заметил, однако, что прежде спокойное поведение героинь этого рассказа изменилось, а когда ему наконец стала ясна причуда, вызывавшая такое положение вещей, он сумел и тут все устроить к общему удовольствию. Ибо когда дам собирались снова отвезти в то место, где для них накрывали стол, к ним навстречу приблизился пышно убранный корабль и, став борт к борту с их судном, заманчиво явил их взорам прекрасно сервированный стол со всеми прелестями праздничного угощения; так могли они несколько часов кряду провести вместе, и только ночь принудила их к обычной разлуке.
К счастью, мужчины во время прежних своих поездок, из капризного пристрастия к естественному, пренебрегли высадкой на самый разукрашенный из островов, да и теперь никак не собирались показывать приятельницам его искусственные красоты, бывшие к тому же не в лучшей сохранности, прежде чем полностью исчерпается великолепие природных декораций. Но тут вдруг их осенила новая мысль. С проводником доверительно побеседовали, и он сумел тот же час ускорить поездку, которую они все почитали верхом блаженства. Ведь теперь они вправе были ждать и надеяться, что после стольких прерываемых радостей проведут целых три райских дня вместе на малом и замкнутом пространстве.
Здесь нам следует воздать особую хвалу проводнику; он принадлежал к числу подвижных и деятельно-ловких особ, которые, сопровождая множество господ, многократно повторили одни и те же маршруты, точно узнали все их удобства и неудобства и научились пользоваться первыми, а вторых избегать; не пренебрегая собственной выгодой, они умеют сделать путешествие своих патронов менее разорительным и более приятным, чем ежели бы те разъезжали самостоятельно.
В эту же пору прислуживавшая дамам женщина впервые показала все свое проворство и трудолюбие, и прекрасная вдовушка могла поставить условие, чтобы двое друзей остановились у нее и довольствовались ее незатейливым гостеприимством. И здесь все сложилось самым благоприятным образом: умный посредник при нынешнем случае, как и раньше, сумел так умно использовать рекомендательные и кредитивные письма дам, что барский дом и сад, равно как и кухню, предоставили, ввиду отсутствия хозяев, в их полное распоряжение, были даже надежды воспользоваться погребом. Все так сходилось одно к одному, что путешественники с первого мига должны были почувствовать себя как дома, словно прирожденные владельцы этого райского уголка.