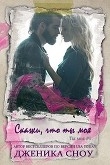Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
То, что у французов восемнадцатого столетия было разрушительным, у Виланда остается только легкой насмешкой.
Поэтический талант дается одинаково и крестьянину и рыцарю; все дело в том, чтобы каждый понял свой удел и ценил его по достоинству.
«Что такое трагедии, как не переложенные в стихи страсти тех, кто из внешних обстоятельств делает бог весть что?»
Слово «школа» в том смысле, в каком употребляет его история изобразительного искусства, говоря о флорентинской, римской, венецианской школе, впредь будет неприменимо к немецкому театру. Может быть, это выражение годилось лет тридцать – сорок назад, когда, благодаря ограниченности внешних обстоятельств, еще можно было думать о сообразном природе и искусству совершенствовании; ведь если присмотреться поближе, то и в изобразительном искусстве слово «школа» действительно только по отношению к первоначальным временам: стоило ей произвести на свет превосходных мастеров – и воздействие ее тотчас же распространялось вширь. Флоренция оказывает влияние на Испанию и Францию; нидерландцы и немцы учатся у итальянцев и добиваются большей свободы духа и ума, южане, в свою очередь, заимствуют с севера более совершенную технику и бо́льшую тщательность исполнения.
Немецкий театр достиг той завершающей поры, когда всеобщее образование так распространено, что не принадлежит более тому или иному месту и не может брать исток в каком-нибудь одном пункте.
Основа театрального, как и всякого другого, искусства – истина, сообразность природе. Чем значительнее и выше истина, которую способны постичь поэты и актеры, тем выше ранг, которым по праву похваляется сцена. Тут у Германии есть великое преимущество: публичное чтение лучших поэтических произведений стало здесь общим обычаем и распространено не только в театре.
На рецитации зиждется и вся декламация, и вся мимика. Так как при чтении вслух надобно следить только за нею, то совершенно ясно, что публичные чтения должны остаться школой истины и естественности, – если только люди, которые берутся за такое дело, проникнуты сознанием ценности и важности своего занятия.
Шекспир и Кальдерон положили блистательное начало подобным чтениям; но при этом следует постоянно опасаться, как бы слишком импозантный чужеземец или талант, выросший до невероятных высот, не повредили совершенствованию немцев.
Своеобразие выражения – альфа и омега искусства. Но у каждой нации есть особенности, отличные от присущего всему человечеству своеобразия; сперва они могут нас отвратить, но если мы найдем в них вкус и полностью им предадимся, они в конце концов возьмут верх над нашей собственной природой и подавят ее.
Пусть литераторы будущего растолкуют исторически, сколько лжи принесли нам Шекспир и особенно Кальдерон, как эти величайшие светочи поэтического небосклона стали для нас блуждающими огнями.
Я никак не могу одобрить полного уподобления испанскому театру. У великолепного Кальдерона столько условности, что непредвзятому наблюдателю трудно разглядеть огромный талант поэта сквозь театральный этикет. И если что-нибудь такое показывают публике, – значит, заранее предполагают в ней добрую волю и склонность предаться совершенно чуждому ей, получать удовольствие от иноземного смысла, тона и ритма и на время выпасть из всего, что ей под стать.
Йорик-Стерн – остроумнейший из всех бывших когда-либо остроумцев; читая его, сразу чувствуешь себя свободным и прекрасным; его юмор неподражаем, а ведь не всякий юмор освобождает душу.
«Чистота небес и мера – это Музы с Аполлоном».
«Зрение – самое благородное из внешних чувств. Четыре других чувства просвещают нас только через посредство прикасающихся органов: мы слышим, ощущаем, обоняем и осязаем все благодаря прикосновению; зрение же стоит неизмеримо выше, оно утончается, превозмогая материю и приближаясь к духовным способностям».
«Если бы мы ставили себя на чужое место, то исчезли бы ревность и ненависть, которые мы часто испытываем к другим; а если бы мы ставили других на свое место, то у нас поубавилось бы гордости и самомнения».
«Раздумье и деянье кто-то сравнил с Рахилью и Лией: первая была более прекрасна, вторая – более плодовита».
«В жизни, кроме здоровья и добродетели, нет ничего ценнее знания; а его и легче всего достигнуть, и дешевле всего добыть: ведь вся работа – это покой, а весь расход – время, которое нам не удержать, даже если мы его не потратим».
«Если бы можно было копить время, как наличные деньги, не используя его, то это отчасти оправдывало бы праздность, которой предается полчеловечества; но только отчасти, потому что тогда это было бы хозяйство, в котором основной капитал проедается, а о процентах не заботятся».
«Новейшие поэты льют много воды в чернила».
«Среди множества чудовищных нелепостей, принятых в школах, одна кажется мне самой смехотворной из всех: это споры о подлинности древних писаний, древних произведений. Чем мы восхищаемся – автором или произведением? Что порицаем? Ведь перед нами – автор и только автор! Так что нам за дело до его имени, если мы истолковываем творение его духа?»
«Кто станет утверждать, будто перед нами – Гомер или Вергилий, только потому, что мы читаем приписываемые им слова? Перед нами – переписчики, но что нам нужно еще? Я в самом деле полагаю, что ученые, которые столь тщательно занимаются такими несущественными вещами, ничуть не умнее одной очень красивой дамы, которая однажды с самой умильной улыбкой спросила меня, кто же был автор трагедий Шекспира».
«Лучше сделать хотя бы пустяк, чем считать пустяком потерянные полчаса».
«Мужество и скромность – эти добродетели бесспорны: они таковы, что лицемерию их не подделать. И еще одно общее свойство есть у них: один и тот же цвет есть признак обеих».
«Среди всяческого ворья худшие воры – это дураки: они крадут и время и настроение».
«Самоуважение – исток нашей нравственности; способностью ценить других определяется наше поведение».
«Искусство и наука – эти слова употребляют очень часто, но редко понимают, в чем же точно разница между ними; поэтому часто одно употребляют вместо другого».
«Мне не нравятся и определения, которые им дают. Мне встретилось где-то сравнение науки с острословием, искусства – с юмором. В нем я нахожу больше фантазии, чем философии: оно дает некоторое понятие о различии науки и искусства, но никакого понятия – об особых свойствах того и другого».
«Я полагаю, науку можно назвать знанием всеобщего, отвлеченным знанием; искусство же, напротив, есть наука, примененная к делу. Наука – это разум, а искусство – его механизм, потому его можно назвать практической наукой. Таким образом, в конце концов оказывается, что наука – это теорема, а искусство – проблема».
«Быть может, мне возразят: поэзию считают искусством, а между тем в ней нет ничего механического. Но я не согласен, что поэзия есть искусство; вместе с тем она и не наука. К искусствам и наукам ведет мысль, к поэзии – нет, так как поэзия есть внушение свыше, она была уже зачата в душе, когда впервые зашевелилась в ней. Ее следует назвать не наукой и не искусством, а гением».
И сейчас, в наши дни, каждый образованный человек должен вновь брать в руки Стерна, чтобы и девятнадцатый век знал, чем мы ему обязаны, и предвидел, чем мы можем быть обязаны ему впредь.
С успехами литературы первичное движущее начало затмевается, верх берет то, что достигнуто благодаря вызванному им движению; поэтому благое дело – время от времени оглядываться назад. Все, что есть в нас оригинального,лучше сохранится и стяжает бо́льшую похвалу, если мы не потеряем из виду наших предков.
О, если бы изучение греческой и римской литературы навсегда осталось основой высшего образования!
Китайские, иудейские, египетские древности остаются всего-навсего курьезами; познакомиться с ними и познакомить с ними мир было благим делом, но для нашего нравственного и эстетического воспитания от них мало пользы.
Для немца нет большей опасности, чем тягаться с соседями и равняться по ним. Нет, пожалуй, народа, более способного к самостоятельному развитию; поэтому великой удачей было для него то, что внешний мир так поздно его заметил.
Если мы оглянемся на нашу литературу за полстолетия, то найдем, что в ней ничего не было сделано ради чужих.
Немцев разозлило, что Фридрих Великий не желал о них знать, и они постарались стать в его глазах хоть чем-то.
Теперь, когда возникла мировая литература, наибольшие потери грозят, если присмотреться внимательно, именно немцам, и благо им, если они задумаются над этим предостережением.
Даже самые проницательные люди не замечают, что они стремятся объяснять те первоосновы всякого опыта, дальше которых незачем углубляться.
Но пусть и это послужит нам на пользу, а не то всякое исследованье прекратится слишком рано.
В наши дни придется плохо тому, кто не приналяжет на какое-нибудь искусство или ремесло. В быстром коловращении мира знанье больше не помогает; прежде, чем успеешь все заметить, потеряешь самого себя.
Общее образование поневоле знакомит нас с миром, так что заботиться об этом незачем; усваивать нужно только частное.
Наибольшие трудности – там, где мы их не ищем.
Лоренс Стерн родился в 1713, умер в 1768 году. Чтобы понять его, нельзя упускать из виду принятое в его время церковное и нравственное воспитание; при этом следует помнить, что его современником был Уорбертон.
Душе, свободной, как у него, грозит опасность стать слишком дерзкой, если благородная доброжелательность не восстановит в ней нравственного равновесия.
При его легкой ранимости все в нем развивалось изнутри; благодаря непрестанным столкновениям с миром он научился отличать правду от лжи, первой держался непреклонно, а со второй беспощадно воевал.
Серьезность была ему глубоко ненавистна, так как она дидактична и догматична и легко становится педантической, а это вызывало у него глубокое отвращение. Отсюда – его неприязнь к терминологии.
Многое изучая и много читая, он повсюду открывал изъяны и смешные стороны.
«Шендизмом» он называет неспособность думать две минуты подряд о серьезных предметах.
Должно быть, эта быстрая смена серьезности и шутки, участия и равнодушия, боли и радости присуща ирландскому характеру.
Чутье и проницательность его беспредельны.
Его веселость, невзыскательность и терпеливость в путешествии, где эти качества подвергаются наибольшему испытанию, не имеют равных.
Как и всякий раз, когда нас развеселит зрелище свободной души подобного рода, так особенно в этом случае мы непременно вспомним, что из всего нас восхитившего мы ничего не вправе перенять.
Стихия сладострастия, в которой он ведет себя так изящно и умно, для многих была бы пагубна.
Заслуживает внимания его отношение к жене и к миру. «Я не использовал моего несчастья как мудрый человек», – говорит он где-то.
Он мило шутит над противоречиями, делавшими его положение двусмысленным.
«Я терпеть не могу проповедовать: видимо, я объелся проповедями в юности».
Ни в чем он не выставляет себя образцом, но везде указывает и пробуждает.
«По большей части наше участие в общественных делах – филистерство».
«Нет ничего драгоценней, чем один день».
«Pereant, qui ante nos nostra dixerunt!» [8]8
Да погибнут те, кто до нас сказал наши слова! (лат.)
[Закрыть].
Так удивительно мог сказать только тот, кто чувствовал себя автохтоном. Кто считает почетным свое происхождение от разумных предков, тот признает, что и они умели мыслить, по крайней мере, не хуже него самого.
«Самые оригинальные писатели нового времени оригинальны не потому, что сумели создать что-то новое, а только потому, что оказались способны говорить так, будто до них никогда не было сказано то же самое».
Поэтому прекраснейший признак оригинальности – умение так плодотворно развивать воспринятую извне мысль, чтобы трудно было найти, сколько всего за нею спрятано.
Многие мысли рождает само всеобщее просвещение, так же, как зеленая ветка – цветы. В пору цветения роз можно видеть розы повсюду.
По сути, все дело в воззрениях; где есть воззрения, появятся и мысли, и каковы воззрения, таковы будут мысли.
«Трудно воспроизвести что-либо с полной беспристрастностью. Зеркало, можно сказать, составляет тут единственное исключение, но и в нем мы не видим вполне точного отражения нашей внешности, потому что зеркало переворачивает изображенье и делает левую руку правой. Это – символ всех наших рассуждений о самих себе».
«Весной и осенью нелегко вспомнить об огне в камине, и все же случается, что, идя мимо горящего камина, мы находим вызываемое им чувство особенно сладостным и нам хочется подольше этому чувству предаваться. Пусть это будет подобием соблазна».
«Не будь нетерпелив, если твоим доводам не дают веры».
Кто всю жизнь водит знакомство только с важными особами, тому встретится, конечно, не все, что может встретиться человеку, но нечто аналогическое, а может быть, и нечто беспримерное.
«Стоял я в строгом склепе, созерцая…»

Стоял я в строгом склепе, созерцая,
Как черепа разложены в порядке,
Мне старина припомнилась седая.
Здесь кости тех, кто насмерть бились в схватке,
Забыв вражду, смирившись поневоле,
Лежат крестом. О кости плеч, лопатки
Могучие! Никто не спросит боле,
Что вы несли; оторван член от члена,
Нет связи жизни, деятельной воли.
Вы врозь лежите, руки и колена,
Вам мира нет: вывырваны в сиянье
Земного дня из гробового плена.
Нет в скорлупе сухой очарованья,
Где благородное зерно скрывалось.
Но мной, адептом, прочтено писанье,
Чей смысл святой не всем раскрыть случалось,
Когда средь мертвого оцепененья
Бесценное творенье мне досталось,
Чтоб в холоде и тесном царстве тленья
Я был согрет дыханием свободы
И жизни ключ взыграл из разрушенья.
Как я пленялся формою природы,
Где мысли след божественной оставлен!
Я видел моря мчащиеся воды,
В чьих струях ряд всё высших видов явлен.
Святой сосуд, – оракула реченья! —
Я ль заслужил, чтоб ты был мне доставлен?
Сокровище украв из заточенья
Могильного, я обращусь, ликуя,
Туда, где свет, свобода и движенье.
Того из всех счастливым назову я,
Пред кем природа-бог разоблачает,
Как, плавя прах и в дух преобразуя,
Она созданье духа сохраняет [9]9
Перевод С. Соловьева.
[Закрыть].
(Продолжение следует)
КОММЕНТАРИИ

Первые мысли о написании романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся» возникли у Гете, когда он заканчивал «Годы учения Вильгельма Мейстера». Свидетельством этого является письмо Ф. Шиллеру, который читал «Годы учения…» в рукописи и дал Гете много советов, принятых им во внимание. «Главный вопрос, о котором предстоит говорить по поводу романа, – писал Гете Шиллеру, – это где оканчиваются «Годы учения», которые, собственно, и должны быть даны, а затем – насколько нужно в дальнейшем еще раз выводить на сцену действующих лиц. Ваше сегодняшнее письмо, собственно, предлагает мне продолжить роман, о чем я и сам думаю с увлечением, но об этом тоже при свидании. Что необходимо по отношению к предшествующему, должно быть сделано, так же как нужно предуказать последующее, но должны остаться зацепки, которые, как и сам план, указывают на продолжение…» (12 июля 1796 г.)
Однако к работе над романом Гете приступил только одиннадцать лет спустя, о чем есть запись в его дневнике: «Утром в половине седьмого начал диктовать первую главу «Годов странствий Вильгельма Мейстера» (17 мая 1807 г.). Эта глава – «Святой Иосиф Второй». В том же году были написаны новеллы «Новая Мелузина» и «Опасное пари». К ним присоединяются задуманный еще в 1803 году рассказ «Пятидесятилетний мужчина» и «Смуглолицая девушка», одновременно Гете перевел с французского «Безумную скиталицу», также вошедшую в состав «Странствий…».
Таким образом, с самого начала «Годы странствий Вильгельма Мейстера» были задуманы как собрание новелл, скрепленных обрамлением – повествованием о путешествиях Вильгельма Мейстера, предпринятых по велению Общества башни (в новом романе его члены называются – Отрекающиеся), в ряды которого он вступил (см. седьмую книгу «Годов учения Вильгельма Мейстера»).
Не торопясь с осуществлением общего замысла, Гете печатает отдельные эпизоды – новеллы: так появляются «Безумная скиталица» (1808) и «Святой Иосиф Второй» (1809); издание второго рассказа Гете сопроводил заметкой, извещавшей читателей, что это произведение – часть «Годов странствий Вильгельма Мейстера». Таким образом, было сообщено читателям о подготовке продолжения «Годов учения Вильгельма Мейстера».
Гете много думал о том, каким должен стать новый роман, изучал для него разные вопросы, делал записи. Однако этот замысел был у него далеко не единственным; в 1810 году Гете занялся сначала автобиографией, а затем, с 1814 года, – «Западно-восточным диваном». Но и продолжение истории Вильгельма Мейстера не было совершенно позабыто, о чем говорит дальнейшая публикация новелл, впоследствии вошедших в роман. В течение ряда лет в печати появились: «Смуглолицая девушка» (1816), «Новая Мелузина» (1817–1818) и начало «Пятидесятилетнего мужчины» (1818). В 1819 году он задумывает новеллу «Кто предатель?» и заканчивает ее через год.
В целом, однако, работа над романом прервалась на десять лет. Гете вернулся к нему лишь в конце 1820 года и, перечитав старую рукопись, испытал странное чувство: «Она кажется мне неким возвратившимся духом, однако гораздо более молодым и приятным, чем нынешний автор и нынешнее время» (Сульпицию Буассерэ, 9 декабря 1810 г.).
В 1821 году роман вышел в свет с обозначением, что это всего лишь первая часть. Она состояла из восемнадцати глав. Книга начиналась историей Иосифа Второго, затем следовали встреча Вильгельма с Монтаном, посещение дяди, поездка к Ленардо, описание Педагогической провинции, новелла «Пятидесятилетний мужчина» (точнее, ее начало), путешествие на Лаго-Маджоре, продолжение описания Педагогической провинции, участие Вильгельма в горном празднике. Далее Вильгельм видит через подзорную трубу Наталию, вместе с группой путешественников, оказавшихся на соседней горе, – этот эпизод в окончательный вариант романа не вошел. Зятем Вильгельм встречается с людьми, намеревающимися эмигрировать, и в их кругу слышит рассказы «Новая Мелузина», «Безумная скиталица» и «Кто предатель?». Заключала первую часть речь Ленардо (в окончательном варианте кн. III, гл. 9). Отсутствовали в первом варианте романа глава о Макарии (I,10), занятия Вильгельма хирургией (II, 11; III, 3), споры о происхождении земли (II, 9), планы переселения бедняков в Америку и товарищество ремесленных и сельскохозяйственных рабочих в Германии (III, 4, 10–12). Введение этих глав в окончательный текст придало роману социально-философскую масштабность, которой недоставало первому варианту: там главные идейные мотивы были выражены в Педагогической провинции. Эта важная часть во втором варианте не только сохранена, но и несколько расширена, хотя здесь она становится лишь одним из аспектов той широкой социальной утопии, которую создает Гете. Окончательный текст был дополнен также историей любви Феликса к Герсилии, дневником Ленардо, содержащим описание быта и трудовой деятельности жителей горных местностей. Все, связанное с Макарией, как уже сказано, в первом варианте полностью отсутствовало; во втором – помимо уже указанной главы 10 первой книги – Гете вводит в разные главы ссылки на значение этой героини для других персонажей. Своей кульминации духовное значение и влияние Макарии достигает в конце романа (III, 14).
В окончательном варианте было изменено также и расположение новелл. Многочисленные планы свидетельствуют о том, насколько тщательно разрабатывал Гете композицию романа.
«Годы странствий Вильгельма Мейстера» значительно отличаются от всех других романов Гете. В «Страданиях юного Вертера», «Годах учения Вильгельма Мейстера», «Избирательном сродстве» есть обычный романный сюжет и четкая композиция, строящаяся вокруг судьбы главного героя и близких ему лиц. В «Годах странствий…» Вильгельм Мейстер, по сути, является лишь номинальным героем. Повествование лишено единства, распадается на отдельные, не связанные друг с другом эпизоды, пестрит вставными новеллами, не имеющими никакого отношения к судьбе героя.
Роман «Годы странствий Вильгельма Мейстера» был создан в эпоху господства романтизма: вторая и окончательная его редакция вышла в свет в 1829 году. Социальные идеи романа были встречены в штыки консерваторами, но вызвали дискуссии также и в либеральных кругах. Клерикалы резко осудили отношение Гете к религии. Что же касается художественной формы романа, то она была совершенно не понята современниками. Вплоть до нашего времени утвердилось мнение, что «Годы странствий…» – старческий роман, отразивший ослабление творческих потенций писателя. Типично в этом отношении мнение немецкого литературоведа начала века А. Бельшовского, которое затем неоднократно повторялось, и варьировалось, что «излюбленное поэтом спаивание и сковывание совсем разнородных тел и обломков возбуждает чувство досады, и это чувство еще усиливается вследствие невероятной небрежности редакции… После того как поэт отказался от мысли дать в этом романе художественное произведение, он и вообще перестал обращать внимание на сколько-нибудь тщательную обработку со стороны структуры» (А. Бельшовский. Гете, его жизнь и произведения, т. II. СПб., 1908, с. 462).
Обоснованность такого мнения на первый взгляд подтверждается рассказом друга и постоянного собеседника писателя, И.-П. Эккермана о том, что при подготовке романа к печати Гете ошибся в расчете из-за размашистого почерка переписчика. По договоренности с издателем роман должен был занять три тома, но при наборе выяснилось, что текста хватит только на два. Тогда Гете дал Эккерману толстые связки своих ненапечатанных рукописей, предложив ему выбрать из них материал на шесть – восемь печатных листов, чтобы заполнить пробелы. Сюда же Гете решил добавить два стихотворения, законченных в то время.
Вот как описан этот эпизод у Эккермана в его книге «Разговоры с Гете»:
«Он послал за мною, посвятил меня в то, что произошло, и в то, как он намерен выпутаться из этой истории, потом велел принести две толстые пачки рукописей и положил их передо мною. «В этих двух пакетах лежат разные, никогда еще не печатавшиеся работы, отдельные заметки, законченные и незаконченные вещи, афоризмы, касающиеся естествознания, искусства, литературы, жизни, наконец, – все вперемешку. Хорошо бы, вы взялись отредактировать и подобрать листов эдак от шести до восьми, чтобы, пока суд да дело, заполнить пустоты в «Годах странствий». Говоря по совести, это к роману прямого отношения не имеет, оправданием мне может служить только то, что в романе упоминается об архиве Макарии, в котором имеются такие записи. Следовательно, мы сейчас сами выберемся из большого затруднения, да еще вывезем на этой колымаге множество значительных и полезных мыслей на потребу человечества».
Я принял предложение, тотчас же засел за работу и закончил редактирование отрывков в короткое время. Гете, по-видимому, был очень доволен. Он соединил весь материал в две большие группы; одну мы дали под заглавием: «Из архива Макарии», другую назвали: «Размышления в духе странников», а так как Гете к этому времени закончил два замечательных стихотворения: «Перед черепом Шиллера» и «Завет» (1827) – и ему хотелось немедленно же ознакомить мир с этими стихотворениями, то мы присоединили их к заключению обеих частей».
Далее Эккерман рассказывает: «Но когда «Годы странствий» вышли в свет, никто толком не знал, как отнестись к этому роману. Действие его то и дело прерывалось загадочными изречениями, смысл коих был понятен только специалистам, то есть художникам, естествоиспытателям и литераторам, остальные читатели, и прежде всего читательницы, пребывали в растерянности. Оба стихотворения тоже, можно сказать, остались непонятыми, никто не мог взять в толк, как они сюда попали.
Гете смеялся. «Теперь уж ничего не поделаешь, – сказал он тогда, – придется вам при подготовке к изданию моего литературного наследства разместить все как надлежит, дабы «Годы странствий» без вставок и без этих двух стихотворений уместились в двух томах, как оно и было задумано поначалу». (Эккерман. Разговоры с Гете. 15 мая 1831 г.).
Изменения, указанные Гете, были осуществлены в последующих изданиях. С таких сокращенных текстов роман был переведен и на русский язык. Однако уже в 1913 году появились две работы, указывавшие на важность идейных и художественных основ первопечатного текста «Годов странствий Вильгельма Мейстера»: статья Э. Вольфа «Первоначальный облик «Годов странствий Вильгельма Мейстера» («Goethe-Jahrbuch», 34, 1913) и монография Макса Вундта (Max Wundt. Goethes «Wilhelm Meister», 1913). Исследования гетеведов показали, что если просчет в объеме рукописи и имел место, то вставки в роман не были случайными.
Уже в «Избирательном сродстве» имеется целый раздел афоризмов, авторство которых приписано Оттилии, хотя далеко не все они соответствуют ее характеру и жизненному опыту. В «Годах странствий…», в главе 10 первой книги, Анжела подробно рассказывает Вильгельму об архиве Макарии и показывает ему это собрание рукописей, обещая позволить сделать из него выписки. В конце этого описания прямо говорится, что читатель в дальнейшем при первой возможности будет ознакомлен с извлечениями из архива.
Эти выписки должны были первоначально быть расположены в конце первой книги: об этом есть прямое указание в одном из предварительных планов. Однако в процессе завершения романа Гете кое-что изменил: рассуждения «Из архива Макарии» следуют за третьей частью, а после второй части помещены «Размышления в духе странников». В сообщении Эккермана явно можно поверить тому, что Гете сказал об этих собраниях афоризмов, а именно: «…на этой колымаге… вывезем множество значительных и полезных мыслей на потребу человечества».
Уже работая над «Годами учения Вильгельма Мейстера», Гете признавался: «…если бы я захотел изображать все пространнее и подливать в рассуждения побольше воды, то из последнего тома легко было бы сделать два; но, по-моему, он в своем концентрированном виде все же произведет лучшее и более длительное впечатление» (Ф. Шиллеру, 25 июня 1790 г.). Гете все время колебался между желанием высказать побольше мыслей и необходимостью сдерживать себя ради большей сжатости изложения. «Я оборвал в седьмой части «Наставление», в котором даны пока только очень немногие изречения об искусстве и художественном вкусе», – сообщал он Шиллеру по поводу «Годов учения Вильгельма Мейстера». – Во второй его половине должны были быть помещены значительные мысли о жизни и о смысле жизни, и у меня была бы великолепная возможность, пользуясь устными комментариями аббата, объяснить и узаконить как все события вообще, так и, в особенности, те, которые были вызваны силами Башни; таким образом, я мог бы оградить всю эту махинацию от подозрения, что она вызвана только холодными потребностями романа, и этим придал бы ей эстетическую ценность, или, вернее, осветил бы ее эстетическую ценность» (9 июля 1796 г.).
Эти размышления, связанные еще с первым романом о Вильгельме Мейстере, позволяют предполагать, что, создавая «Годы странствий», Гете, вероятно, испытывал подобные же колебания. Первоначально он, по-видимому, сознательно сжимал объем романа, но, когда открылась известная нам возможность расширить его, поручил Эккерману щедро дополнить книгу афоризмами.
Аргументы Э. Вольфа и М. Вундта убедили гетеведов XX века, что каноническим следует считать второе, прижизненное издание романа, а не сокращенную редакцию Эккермана в посмертном издании. Первыми восстановили подлинный текст в редактированных ими изданиях сочинений Гете Э. Бойтлер в 1949 году и Э. Трунц в 1950 году. Настоящее собрание также воспроизводит полный текст романа.
Следует, однако, оговорить, что эккермановская редакция романа сохраняет свою ценность так же, как первый вариант «Геца фон Берлихингена», «Страданий юного Вертера», как «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» и другие творения Гете, дошедшие до нас в разных редакциях. В каждом случае открывается художественная многогранность Гете, его желание сделать однажды созданное еще более совершенным.
Изменение отношения к двум редакциям «Годов странствий» было обусловлено глубокими сдвигами в эстетических оценках, происшедшими под влиянием некоторых явлений в художественной литературе XX века. В их свете то, что представлялось небрежностью и придавало композиции романа случайный характер, начали понимать как совершенно новый подход Гете к принципам композиции. Стало ясно, что отказ от традиционных приемов повествования, и в первую очередь от четко выстроенной фабулы, был намеренным. Это видно также из следующего заявления Гете: «Эта книжечка – то же самое, что и сама жизнь; в комплексе целого находишь и необходимое, и случайное, и преднамеренное, и неожиданно возникшее; одно удалось, другое – нет, и это придает ему своего рода бесконечность, которую нельзя понятными и разумными словами ни вполне выразить, ни до конца исчерпать» (Рохлицу, 23 ноября 1829 г.).
Слова эти – ключ к пониманию художественной формы романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Это роман нового типа, герой которого не отдельное лицо, а вся жизнь, в ее многообразии, в ее течении и изменчивости, в переплетении прошлого, настоящего и будущего. Своим произведением Гете в некоторой степени предвосхитил так называемый «экспериментальный роман» XX века с его стремлением проникнуть в самые глубины мысли и чувства и одновременно охватить движение жизни во всем ее объеме.
В отличие от Э. Золя, который в пределах сложившейся формы романа второй половины XIX века производил художественный «эксперимент» взаимодействия человека (как биологической особи) и социальной среды, у Гете экспериментальной является и сама форма романа. Писатель задумал вместить в этот жанр не совсем обычное содержание: его произведение – не столько роман о человеческих судьбах, сколько роман идей. Идейное богатство характеризует и «Годы учения Вильгельма Мейстера», но там перед нами – волнующие человеческие судьбы (Мариана, Миньона, арфист), многочисленные жизненно важные события; все это разыгрывается на фоне реальной немецкой жизни, во вполне реальных замках, гостиницах, бюргерских жилищах, на опасных для путешествия дорогах. В «Годах странствий Вильгельма Мейстера» даже названные и описанные реалии приобретают нереальный, символический характер. Действие происходит не в той Германии, которая существовала во времена Гете, и не в той, которая была раньше, а как бы на рубеже будущего. Так как Гете не мог еще вполне постигнуть ту реальность, которая приходила на смену добуржуазной эпохе, а мысль его стремилась проникнуть именно в будущее, то это определило художественное своеобразие книги: она и роман и не роман, это некая «книга мудрости», как сказал о «Годах странствий…» Ф. Гундольф, ставя их в один ряд с «Государством» Платона и «Письмами об эстетическом воспитании человека» Ф. Шиллера.