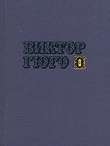Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Герсилия – Вильгельму
Уже долгие годы я слышу от всего света упреки в том, что я девица своенравная и сумасбродная. Пусть так, но моей вины в том нет. Людям приходится быть со мной терпеливее, а теперь и мне надобно больше терпения, чтобы сносить самое себя с моей несносной фантазией, которая то и дело приводит ко мне отца и сына, то вместе, то порознь. Я кажусь себе невинною Алкменой, которую посещали все время два существа в одной роли.
Мне многое нужно Вам сказать, и все же пишу я Вам, по всей видимости, только тогда, когда должна поведать о каком-нибудь приключении; конечно, и сверх того приключается много разного, но не все можно назвать приключением. Вот вам сегодняшнее:
Сижу я под высокими липами и заканчиваю бювар, очень красивый, хотя я сама еще не знаю, кто его получит – отец или сын, но непременно один из них. И вдруг ко мне подходит молоденький разносчик с корзинками и коробками и прежде всего удостоверяет свое право торговать в наших имениях бумагой, выданной одним из служащих. Я пересматриваю все до последней мелочи: обычные пустяки, никому не нужные, но всеми покупаемые ради ребячливой охоты приобретать и тратить деньги. Мальчишка внимательно меня разглядывает. Глаза у него черные, плутоватые, брови хорошо очерченные, кудри пышные, зубы ослепительно-белые, – словом, вы меня поймете, что-то восточное.
Он задает мне вопросы о разных лицах из нашего семейства, которым он мог бы что-нибудь предложить, и всякими уловками добивается того, что я называю мое имя. «Герсилия, – говорит он скромно, – Герсилия простит меня, если я передам ей послание?» Я в удивлении гляжу на него, он достает крохотную аспидную доску в белой рамке, какие делают в наших горах, чтобы дети учились писать; я беру ее в руки, вижу, что она исписана, и читаю тщательно нацарапанную острым грифелем надпись:
«Феликс
любит
Герсилию.
Шталмейстер
скоро явится».
Я ошеломлена, я с изумлением гляжу на то, что сама держу в руках и вижу своими глазами, но еще больше удивляюсь тому, что судьба – причудница почище меня. «Что все это значит?» – говорю я себе, и маленький плут предстает передо мной как никогда явственно, словно его портрет запечатлен в моих глазах.
Я пускаюсь в расспросы, но получаю странные, неудовлетворительные ответы; я учиняю допрос – и ничего не узнаю; я думаю о происшедшем и не могу связать мысли. Наконец из всех наших толков и перетолков я заключаю, что юный разносчик проходил через Педагогическую провинцию, сошелся там с моим столь же юным поклонником, каковой и написал на купленной у него дощечке надпись и обещал ему за одно словечко от меня щедрые подарки. Мальчишка немедля протянул мне такую же дощечку, показав, какой большой запас их лежит у него в коробе, и вместе с нею грифель; при этом он так ласково настаивал и просил, что я взяла то и другое, думала-думала и, ничего не придумавши, написала:
«Феликсу
привет
от Герсилии.
Шталмейстер,
веди себя хорошо!»
Потом я поглядела, что написала, и рассердилась на себя за неловкость выражения. И не ласково, и не умно, и не остро – одно только замешательство, а из-за чего? Передо мной стоял мальчишка, такому же мальчишке я писала, – неужели этого довольно, чтобы меня смутить? По-моему, я вздохнула и собралась стереть написанное, но он осторожно забрал у меня дощечку, попросил что-нибудь, чтобы тщательнее завернуть ее, и тут я, сама не знаю как, вложила ее в бювар, перевязала лентой и протянула мальчишке, который с милой улыбкой взял упакованную дощечку, низко поклонился мне и еще немного помедлил – ровно столько, что я успела сунуть ему в руку мой кошелечек, а потом корила себя, что мало ему заплатила. Он поспешил прочь, и когда я поглядела ему вслед, он уже непонятным образом исчез.
Теперь все позади, я снова спустилась на плоскую почву будней и едва смею верить, что это было. Но разве нет у меня в руках дощечки? Она такая изящная, буквы на ней такие красивые и аккуратные; я расцеловала бы ее, когда бы не боялась их стереть.
Написав все это, я на время отложила перо, но что бы я об этом ни думала, толку нет никакого. В этом мальчишке было что-то таинственное; теперь без таких фигур не обходится ни один роман, но неужели нам суждено встречать их и в жизни? Подозрительный на вид, он чем-то нравится; чужак, он внушает доверие; почему он ушел раньше, чем рассеялось мое замешательство? Почему мне не хватило ума задержать его под благовидным предлогом?
После перерыва я вновь берусь за перо, чтобы продолжить мою исповедь. Столь решительная и стойкая склонность мальчика на пороге юности могла бы мне льстить, но мне пришло в голову, что это не в диковину, когда в таком возрасте заглядываются на женщин, старших годами. Ведь в самом деле, самых молодых мужчин загадочным образом тянет к женщинам старше них. Прежде, когда меня это не касалось, я только зло посмеивалась, считая, что обнаружила причину такой склонности: они просто не успели позабыть, как ласкали их во младенчестве кормилицы, и отвыкнуть от этих ласк. Но думать то же самое на свой счет мне досадно, – ведь так я унижаю милого Феликса, считая его совсем уже дитятей, и сама оказываюсь в весьма невыгодном положении. Вот как по-разному мы судим о себе и о других!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯВильгельм – Наталии
Уже несколько дней я хожу вокруг да около и все не решаюсь взяться за перо: сказать нужно многое, в разговоре все шло бы одно за другим, одно цеплялось бы за другое, но в разлуке позволь мне начать с самых общих слов, они сами собой приведут меня к тем чудесам, о которых я должен сообщить тебе.
Ты слышала о том, как некий юноша, гуляя по берегу моря, нашел уключину, и она так раздразнила его любопытство, что он раздобыл весло, без которого уключина ни к чему. Но и весло было бесполезно; тогда он рьяно взялся добывать лодку – и это ему удалось. Но и от лодки, весла и уключины было мало проку; тогда он достал мачты, паруса, а следом, одно за другим, и все, что потребно для быстрого и удобного плаванья. Благодаря своей целеустремленности, он достигает немалой ловкости и сноровки, удача ему сопутствует, и в конце концов он оказывается хозяином и капитаном судна много больше первого; успехи его возрастают, он богатеет и приобретает почет и славу среди мореходов.
Хотя я и заставил тебя перечитать эту занятную историю, но должен сознаться, что она имеет весьма отдаленное отношение к делу и только облегчает мне путь, помогая выразить то, что я должен тебе сообщить. А покамест мне придется опять начинать издалека.
Заложенные в людях способности могут быть разделены на общие и частные; под общими следует разуметь пребывающие в покое и в безразличии способности, которые те или иные обстоятельства пробуждают, а случай направляет к какой-нибудь цели. К общим способностям принадлежит дар подражания: человек стремится повторять, воспроизводить то, что видит, не имея к тому ни внешних, ни внутренних возможностей. Поэтому естественно, что он хочет делать то, что делают у него на глазах, и самым естественным было бы, если бы сын перенимал ремесло отца. Здесь сочетается все: частная способность, быть может, отроду присущая нам и направляемая самим нашим происхождением, затем постепенно приобретаемая и совершенствуемая в упражнении сноровка и развитый талант, который заставляет нас и тогда следовать по начатому пути, когда в нас просыпаются другие влечения и свобода выбора, по-видимому, могла бы толкнуть нас к делу, для которого природа не наделила нас ни задатками, ни упорством. Потому, если брать на круг, счастливее всех те люди, которые у себя дома совершенствуют врожденный, наследственный талант. Мы видели такие династии живописцев: среди них были и слабые таланты, но даже они создавали вполне сносные вещи, быть может, лучше тех, что они, при их ничтожных природных силах, сделали бы, когда бы занимались другим, выбранным по своему почину, ремеслом.
Это опять не то, что я хотел сказать, придется сделать еще одну попытку и подойти к моим новостям с другой стороны.
Вот что самое печальное в разлуке с друзьями: если в их присутствии мы мгновенно обмениваемся с ними теми мыслями, которые суть промежуточные, связующие звенья, то вдали от них мы не можем высказывать эти мысли в их сиюминутной связи и сцеплении. Итак, начну с одной истории, случившейся со мною в самом раннем детстве.
Мы, выросшие в почтенном старом городе дети, имели понятие об улицах и площадях внутри городских стен, о валах и гласисах и о соседних, обнесенных стенами садах. Чтобы хоть однажды вывезти нас, а скорее самих себя, на вольный воздух, родители давно уже договорились с деревенскими друзьями о визите к ним, но все время его откладывали. Наконец более настоятельное приглашение приехать на троицу было принято, но при условии устроить все так, чтобы до ночи быть дома: лечь спать иначе как в свою привычную постель казалось делом немыслимым. Уместить столько удовольствий в один день было нелегко: следовало навестить два дружественных семейства, удовлетворив притязания обоих принять редких гостей, – однако взрослые надеялись выполнить все с величайшей точностью.
На третий день праздника все встали спозаранок, готовые в путь, повозку подали к назначенному часу, и скоро все стеснявшие нас в городе улицы, ворота, мосты и рвы остались позади, вольный мир широко раскинулся перед глазами новичков. Только что освеженная ночным дождем зелень лугов и нив, и более светлая зелень недавно лопнувших на деревьях и кустах почек, и разливавшаяся во все стороны белизна плодовых деревьев в цвету – все сулило нам часы райского блаженства.
В назначенный час прибыли мы к первому нашему пристанищу у одного почтенного пастора. Принятые весьма радушно, мы вскоре убедились, что и пропустив церковный праздник, ищущие покоя и воли души праздника не лишаются. Я с радостным любопытством созерцал впервые в жизни утварь и убранство деревенского дома; плуг и борона, повозки и телеги свидетельствовали о том, что не стоят без дела, и даже отвратительный на вид навоз казался необходимейшим предметом в этом обиходе, – так тщательно он был собран и так красиво уложен. Однако вскоре этот свежий взгляд, охватывавший столько новых и все-таки понятных предметов, жадно остановился на угощенье и уже не мог оторваться от аппетитных пирогов, свежего молока и прочих сельских лакомств. Потом дети покинули садик при доме и уютную беседку и поспешили в прилегающую рощу, чтобы выполнить поручение предусмотрительной старой тетушки: нарвать и бережно доставить в город как можно больше первоцвета, из которого домовитая матрона имела обыкновение готовить пользительное питье.
Покуда мы, занятые сбором, бегали по лугам, по опушкам и вдоль изгородей, к нам примкнули деревенские дети, и приятный запах собранных вешних цветов становился, казалось, все живительней и благоуханнее.
Мы нарвали столько стеблей с цветами, что уже не знали, куда их девать, и стали отщипывать желтоватые трубчатые венчики, в которых, собственно, и было все дело; каждый старался набрать их столько, сколько помещалось в его шапочке или шляпе.
Однако старший из этих мальчиков, сын рыбака, годами не намного меня обогнавший и с первого своего появления больше всех мне нравившийся, не находя удовольствия в возне с цветами, позвал меня на речку, что протекала неподалеку и была в ту пору довольно полноводной. Мы сели с удочками в тенистом месте, где в глубокой, тихой и прозрачной воде сновали рыбки. Он по-дружески показал мне, что надобно делать, как наживлять крючок, и я спроворился несколько раз подряд вытащить на воздух самых маленьких из этих нежных тварей, вовсе того не желавших. Когда мы посидели некоторое время неподвижно, прислонясь друг к другу, приятель мой, как видно, заскучал и указал мне на покрытую галькой косу, врезавшуюся в реку с нашего берега: здесь, мол, лучше всего можно искупаться. Потом он вскочил, воскликнув, что не может удержаться от соблазна, и не успел я оглянуться, как он сбежал вниз, разделся и нырнул.
Превосходно плавая, он скоро покинул заводь, отдался силе течения и доплыл до меня по глубокой воде; а мне стало в тот миг как-то не по себе. Вокруг меня прыгали кузнечики, ползали муравьи, пестрые жуки висели на ветках, у моих ног, как духи, парили и порхали «бабки» (так он называл стрекоз), а сам он, вытащив из-под коряги большого рака, весело показал мне его и опять ловко засунул на место, чтобы потом изловить. Воздух был горячий и влажный, с солнцепека манило в тень, из прохладной тени – в еще более прохладную воду. Ему не так трудно было соблазнить меня: приглашение, даже не столь настойчиво повторяемое, было для меня неотразимо, но мне мешал страх перед родителями и боязнь незнакомой стихии, отчего я и пришел в странное волнение. Однако вскоре, сложив на косе одежду, я отважился осторожно войти в воду, но не дальше, чем шло отлогое дно. Здесь мой приятель оставил меня, отплыл, относимый поддерживающей его стихией, воротился, а когда он вышел из воды и выпрямился, чтобы обсушиться на солнце, мне показалось, что в глаза мне ударил втрое сильнейший солнечный свет: так прекрасно было человеческое тело, о котором я не имел ни малейшего понятия. Меня он, казалось, рассматривал с таким же вниманием. Даже поспешно одевшись, мы все еще как бы стояли друг перед другом нагие, наши души тянулись друг к другу, и, жарко облобызавшись, мы поклялись в вечной дружбе.
Потом мы быстро-быстро побежали домой и поспели как раз вовремя: общество уже отправилось пешком к обиталищу судьи, до которого было часа полтора ходу приятной дорогой через лес и кустарники. Мой друг провожал меня, казалось, мы уже стали неразлучны; но когда я на полдороге попросил разрешения взять его с нами к судье, пасторская жена воспротивилась, шепотом заметив, что это неудобно, а ему дала срочное поручение: сказать отцу, когда вернется, чтобы к ее возврату он непременно припас хороших раков, – их предполагалось дать с собой гостям в город как великую редкость. Мальчик ушел, но перед тем клятвенно мне обещал нынче вечером ждать меня на опушке леса.
Общество прибыло к судье: в доме у него все было так же по-деревенски, разве что чуть побогаче. Из-за чрезмерного усердия хозяйки обед запаздывал, но я ждал без нетерпения, – так интересно мне было гулять по отлично возделанному цветнику с дочкой судьи, девочкой немного младше меня. Разнообразные весенние цветы уже взошли, сплошь покрывая красиво очерченные куртины или окаймляя их по краям. Моя спутница была белокура, хороша собой и ласкова, мы, как близкие друзья, гуляли с нею, потом взялись за руки, и, кажется, нам не надобно было больше ничего на свете. Мы шли мимо тюльпанных гряд, мимо высаженных рядами нарциссов и жонкилей, она показывала мне клумбы, где недавно отцвели великолепные гиацинты. Зато в других местах вперед позаботились о наступающем лете и об осени: уже зеленели кусты, на которых предстояло расцвесть анемонам и пионам, тщательность, с какой высажены были бессчетные стебли гвоздик, была залогом пышного их цветения, более близкую надежду сулили многочисленные бутоны на побегах лилии, со вкусом рассаженных между розами. А сколько жимолости, сколько кустов жасмина, сколько вьющихся лоз и ползучих стеблей обещало распуститься и дать тень беседкам!
Когда я смотрю сейчас, спустя много лет, на тогдашнее свое состояние, оно представляется мне поистине завидным. Неожиданно и одновременно испытал я предчувствие дружбы и любви. Ибо когда я неохотно прощался с маленькой красавицей, меня утешала мысль о том, как я открою и поведаю мои чувства новому другу и заодно с этими неведомыми прежде ощущениями мне доставит радость его участие.
Если добавить еще одно общее соображение, то должен признаться, что всю мою жизнь этот впервые увиденный мир в цвету представляется мне истинной живой натурой, а все последующие чувственные впечатления были лишь копиями с нее, в которых, при всей их близости к природе, не хватало изначального духа и смысла.
В какое отчаянье привела бы нас холодная безжизненность внешнего мира, если бы нечто возникающее в нас самих не придавало природе особую красоту, даруя нам творческую силу самим становиться краше вместе с нею!
Уже смеркалось, когда мы подошли к тому месту на опушке, где мой новый друг обещал ждать меня. Я изо всех сил напрягал зрение, чтобы обнаружить, на месте ли он; когда это мне не удалось, я бегом опередил медленно шествовавшее общество и стал рыскать по кустам. Я звал, я был полон боязни; его нигде не было видно, он не откликался, я впервые испытал двойную и тройную муку обманутого чувства.
Возникшая во мне потребность в дружеской симпатии уже не знала границ, мне во что бы то ни стало нужно было поговорить о белокурой девочке и тем изгнать ее образ из моих мыслей, избавить сердце от пробужденных ею чувств. Оно было переполнено, и губы мои что-то бормотали, давая выход преизбытку; я вслух бранил ни в чем не повинного мальчика за то, что он оскорбил нашу дружбу, что нарушил обещание.
Но мне назначено было пройти и более тяжкое испытание. Из домиков на околице с криком выбегали женщины, за ними с ревом неслись дети, толком никто ничего не отвечал. Но тут мы сами увидели, как из-за угла крайнего дома появилось печальное шествие, медленно тянувшееся вдоль длинной улицы; казалось, то были похороны, но не один, а несколько сразу, ибо покойников несли одного за другим без конца. Вопли не прекращались, множились, сбежалась толпа. «Они потонули, все, все потонули! Вот он! Кто? Который?» Матери, если видели рядом всех своих чад, успокаивались. Вперед вышел сурового вида человек и обратился к пасторше: «По несчастью, я задержался слишком долго. Мой Адольф утонул сам-пят, хотел выполнить обещание и за себя, и за меня». Мужчина – это и был рыбак – нагнал шествие, а мы стояли, оцепенев от ужаса. Тут к нам подошел маленький мальчик, протянул мешок и со словами: «Вот раки, госпожа пасторша», – поднял вверх улику. Все отдернули руки, словно боясь невесть какого вреда, потом стали расспрашивать и узнали вот что: малыш один оставался на берегу и собирал раков, которых бросали снизу остальные. После новых расспросов узнали еще, что Адольф, спустившись, ходил вдоль реки и заходил в воду еще с двумя мальчиками, такими же умелыми ловцами; к ним пристали другие двое, помладше, их никто не звал, но удержать их нельзя было ни бранью, ни угрозами. Первые уже почти миновали опасное каменистое место, но двое отставших, скользя на камнях и цепляясь друг за друга, повалили один другого, а потом потянули и шедшего впереди, и так все попадали в воду на глубоком месте. Адольф, будучи хорошим пловцом, спасся бы, но все в ужасе хватались за него и потянули на дно. Тогда малыш с криком помчался в деревню, не выпуская из рук полного раков мешка. Среди созванных им людей к реке поспешил и случайно замешкавшийся с возвратом рыбак; детей одного за другим выловили, но они были уже мертвы, и сейчас их несли в деревню.
Пастор в горести направился вместе с моим отцом в сельскую управу. Взошла полная луна и осветила тропы смерти. Я порывался следом за ними, но меня не впускали, и состояние мое было ужасно. Тогда я стал безостановочно ходить вокруг дома, пока не понял, что может мне помочь, и не залез в открытое окно.
В большой зале, предназначенной для всякого рода собраний, были уложены на соломе злосчастные дети, нагие, вытянувшиеся и такие бледные, что белизна тел выделялась даже в тусклом свете лампы. Я упал на грудь старшего, на широкую грудь моего друга; не помню, что со мною творилось, я горько плакал, заливая труп слезами. Я что-то слышал о растирании, которое может помочь в таких случаях, и вот я стал втирать в тело мои слезы, обманывая себя вызванной трением теплотой. В растерянности я задумал вдуть ему в уста воздух и оживить дыхание, но его жемчужные зубы были стиснуты, губы, еще хранившие, казалось, след нашего прощального поцелуя, не подавали в ответ ни малейшего признака жизни. Отчаявшись в человеческой помощи, я обратился к молитве; я плакал, я молился, мне мерещилось, что в эту минуту я непременно сотворю чудо, заставлю его душу очнуться, если она не покинула тела, или вернуться, если она витает поблизости.
Меня оторвали от тела силой; в повозке я плакал и рыдал и едва слышал, что говорят родители; между тем матушка твердила то, что я потом слышал постоянно: во всем надо положиться на волю божью. Постепенно я заснул, а наутро проснулся поздно, и на душе у меня было мрачно и смутно.
Спустившись к завтраку, я застал матушку за важным совещанием с теткой и кухаркой. Раков нельзя было ни варить, ни подавать на стол, так как отец не желал видеть столь непосредственного напоминания о недавнем несчастье. Тетка, судя по всему, страстно хотела заполучить этих редких тварей, но одновременно обрушилась на меня за то, что мы не привезли ей первоцвета; впрочем, она успокоилась, как только ей отдали в полное распоряжение кишащих маленьких чудовищ, о дальнейшем предназначении которых она и стала совещаться с кухаркой.
Чтобы стал ясен смысл этой сцены, мне придется подробнее написать о характере и нраве этой особы; преобладавшие в ней свойства никак не заслуживали похвалы с точки зрения нравственной, но если глядеть на них со стороны гражданской и политической, они оказывались весьма полезны. Она была в полном смысле слова скрягой, ей жаль было расстаться с каждым грошом, и все свои потребности она старалась удовлетворить заменителями, которые можно добыть задаром, или в обмен, или еще как-нибудь. Так первоцвету предназначалось служить вместо чая, и этот чай считался у нее пользительнее китайского. Дескать, бог дал каждой стране все необходимое, будь то пища, пряности либо лекарства, а поэтому нет нужды прибегать к помощи чужих стран. В своем садике она разводила все, что, на ее взгляд, могло придать вкус кушаньям и принести помощь больным, и не бывало случая, чтобы она, посетив чужой сад, не принесла оттуда чего-нибудь в этом роде.
И такой взгляд на вещи, и его последствия ей еще можно было бы простить, тем более что ее ревностно накапливаемая наличность в конце концов должна была достаться семье, и действительно, мои мать с отцом не перечили и даже помогали ей в этом.
Но у нее имелась еще одна страсть, деятельная и обнаруживавшая себя в неустанных хлопотах; это была спесивая потребность слыть особой значительной и пользующейся влиянием. И она на самом деле заслужила и заработала себе такую славу, ибо умела использовать к своей выгоде обычно никому не нужные, а чаще вредные женские пересуды. Ей было точно известно все, что творилось в городе, а значит, и подноготная многих семейств, и едва ли случалось хоть одно недоразумение, в которое она бы не вмешалась, – а это удавалось ей тем легче, что она всегда старалась быть полезной, умея, однако, через это повысить свою репутацию и приобресть новую славу. Она состряпала немало свадеб, причем, по крайней мере, одна из сторон всегда бывала довольна. Но главным ее занятием была опека и покровительство тем особам, которые добивались места либо искали службы, и этим она и в самом деле приобрела множество клиентов, а потом умело пользовалась их влиянием.
Будучи вдовой крупного чиновника, человека строгих правил, она научилась тому, как можно мелочами завоевать благосклонность лиц, к которым с крупными подношениями не подступишься.
Чтобы не писать и дальше столь пространно, но и не уклоняться в сторону, замечу напоследок, что она добилась немалого влияния у одного облеченного высокой должностью господина. Скупец не хуже нее, он, как на грех, был к тому же лакомкой и обжорой. Первой заботой тетушки было под благовидным предлогом доставить ему к столу какое-нибудь блюдо повкуснее. Человек то был не самый совестливый, но в сомнительных случаях, когда он должен был преодолевать сопротивление своих сослуживцев и заглушать голос долга, на который они ссылались, всегда можно было рассчитывать на его смелость и наглость.
Как раз в ту пору она опекала человека недостойного, делая все возможное, чтобы пристроить его к месту; дело уже принимало благоприятный для нее оборот, а тут еще кстати подвернулась такая редкость, как эти раки. Их надлежало как следует откормить и понемножку подавать к столу высокого покровителя, обычно обедавшего в одиночку и крайне скудно.
Несчастное происшествие дало обществу повод ко многим разговорам и волнениям. В то время мой отец был одним из первых, кого дух универсального доброжелательства побудил заботливо взглянуть за пределы родной семьи и родного города. Он старался заодно с чинами полиции и с опытными врачами побороть те препятствия, которые вначале встретило оспопрививание. Более тщательный уход в госпиталях, более человечное обращение в тюрьмах и все остальное, что с этим связано, составляло если не дело его жизни, то предмет его чтения и раздумий, а так как он повсеместно высказывал свои убеждения, то и сделал этим немало добра.
Гражданское общество было для него, независимо от формы правления, явлением естественным, в котором есть и добро и зло и которое проходит свой обычный жизненный круг, зная попеременно годы изобилья и годы скудости, иногда, неожиданно и случайно, терпя градобития, наводнения и пожары; всем хорошим надо воспользоваться, все плохое предотвращать или терпеливо сносить; но самым желательным он считал распространение всеобщей доброй воли, независимо от прочих условий.
Такой образ мыслей не мог не побудить его вновь заговорить об одном благодетельном начинании, о котором говорилось и прежде, а именно – о возвращении к жизни тех, кого сочли умершими, независимо от того, насколько утрачены внешние признаки жизни. Из этих разговоров я услышал, что с утонувшими детьми следовало делать как раз противоположное тому, что делалось и предпринималось и в известной мере стало причиной их смерти; считали даже, что всем им можно было помочь простым кровопусканием. С горячностью юности я про себя вознамерился не упускать ни единой возможности и выучиться всему, что в таких случаях необходимо, особенно же кровопусканию и тому подобным приемам.
Но как скоро отвлекли меня будни! Потребность в дружбе и любви была пробуждена, я озирался в поисках ее удовлетворения. Тем временем театр чрезмерно поглотил мою чувственность, мой ум и мое воображение, а как далеко он увлек и в какой соблазн завлек меня, нет нужды повторять.
Но что мне сказать, как оправдать себя, если и после этого обстоятельного рассказа приходится признаться в том, что я все еще не достиг цели и надеюсь достичь ее впредь только окольным путем! Во всяком случае, я хотел бы отметить вот что: если юмористу дозволено перескакивать с пятого на десятое, если он дерзко предоставляет читателю отыскивать среди недосказанного, что вообще можно оттуда извлечь, то почему не разрешить человеку рассудительному и разумному прибегнуть к странной на первый взгляд методе и рассредоточить действие, но с тем, чтобы потом увидели его собранным и отраженным в одной точке и узнали, как под разнообразнейшими воздействиями человек поневоле приходит к решению, которого не принял бы ни по внутреннему влечению, ни по внешнему поводу?
Как ни много остается мне еще сказать, я могу выбрать, что предпочесть для начала; но и это все равно, тебе надобно набраться терпения и читать дальше и дальше, и тогда вдруг вполне естественно выговорится то, что показалось бы тебе, будь оно высказано одним словом, весьма странным, так что ты не захотела бы потом даже заглянуть в это предназначенное все разъяснить введение.
Ну вот, чтобы хоть как-то войти в колею, я опять оглянусь на ту уключину и припомню один разговор с нашим испытанным другом Ярно, коего я встретил в горах под именем Монтана; разговор этот вызвал во мне совсем особые чувства, хотя завел я его случайно. Ход нашей жизни таинствен, его нельзя рассчитать заранее. Ты, конечно, помнишь сумку с инструментом, которую извлек ваш превосходный хирург в тот миг, когда ты приблизилась и спасла меня, лежавшего замертво в лесу? Она сразу привлекла мой взгляд и произвела такое глубокое впечатление, что я был в восторге, увидев ее спустя несколько лет в руках молодого врача. Тот не особенно ее ценил; все инструменты стали за последнее время совершеннее и целесообразнее, и мне тем проще было приобрести сумку, что продажа облегчала ему покупку нового набора. С тех пор я всегда носил ее с собой, не ради нужды, а ради отрадных воспоминаний, – ведь она была свидетелем того мига, когда началось мое счастье, достичь которого мне предстояло лишь долгим кружным путем.
Ярно случайно увидал ее, когда мы ночевали у угольщика, сразу узнал и в ответ на мои объяснения возразил: «Я не имею ничего против таких фетишей, напоминающих о неожиданном благе, о важных последствиях ничего не значащего происшествия; они возносят нас ввысь, как все, что указывает на непостижимое, ободряют в минуты смущения и помогают ожить надеждам; но было бы еще лучше, если бы эти орудия побудили тебя узнать, как их применяют, как делают то, чего они молча от тебя требуют».
«Скажу тебе откровенно, – отвечал я, – что мне много раз приходило в голову то же самое, и внутренний голос, пробуждавшийся во мне, требовал признать, что это и есть мое настоящее призвание». Я рассказал ему историю об утонувших мальчиках, о том, что их, как я слышал, спасли бы, если бы отворили им жилу; тогда я вознамерился этому обучиться, но каждый час все больше стирал у меня из памяти это намерение.
«Так вернись к нему теперь! – отозвался Ярно. – Ты уже столько лет у меня на глазах занимаешься только теми вещами, что относятся или касаются до человеческого сердца, ума, души и как бишь их там еще называют, а много ли от этого проку и тебе и другим? Что бы ни было причиной душевных страданий – несчастье или наш собственный промах, но излечить от них здравый смысл не может, разум почти не может, время может, но не до конца, и только неустанная деятельность излечивает совсем. Тут пусть каждый трудится сам на себя и сам за себя; ты мог убедиться в этом и на собственном, и на чужом примере».
По своему обыкновению, он прибавил немало суровых, горьких слов и сказал немало резкостей, которые мне не хочется повторять. «Если что и стоит труда, – заключил он, – так это научиться оказывать помощь здоровому, если он пострадал от какого-нибудь случая: при разумном лечении природа быстро берет свое, так что больных следует предоставить врачам, а хирург больше всего нужен здоровым. В сельской ли тиши, в семейном ли кругу он гость не менее желанный, чем в суматохе боя или после него; в самые отрадные мгновения – не менее, чем в самые горькие и страшные; потому что злосчастье бесчинствует более свирепо, чем смерть, и столь же беспощадно, как она, постыднейшим образом калеча и жизнь, и радость».