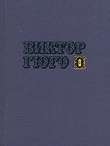Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
На остров немедленно доставили поклажу всех четверых, благодаря чему общество выиграло в удобствах, наибольшая же выгода состояла в том, что все папки превосходного художника были собраны наконец вместе, а это давало ему возможность воочию показать красавицам весь пройденный им путь. Работа его была принята с восхищением. Не в пример тому, как обыкновенно превозносят друг друга художник и любитель, здесь замечательному человеку воздали прочувствованную и проницательную хвалу. Но, не желая навлечь подозрения, будто мы подсовываем доверчивому читателю общие фразы взамен того, чего не можем показать наглядно, приведем здесь суждение знатока, несколько лет спустя с восхищением рассматривавшего как упомянутые, так и подобные им работы.
«Хорошо удается ему радостный покой тихих озерных ландшафтов, где приветливые прибрежные домики, отражаясь в светлой влаге, словно бы окунаются в нее; берега, окруженные зелеными холмами, за которыми высятся лесистые нагорья и льдистые вечные снега. Колорит этих видов приятно-светлый, жизнерадостный; дали как будто залиты смягчающей дымкой, туманно-серая пелена которой поднимается из прорытых потоками ущелий и долин и указывает все их извивы. Не менее достохвально искусство мастера в изображении долин у подножий хребта, где ввысь поднимаются густо заросшие горные склоны, а среди скал потоки быстро несут свои свежие струн.
Рисуя на переднем плане широко-тенистые деревья, он превосходно умеет передать отличительные признаки различных пород как во всем облике дерева, так и в расположении ветвей, и в листве, чья свежая зелень написана с таким многообразием оттенков, что так и кажется, будто ее колеблет нежное дыхание тихих ветерков, отчего зыблются и блики света.
На среднем плане живой зеленый тон постепенно тускнеет и на дальних вершинах гор, смешиваясь с синевой небес, становится чуть фиолетовым. Но лучше всего нашему художнику удаются изображения альпийских нагорий, – их простого и молчаливого величия, шири лугов по склонам, покрытых травяным ковром, из которого вырастают разрозненные темные ели, пенящихся ручьев, ниспадающих со скалистой кручи. Когда же он рисует пасущихся на лугах коров либо навьюченных лошадей или мулов на вьющихся вокруг скал тропах – все это написано и хорошо и умно, ибо стаффаж расположен к месту и не слишком обилен, так что, украшая и оживляя картину, он не нарушает и даже не умаляет впечатления тишины и пустынности. Все исполнено легко, немногими уверенными ударами кисти, и вместе с тем законченно, что свидетельствует о смелой руке мастера. Так как он писал английскими стойкими красками по бумаге, то благодаря их блеску преобладающий колорит – светлый, жизнерадостный, но при этом насыщенный и сочный.
Изображения скалистых теснин, где кругом – только голый камень, а в бездонной глубине под смело переброшенным мостом бушует бешеный поток, не радуют глаз, как предыдущие, зато захватывают правдивостью, и мы восхищаемся тем, как велико воздействие целого и какими малыми средствами оно достигнуто, ибо все, что есть там, – это немногие основные линии и цветовые поля.
С такой же характеристической достоверностью умеет он изображать высокогорные местности, где не встретишь уже ни дерева, ни куста, где только залитые солнцем поляны между скалистыми зубцами и снегами вершин покрыты нежной травкой. Сколь ни красив и ни заманчив свежий зеленый цвет полян, художник рассудительно избегает оживлять их пасущимися стадами, ибо эти места дают пропитание только горным козлам да опасный заработок – вольным косцам».
Мы не уклонимся от нашего намерения как можно ближе познакомить читателя с этими необжитыми местами, если кратко объясним вышеприведенное выражение – «вольные косцы». Так называют беднейших горцев, которые на свой страх заготавливают сено на тех лугах, что совершенно недоступны для скота. Для этого они, надевши обувь с крючьями, карабкаются на самые крутые, опасные утесы или же, в случае необходимости, спускаются на вышесказанные луга по веревке с высоких обрывов. Накосив травы и насушив сена, они сбрасывают его сверху на дно долин, там снова его собирают и продают скотовладельцам, которые охотно покупают такое сено ради его отменных свойств.
Картины нашего художника всякого увлекли бы и всем пришлись по душе, но с особым вниманием всматривалась в них Гилария, и из ее замечаний явствовало, что и ей не чуждо искусство живописи; менее всего это могло укрыться от самого их создателя, который ни с чьей стороны так не желал признания, как со стороны прелестнейшей из женщин. Поэтому и старшая из подруг не смолчала и упрекнула Гиларию за то, что она и сейчас, как всегда, медлит показать свое умение: ведь дело не в том, похвалят ее или нет, а в том, чтобы поучиться, к чему лучшей возможности может не представиться.
Только теперь, когда Гиларию заставили показать ее листы, выяснилось, какое дарование таит в себе это тихое, хрупкое существо, чьи врожденные способности развило прилежное упражнение. У нее был верный глаз и аккуратная рука – то свойство, что позволяет женщинам даже в их шитье и вышиванье подниматься до вершин искусства. Правда, заметна была неуверенность линий и от этого – недостаточная характерность отдельных предметов, но нельзя было не восхититься тщательностью проработки рисунка; целое же не всегда было схвачено с самой выгодной точки зрения и искусно скомпоновано. Кажется, она боится, что, изобразив предмет хоть чуть-чуть неточно, совершит святотатство, а потому робеет перед ним и теряется в деталях.
Но сейчас она чувствует, что большой и свободный талант художника вливает в нее силы, пробуждает еще не до конца проснувшиеся в ней чувство и вкус; ей становится ясно, что нужно только быть смелее, нужно неуклонно и решительно следовать немногим правилам, которые с дружеской настойчивостью часто внушает ей художник. Постепенно линия становится уверенней, Гилария научается жертвовать частностями ради целого, и вот неожиданно прекрасные способности раскрываются и обнаруживают себя в высоком совершенстве: так бутон розы, мимо которого мы только вчера вечером прошли, не взглянув, сегодня с восходом распускается у нас на глазах, и нам кажется, будто мы воочию видим живой трепет, которым великолепный цветок приветствует новый день.
Это эстетическое совершенствование не замедлило оказать и нравственное влияние, ибо на чистую душу магически действует глубокая благодарность тому, кому она обязана важными уроками. То было первое радостное чувство, за долгое время возникшее в сердце Гиларии. Целыми днями видеть перед собой великолепие мира – и вдруг почувствовать, что тебе дали в дар искусство изображать его во всем совершенстве! Какое блаженство – благодаря линиям и краскам приблизиться к невыразимому! Она чувствовала себя ошеломленной новым приливом молодости и не могла отказать в особой симпатии тому, кому была обязана таким счастьем.
Так они сидели рядом, и нельзя было определить, кто из двоих ревностней: он ли – в стремлении обучить ее всем совершенствам живописи, она ли – в стремлении постичь и применить к делу его уроки. Возникло счастливое соперничество, какое редко бывает между наставником и учеником. Часто казалось, что друг готов вмешаться в ее рисунок, добавив решающую черту, но она мягко отстраняла его и спешила сама сделать желаемое и необходимое, – причем всегда ему на удивление.
Наступил последний вечер, полная луна светила так ярко, что переход от дня к ночи остался незаметен. Общество расположилось на одной из верхних террас, откуда хотя и не во всю длину, но во всю ширину было видно озеро, озаренное луной и всей гладью отражавшее ее свет.
О чем бы ни говорилось при этих обстоятельствах, беседа все же не могла миновать того, что тысячу раз было уже сказано о достоинствах здешнего неба, здешних вод и земли, на которую солнце действует с большей силой, а луна – с большей мягкостью. И весь разговор превращался в лирическое их восхваление.
Но ни один из них не признался бы другим и едва сознавался себе в той глубокой грусти, которая волновала все сердца, сильнее или слабее, но одинаково искренне и нежно. Предчувствие разлуки овладевало всеми, постепенно воцарявшееся молчание грозило стать тягостным.
Но тут преисполнился мужества и решимости певец, он взял на лютне несколько громких вступительных аккордов, позабыв о прежней благоразумной деликатности. Перед ним витал прекрасный образ Миньоны, ему слышалась ее первая песня. В страстном порыве преступая все пределы, он извлек из полнозвучных струн еще один тоскливый аккорд и начал петь:
Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,
Где пурпур королька…
Потрясенная Гилария встала и удалилась, опустив на чело покрывало; прекрасная вдова протянула к певцу руку, чтобы остановить его, а другой схватила руку Вильгельма. До глубины души смущенный юноша последовал за Гиларией, Вильгельм повлек за ними более благоразумную подругу. И вот они стояли все вчетвером, и охватившего всех волнения уже нельзя было скрыть. Женщины бросились друг другу в объятия, мужчины обхватили друг друга за плечи, и Диана стала свидетельницей самых благородных и чистых слез. Опомнились друзья не скоро, они разомкнули объятья, молчаливые, обуреваемые странными чувствами и желаниями, среди которых уже не было места надежде. Под этим светлым небом, в этот торжественный и прекрасный час наш художник, которого друг уводил с собой прочь, почувствовал себя посвященным во все горести первой ступени Отречения, испытание коими остальные уже выдержали, но теперь чувствовали себя в опасности вновь ему подвергнуться.
Лишь поздней ночью молодые люди отправились на покой, а в должное время проснувшись рано поутру, собрались с духом и почувствовали в себе довольно сил, чтобы расстаться с этим раем, хотя оба строили всяческие планы, как вы, не нарушая долга, исхитриться побыть еще в приятной близости от подруг.
Но только лишь они вознамерились приступиться со своими предложениями к дамам, как их ошеломили известием, что те отплыли еще на рассвете. Письмо, написанное рукою нашей повелительницы сердец, сообщило им подробности. Нельзя было решить, чего в нем больше: здравого смысла или доброты, сердечной склонности или дружбы, признания заслуг или невысказанного, стыдливого предубеждения. К сожалению, в конце письма было высказано строжайшее требование не гнаться за подругами и не искать их, а при случайной встрече неукоснительно от нее уклоняться.
И тут, словно от прикосновения волшебного жезла, рай мгновенно превратился для наших друзей в пустыню; они сами бы наверняка улыбнулись, если бы в этот миг им стала ясна их собственная несправедливость и неблагодарность по отношению к дивным красотам этих мест. Самый злостный эгоист и ипохондрик не стал бы так едко и угрюмо бранить и обличать ветшание построек, запущенность стен, выветривание башен, траву, проросшую по всем переходам, засыхающие деревья, мох и плесень в искусственных гротах и другие признаки запустения. Потом они, насколько удалось, овладели собой. Художник тщательно уложил свои работы, оба сели в лодку, Вильгельм проводил друга до высокого берега, откуда тот по предварительному уговору должен был направить путь к Наталии, чтобы его прекрасные пейзажи перенесли ее в те места, куда ей, быть может, не суждено было так скоро попасть. Притом Вильгельм разрешил ему откровенно рассказать обо всем, что с ним неожиданно приключилось, а это давало ему возможность встретить в среде Отрекающихся самый радушный прием и быть если не исцеленным, то утешенным их дружелюбием.
Ленардо – Вильгельму
Ваше письмо, любезный друг, застало меня до того занятым, что я бы мог назвать мою деятельность суматошной, не будь ее цель так величава, а успех обеспечен. То, что я вошел в связь с Вашими сотоварищами, оказалось для обеих сторон важнее, чем они могли предполагать. Об этом я не берусь писать, потому что тут незамедлительно выясняется, сколь необозримо целое и неизъяснимо сцепление частностей. Отныне пусть будет нашим девизом: «Дело, а не слова». Большое Вам спасибо за известие, хотя бы издали и отчасти приоткрывающее пленительную тайну; я радуюсь простому счастью доброй девушки, тем более что меня несет вихрь сложнейших дел; правда, путеводная звезда все же светит мне. Аббат берет на себя труд известить Вас подробнее, я же должен помнить только о том, что́ помогает делу, а оно уже рассеет томления и тоску. Я с Вами – и ни слова более. Если работы много, рассуждать некогда.
Аббат – Вильгельму
Еще немного – и Ваше отправленное с лучшими намерениями письмо вопреки им принесло бы нам величайший вред. Ваше описание найденной девушки полно такого задушевного очарования, что ради ее немедленных поисков наш сумасбродный друг, верно, забросил бы все и вся, если бы наши, отныне общие, планы не были столь большими и далеко идущими. Однако он выдержал испытание, подтвердив, что полностью проникся важностью нашего дела, которое его и увлекло, и отвлекло от всего постороннего.
Эти завязавшиеся недавно и лишь благодаря Вам отношения оказались, при ближайшем рассмотрении, столь выгодны обеим сторонам, что мы на такое и не рассчитывали.
Дело в том, что совсем недавно появился прожект провести канал через ту обделенную природой местность, где находится часть владений, которую дядюшка уступает ему; канал проходит и через принадлежащие нам земли, благодаря чему, если мы войдем в союз, цена их неизмеримо возрастет.
При этом получает простор главная его страсть – начинать все сначала. По обе стороны названного водного пути найдется вдоволь невозделанных и необитаемых земель, где можно поселиться пряхам и ткачихам, а каменщикам, плотникам и кузнецам – построить для них и для себя небольшие мастерские; все может быть создано и оборудовано ими самими, мы же возьмем на себя решение более сложных задач и сумеем способствовать росту производительной деятельности.
Ближайшая задача, предстоящая нашему другу, такова. С гор до нас доходят бесконечные жалобы на растущую нехватку продовольствия; должно быть, те края изрядно перенаселены. Там следует присмотреться к людям и обстоятельствам и по здравой оценке увлечь в наш поход самых деятельных, способных принести пользу и себе и другим.
Далее могу сообщить вам о Лотарио, что у него уже дело подходит к концу. Он съездил к педагогам, чтобы попросить у них способных художников, хотя и в небольшом числе. Искусства суть соль земли, ибо для ремесла они то же самое, что соль для пищи. Мы берем от искусства не больше того, сколько нужно, чтобы ремесло не выродилось и не стало пошлым.
Вообще постоянная связь с этим воспитательным заведением будет для нас впредь весьма полезна и необходима. Наш долг – действовать, думать об образовании нам некогда; но первейшая наша обязанность – привлекать к делу людей образованных.
По этому поводу напрашивается тысяча всяческих соображений. Позвольте же мне, по нашему старому обычаю, сделать общее замечание в связи с одним местом из Вашего письма к Ленардо. Мы не хотим лишать домашнее благочестие подобающей хвалы: ведь на нем зиждется добропорядочность каждого, и в конечном счете оно может быть основой прочности и достоинства целого; но теперь его одного мало, мы должны выработать для себя понятие всемирного благочестия, распространить на всю практическую сферу наши истинно человеческие воззрения и не только содействовать нашим ближним, но и объять все человечество.
Что до Вашего ходатайства, то сообщаю Вам следующее: Монтан своевременно передал его нам. Этот чудак ни за что не желал объяснить, в чем состоит Ваше намерение, однако дал слово друга, что оно вполне разумно и в случае успеха Вы принесете большую пользу товариществу. Поэтому и Вам прощается, что Вы делаете из него в письме тайну. Одним словом, Вы освобождаетесь от всех ограничений; это известие давно пришло бы к Вам, знай мы, где Вы находитесь. От имени всех повторяю Вам: Ваша цель, хотя Вы и умалчиваете о ней, одобрена ради нашего доверия к Монтану и к Вам. Путешествуйте, останавливайтесь, меняйте места или оставайтесь на месте! Что Вам удастся, то и хорошо; желаем только, чтобы Вы стали необходимейшим звеном нашей цепи.
В заключение прилагаю табличку, из которой Вам станет известен передвижной центр наших взаимных сообщений. Из нее Вы с очевидностью поймете, куда Вам следует посылать письма в то или другое время года; лучше для нас, если Вы сделаете это через курьеров, которых мы укажем Вам в разных местах и в достаточном числе. Точно так же особые пометы покажут, где Вам искать того или иного из наших сочленов.
ОТСТУПЛЕНИЕЗдесь мы вынуждены предупредить читателя о том, что пропускаем несколько лет и, буде у нас оказалась бы возможность увязать это с типографическим исполнением книги, предпочли бы закончить на этом месте том.
Однако и пробела между двумя главами будет довольно, чтобы перенестись через этот воображаемый промежуток времени; ведь привыкли же мы издавна к тому, что такая же вещь происходит между спуском и подъемом занавеса, покуда мы сидим в креслах.
В этой второй книге мы видели, как сильно возросли связи наших старых друзей, и приобрели новые знакомства; виды на будущее таковы, что каждый, можно надеяться, получит то, чего желает, если только не заблудится в жизни. Итак, повременим немного – и мы снова встретим их одного за другим на проторенных и непроторенных дорогах жизни, где их пути сплетаются и вновь расходятся.
ГЛАВА ВОСЬМАЯЕсли мы задумаем вновь отыскать нашего друга, с некоторого времени предоставленного самому себе, то застанем его входящим со стороны равнины в Педагогическую провинцию. Он идет через луга и нивы, через сухие пастбища в обход небольших озер, он видит поросшие больше кустарником, чем лесом, пригорки и свободно может обозреть почти не всхолмленную местность. Оказавшись на этих тропах, он более не сомневался, что находится в краю коневодства, и вскоре увидел там и сям благородных кобылиц и жеребцов разного возраста, собранных в большие и малые табуны.
Но тут внезапно горизонт заволакивается страшным облаком пыли; надвигаясь ближе и ближе, оно застит пространство, пока наконец, разогнанное сильным боковым ветром, не обнаруживает, какое бурное движение скрыто в нем.
Сплошной массой несутся благородные животные, верховые пастухи не дают им разбежаться врассыпную, направляют летящий размашистым галопом табун; чудовищный вал, теснясь, проносится мимо странника, один из сопровождающих, красивый мальчик, с удивлением на него смотрит, осаживает скакуна, спешивается и обнимает отца.
Начинаются расспросы и рассказы; сын повествует о том, что в начале испытательного срока немало натерпелся и, скитаясь по полям и лугам пешком, жалел о своем коне, что тихая и многотрудная жизнь земледельца, как он и объявлял заранее, оказалась не по нему; правда, праздник жатвы понравился ему очень, пахота и сев – меньше, а перепашка, окапывание и ожидание совсем не понравились; за необходимым и полезным скотом он хотя и ходил, но не слишком усердно и без всякого удовольствия, пока наконец его не произвели в кавалеристы, – а это дело более живое. Правда, стеречь кобыл и жеребят бывает порою скучновато, зато когда видишь какого-нибудь игривого конька, которого года через три-четыре можно будет, пожалуй, отлично взять под седло, – это совсем не то, что возиться с телятами да поросятами, у которых смысл жизни – откормиться, разжиреть, а потом быть сбытыми с рук.
Отец мог быть доволен здоровым видом сына, выросшего и ставшего уже почти юношей, и его вольной и веселой, если не сказать остроумной, беседой. Они теперь ехали вскачь вслед за бегущим табуном, мимо разрозненных просторных хуторов, к тому городку или селению, где на праздник имела быть большая ярмарка. Там кишела невообразимая сумятица, и нельзя было понять, кто поднимает больше пыли – покупщики или товар. Сюда сходятся со всех сторон, чтобы обзавестись заботливо выращенными конями хороших кровей. Здесь услышишь, кажется, все наречия земли. Тут же раздается оглушительный рев самых громких духовых инструментов, и все полно движения, силы и жизни.
И вот наш странник снова встречается с давешним, уже знакомым ему, надзирателем, который вместе с дельными сотоварищами тихо и незаметно, но умело поддерживает порядок и послушание. Вильгельм, усмотрев еще один пример сосредоточения на одном роде занятий и подумав, что такое жизненное направление, при всей его широте, весьма ограниченно, хочет узнать, в чем еще упражняют воспитанников, чтобы юноша, занимаясь таким диким, грубым делом, как выкармливание и выращивание скота, сам не одичал до скотского состояния. И ему особенно приятно услышать, что с этим требующим силы и на вид грубым предназначением сочетается другое, самое тонкое на свете: изучение языков ради живого овладения ими.
В этот миг Вильгельм, хватившись, не обнаружил рядом сына; через просветы в толпе он увидел, что Феликс азартно торгуется и рядится из-за какой-то мелочи с молодым лоточником. Через некоторое время он совсем потерял мальчика из виду. Надзиратель осведомился о причине его тревоги и рассеянности, а когда узнал, что он волнуется о сыне, сказал, успокаивая отца:
– Не тревожьтесь, он не может потеряться; а теперь посмотрите, каким способом мы не даем ученикам разбрестись. – Он пронзительно свистнул в свистульку, которая висела у него на груди; в тот же миг ему ответила со всех сторон дюжина таких же свистков. Надзиратель продолжал: – Покуда довольно; это только знак, что надзиратель рядом и хочет примерно знать, сколько человек его слышат. На второй свисток они не откликаются, но должны изготовиться, по третьему бросаются ко мне, перед этим откликнувшись. Впрочем, таких сигналов есть множество, и польза от них немалая.
Внезапно вокруг стало просторнее, – теперь можно было прогуляться в сторону ближних гор и поговорить на свободе.
– Ввести изучение языков, – продолжал надзирающий, – нас побудило то обстоятельство, что у нас собирается молодежь из всех стран мира. Чтобы оберечься от частого на чужбине явления, когда земляки объединяются и, обособившись от других племен, образуют свою факцию, мы стараемся, чтобы воспитанники свободно общались на многих языках и через это взаимно сближались.
Но еще необходимее всеобщее упражнение в языках ради ярмарок вроде этой, где каждый пришелец хочет найти собеседника, понимающего его выговор и выражения, чтобы с удобством торговаться и заключать сделки. А чтобы не получилось вавилонского столпотворения и все не пошло бы прахом, у нас по месяцу в год говорят на каком-нибудь одном языке, в соответствии с правилом, что нельзя ничему выучиться вне той стихии, которую надобно одолеть. Ведь мы видим в каждом из учеников пловца, который с удивлением ощущает, как стихия, грозившая его поглотить, сама выталкивает наверх и несет полегчавшее тело; и так обстоит дело со всем, за что бы человек ни взялся.
Если же кто из воспитанников выкажет особую склонность к одному языку, то мы находим средства преподать его основательнее даже среди той сумятицы, какой представляется на вид наша жизнь, – впрочем, оставляющая много часов для покоя, одинокого досуга и даже скуки. Вам нелегко будет среди этих бородатых и безбородых кентавров разглядеть грамматиков и даже педантов в седле. Ваш Феликс отдает предпочтение итальянскому, а так как мелодическое пение пронизывает у нас все, то послушали бы вы, как он умеет скрасить скуку пастушеской жизни песнями, как красиво и с каким чувством исполняет их! Вообще полноценное обучение лучше совместимо с практической деятельностью и полезной работой, чем принято думать.
Поскольку каждая область празднует свой праздник, гостя отвели в округ инструментальной музыки. Округ этот, расположенный у границ равнины, разнообразили приветливые, красивые поляны, стройные рощи, тихие речки, по берегам которых там и сям скромно высились в траве замшелые скалы. На холмах виднелись разрозненные, окруженные кустами жилища, домики в тихих долинах жались друг к другу теснее. Красиво разбросанные хижины располагались в таком отдалении, что от одной до другой не долетали ни чистые, ни фальшивые звуки.
Прежде всего они подошли к просторной, обнесенной оградой площадке в тени деревьев; там было тесно от людей, судя по всему, напряженно ждавших чего-то. Когда гость приблизился, раздался мощный созвучный аккорд всех инструментов, восхищавший своей могучей полнотой и нежностью. Насупротив обширных подмостков для оркестра располагались другие, меньшие, они-то и привлекали сугубое внимание, так как на них находилось много учеников, старших и младших, из которых каждый держал инструмент наготове, но не играл. Это были те, кто еще не мог или не отважился музицировать сообща со всеми. Присутствующие с интересом смотрели, как подобрался и напрягся каждый; редко случалось, чтобы на таком празднике вдруг не проявился чей-нибудь талант.
Поскольку к инструментам присоединялись и поющие голоса, не приходилось сомневаться, что и это искусство здесь в чести. На вопрос, что еще преподается здесь в дружественном сочетании с музыкой, странник услышал в ответ, что это поэтическое искусство, причем именно лирическая его часть. Упор делается на то, чтобы оба искусства поначалу изучались порознь, в самостоятельном развитии, затем в сравнении и, наконец, во взаимосвязи. Ученики узнают поэзию и музыку сообразно внутренним законам каждой из них, потом они постигают, как обе взаимно обусловливают друг друга и, в конце концов, друг от друга освобождаются.
Поэтическим стопам музыкант противопоставляет деление на такты и чередование тактов. Но тут очень скоро обнаруживается преимущество музыки перед поэзией, ибо если эта последняя по справедливости и по необходимости старается как можно чище соблюдать все долготы и краткости, то для музыканта имеет значение протяженность лишь немногих слогов, он по произволу разрушает самое продуманное построение ритмика, превращает в напев даже и прозу, выявляя при этом удивительные возможности, и поэт очень скоро почувствовал бы себя уничтоженным, когда бы, со своей стороны, не внушал музыканту почтения лирической нежностью и дерзостью и не вызывал в нем небывалые прежде чувства то плавностью постепенных переходов, то быстротою смен.
Находящиеся здесь певцы в большинстве своем сами поэты. Преподаются также и основы танцевального искусства, чтобы все эти умения можно было равномерно распространить по всем областям.
Когда гостя перевели через ближайшую границу, он сразу заметил, как изменился вид построек. Дома не были больше разрознены и не походили на хижины, они располагались в правильном порядке и были пышно разукрашены снаружи, просторны, удобны и изящно убраны внутри. Все в целом являло взору широко и красиво построенный город, наилучшим образом приспособленный к местности. Здесь обиталище изобразительных искусств и родственных им ремесел, поэтому на всем пространстве царит совсем особая тишина.
Кто предался изобразительному искусству, тот не мыслит себя вне связи со всем, что вершится и творится среди людей, так что труд его, всегда одинокий, по странному противоречию более всякого другого нуждается в том, чтобы вокруг все было полно жизни. Ведь здесь каждый в тишине создает то, на что всегда будут устремлены людские взоры; праздничное безмолвие царит во всем городе, и если бы порой не раздавались постукивание каменотесов и мирные удары плотников, усердно спешивших закончить новое великолепное здание, то ни один звук не колебал бы воздуха.
Наш странник обратил внимание на ту степенность и удивительную строгость, с какою здесь обращались и с начинающими, и с более преуспевшими; казалось, никто ничего не делает по своему почину и произволу, но всех словно бы животворит и ведет к единой большой цели один таинственный дух. Нигде не видно было ни наброска, ни эскиза, зато и ни одной черты не проводили, не обдумавши. А когда странник попросил провожатого объяснить ему всю методу, тот заявил, что воображение – способность зыбкая и нестойкая и вся заслуга ваятеля и живописца состоит в том, чтобы научиться придавать воображаемому больше определенности, удерживать его и, наконец, возвышать до совершенной наглядности.
Вспомнили и о необходимости твердых оснований в других искусствах. «Разве музыкант позволил бы ученику как попало перебирать струны или по своей прихоти брать любые интервалы? Здесь сразу видно, что на произвол учащегося не оставлено ничего: ему раз навсегда дана стихия, в которой он обязан действовать, дано орудие, которым ему предстоит овладеть, и даже предписан способ, как он должен им пользоваться (я имею в виду аппликатуру, указывающую, чтобы каждый палец вовремя уступал дорогу другому и подготавливал правильный путь следующему за ним, благодаря каковому законопослушному сотрудничеству только и становится возможным невозможное).
И вот в чем мы более всего находим оправдание нашим строгим требованиям и непреложным законам: именно гений, наделенный врожденным даром, первым понимает их и добровольно им подчиняется. Только полуумение хочет подменить одному ему присущей ограниченностью целое и безусловное и прикрыть свои фальшивые ноты красивыми именами оригинальности и самостоятельности. Этого мы не допускаем и стараемся уберечь учеников от заблуждений, которые могут надолго, а то и на всю жизнь запутать их и раздробить их силы.
Больше всего мы любим иметь дело с гениально одаренными натурами, ибо гений – это прекрасная способность духа сразу распознавать то, что́ ему на пользу. Он понимает: искусство потому и называется искусством, что оно не есть природа. Ему не в тягость почтение даже к тому, что можно назвать условностью, ибо разве эта условность не есть то, что превосходнейшие мастера единодушно признали необходимым и непременным залогом совершенства? И разве не приводит оно всегда и во всем к удаче?
Чтобы облегчить дело учителям, и здесь, как повсюду у нас, ученикам привиты все три формы благоговейного страха и введены соответствующие знаки, только с некоторыми изменениями, сообразно труду, которым здесь больше всего занимаются».
Когда странника повели дальше, он не мог не подивиться, что город, по-видимому, все разрастается, от каждой улицы ответвляются новые, открывая взору разнообразнейшие перспективы. Внешний вид домов, внушительных и стройных, скорее красивых, чем роскошных, недвусмысленно свидетельствовал об их назначении. Посреди города здания были благороднее и строже, к ним примыкали более веселые и приветливые, дальше, вплоть до полей, тянулись уютные предместья, где постройки в самом изящном вкусе постепенно сменялись редко стоящими садовыми домиками.