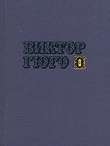Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
– Какую же из этих религий вы исповедуете предпочтительно перед другими? – спросил Вильгельм.
– Все три, – ответили ему, – ибо только все три вместе и создают подлинную религию. Эти три вида благочестия порождают высшее благочестие – благоговение перед самим собой, которое, в свой черед, дает развитие остальным трем видам, так что человек достигает высочайших высот, каких способен достигнуть, получает право считать себя совершеннейшим произведением бога и природы и может оставаться на высшей ступени, не позволяя спеси и самодовольству вновь низвести его до обыденной пошлости.
– Это исповедание, да еще изложенное таким образом, не кажется мне странным, – отозвался Вильгельм, – оно согласуется со многим, что порой приходится слышать в жизни, только вы объединяете то, что остальные разделяют.
В ответ ему было сказано:
– Это исповедание уже сейчас произносит большая часть человечества, но только не сознавая смысла.
– Где и когда? – спросил Вильгельм.
– В символе веры! – вскричали Трое. – Ибо первый его член – этнический, он принадлежит всем народам; второй член – христианский, он для тех, кто борется с страданиями и в страдании возвеличивается; наконец, третий возвещает нам учение об исполненной духом общине святых, то есть пребывающих на высшей ступени добра и мудрости. Так не справедливо ли будет считать высшим единством три ипостаси божества, чьи имена суть символы, выражающие эти убеждения и обетования?
– Я благодарен вам, – сказал Вильгельм, – за то, что вы так ясно и последовательно изложили все мне, взрослому человеку, которому не чужды все три образа мысли, и не могу не одобрить вас, когда вспоминаю, что детям вы преподносите это возвышенное учение сперва в виде чувственных знаков, затем посредством некоего символического созвучия и только под конец даете высшее его истолкование.
– Это верно, – ответили Трое, – но теперь вы должны узнать больше и убедиться, что ваш сын в хороших руках. Однако отложим это на утро; отдыхайте и набирайтесь сил, чтобы поутру радостно, как подобает человеку, последовать за нами в сокровенное.
ГЛАВА ВТОРАЯИ вот рука об руку со старейшим из Троих наш друг вошел через внушительного вида портал в круглую или, вернее сказать, восьмиугольную залу, столь богато убранную картинами, что это повергло пришельца в изумление. Он легко сознал, что все видимое им непременно имеет важный смысл, пусть даже и не постигаемый им с первого взгляда. Вильгельм собирался уже задать провожатому вопрос, когда тот пригласил его пройти через боковые двери в открытую с одной стороны галерею, окружавшую просторный цветник. Но еще более, чем это веселое природное убранство, взгляд привлекала стена галереи, вся покрытая росписями, предметы коих, – пришельцу не понадобилось много времени, чтобы это заметить, – были почерпнуты из священных книг израильтян.
– Здесь, – сказал старейший, – мы посвящаем учеников в ту религию, которую я для краткости назвал вам этнической. Ее содержание заключено во всемирной истории, а отдельные события суть ее внешняя оболочка. Она постигается на примере повторяющихся судеб целых народов.
– Я вижу, – сказал Вильгельм, – вы оказали особую честь народу израильскому, чья история стала у вас основой или, лучше сказать, главным предметом изображения.
– Это вам кажется, – возразил старец, – потому что, как вы можете заметить, у основания стены и под карнизом изображены поступки и события, связанные с главными не столько синхронистически, сколько симфронистически, потому что у всех народов есть предания, значащие и знаменующие одно и то же. Вот здесь, на среднем поле, вы видите Авраама, которого посетили его боги в виде прекрасных юношей, а выше, под карнизом – Аполлона среди Адметовых пастухов, из чего мы можем понять, что боги, если являются людям, пребывают среди них неузнанными.
Зрители двинулись дальше. Вильгельм находил по большей части знакомые сюжеты, однако представленные живее и осмысленнее, чем он привык их видеть. Кое о чем он попросил объяснений, потом не удержался и еще раз задал вопрос, почему предпочтение отдано истории израильского народа. На это старейший ответил:
– Среди языческих религий, – а израильская также относится к их числу, – она обладает многими преимуществами, из коих я намерен упомянуть лишь некоторые. Перед судом этническим, перед судом бога народов задается вопрос не о том, лучше ли остальных какое-нибудь племя, а лишь о том, долговечно ли оно, способно ли сохраниться. Израильский народ был далеко не безгрешен, за что тысячекратно слышал упреки от своих предводителей, судей, старейшин и пророков; он не наделен достоинствами других народов, но делит с ними пороки; зато по самостоятельности, твердости, храбрости, а если этих свойств мало, то и цепкости, ему нет равных. Это самый упорный народ на земле, он был, есть и будет, дабы имя Иеговы славилось во все времена. Потому-то мы избрали его главным примером, главным предметом изображения, а остальное служит только обрамлением.
– Мне не подобает вступать с вами в пререкания, – отвечал Вильгельм, – скорее вы должны и можете учить меня, а потому поведайте мне, в чем состоят прочие преимущества этого народа, или, вернее сказать, его истории и его религии.
– Главное из них, – было сказано в ответ, – есть превосходное собрание священных книг. Оно составлено так удачно, что из чуждых друг другу частей возникает мнимое целое. Их полноты довольно, чтобы удовлетворить нас, их отрывочности – чтобы раззадорить наш интерес; в них хватает варварства, чтобы заставить нас негодовать, и хватает нежности, чтобы смягчить нас; и сколько есть еще противоречащих друг другу, но равно заслуживающих хвалы свойств в этих книгах, в этой книге!
Порядок главных картин, равно как и соотношение с ними меньших изображений снизу и сверху так занимали мысли гостя, что он едва слышал глубокомысленные замечания, которыми провожатый скорее старался отвлечь его внимание, чем приковать к тому или другому предмету. Так, старейший сказал по какому-то поводу:
– Я должен упомянуть еще об одном преимуществе израильской религии: она не воплощает своего бога ни в каком образе и оставляет нам свободу придать ему достойное человеческое обличие, а божества идольские, напротив того, унизить звериными и чудовищными ликами.
Во время недолгого странствования через эти залы перед глазами нашего друга вновь предстала вся всемирная история, причем во взгляде на происшедшее многое было для него ново. Благодаря сопоставлению картин и рассуждениям провожатого у него возникло немало новых воззрений, и он порадовался тому, что Феликс через эти достойные и осязаемые образы воспримет на всю жизнь великие, полные смысла и ставшие всеобщим образцом события, словно они подлинные и произошли рядом с ним. Под конец он стал глядеть на картины только глазами ребенка и при таком взгляде остался ими вполне доволен. Так путники подобрались к печальным, смутным временам, к разрушению города и храма, к почти поголовному истреблению, изгнанию и рабству упорного племени. Дальнейшие его судьбы были разумно представлены в иносказаниях, потому что реальное, историческое их изображение лежит за пределами благородного искусства.
Тут вдруг галерея, по которой они шли до сих пор, замкнулась, и Вильгельм удивился, увидав, что дошел до конца.
– Я нахожу здесь, – сказал он своему вожатому, – пробел в ходе истории. Вы разрушили Иерусалимский храм и подвергли рассеянию народ, так и не показав богочеловека, незадолго перед тем учившего именно здесь и никем не услышанного.
– Сделать то, чего вы требуете, было бы большой ошибкой. Жизнь того богочеловека не стоит ни в какой связи с историей мира в его времена. Жизнь его была жизнью частного лица, а учение – учением для каждого в отдельности. Что происходит с целыми народами и с теми, кто их составляет, то и принадлежит всемирной истории и мировой религии, которую мы относим к первому роду. А происходящее в душе у каждого принадлежит религии второго рода, религии мудрых, каковой и была та, которой учил и которую исповедовал Христос, покуда странствовал по земле. Потому-то здесь внешнее и завершается, и теперь я открою вам внутреннее.
Отворилась дверь, и они вошли в такую же галерею; Вильгельм тотчас же узнал картины из второй части Священного писания. Судя по всему, они были писаны другой рукою: все в них было мягче – фигуры, и движения, и обстановка, и свет, и краски.
– Вы видите, – сказал провожатый, когда они миновали часть картин, – что здесь нет ни деяний, ни происшествий, а только чудеса и притчи. Здесь изображен новый мир – с новым внешним обличьем и с внутренним смыслом, которого прежде вовсе не было. И этот новый мир открывают чудеса и притчи. Первые делают обычное необычайным, вторые же необычайное – обычным.
– Окажите мне любезность, – отозвался Вильгельм, – поясните обстоятельнее то, что сказали в немногих словах; самому мне, я чувствую, это не по силам.
– Смысл их, при всей его глубине, естествен, – отвечал ему собеседник, – и на примерах вы постигнете его всего скорее. Нет ничего обыкновеннее, чем есть и пить; но превратить простой напиток в благородный, умножить количество пищи настолько, чтобы ее хватило несчетной толпе, – вот что необычайно. Нет ничего обычнее болезни и телесной немочи; но устранить или облегчить их духовным или подобным ему воздействием – это необычайно. Чудо потому и чудесно, что в нем сливаются воедино обычное и необычное, возможное и невозможное. Нечто противоположное видим мы в притче, в параболе: в ней высшее, необычайное и недостижимое – это смысл, постижение, общее понятие. И если мы видим его воплощенным в обыденном, привычном и общепонятном образе, если благодаря этому он предстает перед нами живым, насущным и подлинным, так что мы можем его усвоить, постичь и запомнить, можем обходиться с ним попросту, то тут еще одно чудо, достойное стоять рядом с первым, а быть может, и выше него. Высказываемое в притчах учение не вызывает споров, ибо здесь сама жизнь, сама правда и кривда, а не мнение о том, что́ есть правда и что́ – кривда.
Эта часть галереи была короче, или, вернее, это была лишь четвертая сторона галереи, окружавшей внутренний двор. Но если вдоль первой стороны зритель шел без остановки, то здесь приятно было задержаться, приятно было походить взад и вперед. Сюжеты картин, менее разнообразные, не так поражали зрение, но зато манили проникнуть в их глубокий, молчаливый смысл. И Вильгельм со спутником, достигнув конца, повернул обратно, выразив недоумение по тому поводу, что история доведена здесь только до вечери, до прощания учителя с учениками, и спросив, где же остальная ее часть.
– Наставляя воспитанников и передавая им знания, – отвечал старейший, – мы стараемся разделять все, что только возможно, ибо это единственный способ дать молодежи понятие о том, что́ существенно и что́ нет. Жизнь все смешивает и громоздит как попало, зато мы здесь отделили жизнь этого исключительного человека от его кончины. При жизни он предстает перед нами как истинный философ, – пусть вас не пугает это имя! – как мудрец в высшем смысле слова. Он твердо стоит на своем, он неуклонно идет своей дорогой, он возвышает до себя стоящее ниже, уделяет от своей мудрости, силы и богатства простецам, недужным и бедным и через это как бы становится с ними вровень – и в то же время он не отрекается от своего божественного происхождения, дерзает равнять себя с богом и даже провозгласить себя богом. Поэтому он с юных лет поражает изумлением тех, кто живет с ним рядом, часть из них завоевывает на свою сторону, других восстанавливает против себя и показывает всем, кому не безразлично возвышенное в учениях и в жизни, чего они должны ждать от мира. Поэтому земной его путь для благородной части человечества поучительней и полезней, чем его смерть, ведь к испытаниям жизнью призван каждый, а к последнему испытанию – лишь немногие. А чтобы пространно не рассуждать о выводах, следующих из этого соображения, вглядитесь в трогательную сцену вечери. Здесь, как всегда, мудрец оставляет своих близких осиротелыми; при этом, позаботившись о верных, он дает пищу и предателю, который погубит и его, и лучших его учеников.
С этими словами старейший отворил дверь, и Вильгельм замер от изумления, вновь очутившись в первой от входа зале и теперь только заметив, что они успели обойти кругом весь двор.
– Я надеялся, – сказал он, – что вы дойдете со мной до конца, а вы опять привели меня к началу.
– На этот раз я не могу показать вам больше, – сказал старейший. – И нашим воспитанникам позволяют видеть ровно столько, сколько мы успели обойти, и объясняют им только это: внешнее, общемирское – каждому с самых ранних лет, внутреннее, сугубо духовное и душевное – только тем, кто растет рассудительней других, а остальное, то, что отворяют лишь раз в год, может быть поведано только тем, кого мы готовим к выпуску. Религию третьего рода, вырастающую из благоговения перед тем, что ниже нас, почитание всего отталкивающего, ненавидимого, избегаемого – это мы даем с собою только выходящим в мир, чтобы каждый из них знал, где все это найти, буде в нем появится такая потребность. Я приглашаю вас по истечении года вернуться к нам, присутствовать на нашем общем празднестве и поглядеть, каковы успехи вашего сына; тогда и вы войдете как посвященный в святилище страдания.
– Дозвольте мне еще один вопрос, – отозвался Вильгельм, – если жизнь богочеловека вы выставляете на обозрение как назидательный пример, то ставите ли вы в образец возвышенной терпеливости также его муку и смерть?
– Без сомнения, – сказал старейший. – Мы вовсе не держим их в тайне, однако набрасываем на его муки некий покров, именно потому, что так высоко чтим их. Но мы считаем предосудительной дерзостью выставлять орудие мучения и страждущего на нем святого на обозрение солнцу, которое скрыло лицо свое, когда бессовестный мир принудил его видеть это преступление, а тем более играть или щеголять глубокими тайнами, прячущими божественную глубину страдания, и попусту забавляться ими, пока самое достойное не покажется пошлым и безвкусным. Я думаю, этого покамест достаточно, чтобы вы были спокойны за вашего мальчика и не сомневались, что он так или иначе получит образование в желательном духе и, во всяком случае, не будет сбит с пути, не потеряет почвы под ногами.
Вильгельм медлил, осматривая картины в первой зале и прося истолковать их смысл.
– Пусть и этот долг, – сказал старейший, – останется за нами еще на год. Мы оставляем недоступным для посторонних все, что преподаем детям от празднества до празднества; а в праздник приходите послушать, что сочтут полезным публично сказать об этих предметах наши лучшие ораторы.
Вскоре послышался стук в калитку. Явился давешний надзиратель, он привел Вильгельмова коня, и наш друг откланялся Троим, которые на прощание так отрекомендовали его надзирателю:
– Отныне он причислен к самым доверенным, так что ты знаешь, как надобно отвечать ему, – ведь он наверняка попросит объяснить многое, что увидит у нас и услышит; мера и цель тебе известны.
Вильгельма и в самом деле занимали некоторые вопросы, и он тотчас же их задал. Где бы они ни проезжали, дети становились в те же позы, что и вчера, однако сегодня он замечал, что кое-где, хотя и редко, попадались и мальчики, которые не приветствовали надзирателя, но, оставив его проезд без внимания, не поднимали головы от работы. Вильгельм спросил, в чем тут причина и что означает такое исключение. Надзиратель сказал в ответ:
– Значение его чрезвычайно: это самое тяжкое наказание, какое мы налагаем на воспитанников; их объявляют недостойными выказывать почтение и принуждают быть на вид грубыми и невоспитанными. Но они всеми силами стараются вызволить себя и побыстрее вернуться к своим обязанностям, а кто из них заупрямится и не примет к этому никаких мер, тот отсылается к родителям с коротким, но ясным уведомлением. Кто не хочет приноравливаться к законам провинции, должен ее покинуть.
И сегодня, как вчера, у странника возбудило любопытство разнообразие покроя и цвета, отличавшее одежду воспитанников; казалось, тут нет никакой последовательности, потому что мальчики, приветствовавшие их по-разному, были одинаково одеты, а приветствовавшие одинаково – одеты весьма разнообразно. Вильгельм спросил, в чем причина этого кажущегося противоречия.
– Разгадка тут вот в чем, – отвечал надзиратель, – для нас это средство узнать характер каждого мальчика. Соблюдая во всем остальном строгость и порядок, здесь мы допускаем некоторую вольность. Из нашего запаса тканей и отделок воспитанники имеют право выбрать любой цвет, а также любой фасон и покрой из ограниченного их числа. За этим выбором мы пристально следим, так как любимый цвет позволяет судить о складе чувств, а покрой – об образе жизни человека. Правда, есть в человеческой природе черта, отчасти затрудняющая точное суждение: это дух подражания, склонность примыкать к большинству. Очень редко воспитаннику приходит в голову что-нибудь совсем новое, чаще выбирают знакомое, то, что перед глазами. Но и такое наблюдение небесполезно для нас: через такие внешние отличия ученик присоединяется к той или другой компании, и в этом обнаруживает себя его общее настроение; таким образом мы узнаем, к чему склонен каждый, кого он берет в пример.
Мы наблюдали случаи, когда всех одолевала одна склонность, когда мода распространяла свою власть над душами всех и всякая особенность стремилась затеряться в общей неразличимости. При таком повороте дела мы стараемся ненавязчиво обуздать моду: мы допускаем, чтобы наши запасы вышли, поэтому такой-то материи, таких-то украшений достать уже нельзя; мы же исподволь пускаем в оборот что-нибудь новое и заманчивое, соблазняя жизнерадостных – светлыми цветами и тесным, облегающим покроем, а более рассудительных – строгими оттенками и свободными, удобными фасонами, и так постепенно восстанавливаем равновесие.
Что до мундира, то его мы полностью отвергаем: он лучше любой личины прячет характер и скрывает от взгляда наставника особые черты каждого ребенка.
За такими разговорами Вильгельм добрался до границы провинции, именно до того пункта, где по указанию старого друга должен был покинуть ее, чтобы направиться к своей цели.
Прощаясь, надзиратель заметил Вильгельму, чтобы тот ждал теперь большого празднества, о котором участников извещают различными способами. На него приглашают всех родителей, и самые преуспевшие воспитанники выпускаются в привольный мир, навстречу всем превратностям. Тогда, обещали ему, он получит доступ в любую местность, где преподаются основы одной какой-нибудь науки и где все окружение способствует занятиям ею.
ГЛАВА ТРЕТЬЯСтремясь угодить привычкам любезных читателей, которые давно уже находят удовольствие в том, чтобы все занимательное преподносилось им по кускам, мы вознамерились было разделить на части и нижеследующий рассказ. Но внутренняя связь как мыслей и чувств, так и событий потребовала последовательного изложения. Пусть же оно достигнет своей цели, тогда к концу станет ясно, что действующие лица этой истории, на первый взгляд стоящей особняком, тесно связаны с теми, кого мы успели узнать и полюбить.
Пятидесятилетий мужчина
Майор не успел еще въехать во двор усадьбы, а Гилария, племянница его, уже стояла в ожидании на ступеньках наружной лестницы, которая вела в барский дом. Майор едва узнавал племянницу, до того она выросла и похорошела. Гилария полетела ему навстречу, он прижал ее к груди с истинно отеческим чувством, и они вместе поспешили наверх, к матушке Гиларии.
Баронесса, сестра майора, также обрадовалась его приезду. Когда дочка ее поспешила прочь, чтобы накрыть к завтраку, майор радостно сообщил:
– На сей раз я могу сказать в двух словах, что дело наше окончено. Наш братец обер-маршал убедился, что иметь дело с арендаторами и с управляющими ему не под силу. Поэтому он при жизни передает поместья во владение нам и нашим детям; правда, он выговорил себе весьма высокое годовое содержание, но мы можем его выплачивать, причем и теперь нам останется немало, а в будущем – всё. С этим соглашением скоро все устроится. И я, хотя и жду в недалеком будущем отставки, вижу новую возможность жить деятельно, на пользу нам и нашим близким. Теперь нам остается спокойно смотреть, как растут наши дети, а ускорить их союз – это зависит от нас и от них.
– Все это было бы прекрасно, – сказала баронесса, – если бы не один секрет, который я должна открыть тебе и о котором сама только недавно узнала. Сердце Гиларии уже не свободно, так что с этой стороны твоему сыну, пожалуй, не на что надеяться.
– Что ты говоришь? – вскричал майор. – Как это возможно? Мы не жалеем труда, чтобы обеспечить себя экономически, а тут вдруг сердечная склонность ухитряется сыграть с нами такую шутку! Скажи, любезная сестрица, скажи сейчас же, кому это удалось приворожить сердце Гиларии. И так ли плохи наши дела? Быть может, это только мимолетное увлечение и есть надежда, что оно пройдет?
– Поразмысли сам и догадайся! – отвечала баронесса, лишь подогрев нетерпение брата. Оно достигло уже крайней точки, когда вошла Гилария в сопровождении слуг, подававших завтрак, и помешала получить скорый ответ на загадку.
Майору показалось, что он и сам вдруг стал смотреть на прелестное дитя другими глазами. Он чувствовал в себе чуть ли не ревность к тому счастливцу, чей образ мог запечатлеться в сердце прелестного создания. Завтрак пришелся ему не по вкусу, он даже не заметил, что все приготовлено точно так, как он любил и как обыкновенно желал и требовал.
Это молчание, этот прерывистый разговор почти что лишили Гиларию недавней веселости. Баронесса, чувствуя себя смущенной, усадила дочь за фортепиано, но и ее одушевленная, полная чувства игра едва удостоилась от майора одобрения. Он желал лишь, чтобы завтрак поскорей убрали, а прекрасное дитя удалилось, и баронесса поневоле решилась наконец встать и предложить брату прогуляться по саду.
Едва они остались одни, майор настойчиво повторил свой вопрос, на который сестра его, повременив, ответила с улыбкой:
– Если ты хочешь найти счастливца, которого она полюбила, то тебе незачем далеко ходить, он тут, рядом: она любит тебя.
Майор застыл, пораженный, потом воскликнул:
– Вот шутка некстати – уговаривать меня в том, от чего, будь оно серьезно, для меня вышли бы только конфуз и несчастье! Хоть я и не могу оправиться от изумления, зато могу увидеть наперед, в какое расстройство придут от такой неожиданности все наши дела. Утешает меня только одно: я уверен, что склонности такого рода часто бывают мнимыми, что за ними прячется самообман и подлинно чистая душа способна скоро одуматься от заблуждения, либо сама, либо с помощью более рассудительных особ.
– Я с тобой не согласна, – сказала баронесса, – по всем симптомам это серьезное чувство, оно захватило Гиларию целиком.
– Никогда не поверю, чтобы с ней, такой естественной, могло приключиться нечто столь противоестественное.
– Ничего неестественного в этом нет, – сказала сестра. – Помню, в юности я питала настоящую страсть к человеку еще старше тебя. Тебе всего пятьдесят, это не так много для немца, который, не в пример другим, более темпераментным народам, старится позже.
– Но чем ты подкрепишь это предположение? – спросил майор.
– Это не предположение, а уверенность. Постепенно ты и сам узнаешь больше.
Гилария присоединилась к ним, и опять майор невольно ощутил в себе перемену. Ее присутствие казалось ему еще милей и желанней, чем прежде, ее поведение как будто говорило ему о любви, и он понемногу начинал верить словам сестры. Чувство, которое он сейчас испытывал, было весьма приятно, хотя он не желал ни признаваться себе в нем, ни дать ему волю. Гилария была и в самом деле прелестна: в ее обращении непринужденная вольность, позволительная с дядей, сочеталась с нежной робостью перед возлюбленным, ибо она любила его искренне и всей душой. Сад стоял в пышном весеннем убранстве, и майор, видя, как покрываются листвой многие старые деревья, мог вновь поверить в возврат своей весны. Да и кто устоял бы от соблазна таких мыслей рядом с очаровательной девушкой!
Так бок о бок проводили они этот день, и каждая эпоха домашнего распорядка казалась им особенно радостной и уютной; после ужина Гилария опять села за фортепиано, и майор слушал музыку совсем иначе, нежели утром, одна мелодия переходила в другую, песня следовала за песней, и полночь едва смогла разлучить небольшое общество.
Взойдя в свою комнату, майор обнаружил там все давно привычные удобства, нарочно для него приготовленные; даже гравюры, которые он особенно любил рассматривать, были перевешены сюда из других комнат; а оглядевшись внимательно, он убедился, что в угоду ему позаботились обо всем, вплоть до самой мелочи.
На этот раз ему не нужен был многочасовой сон, жизненные силы рано пробудились в нем. Но поутру он неожиданно сознал, что новые обстоятельства влекут за собой некоторые затруднения. За много лет майору ни разу не приходилось выбранить своего старика-стремянного, который заодно отправлял должность лакея и камердинера: все шло обычным чередом, согласно строгому распорядку, лошади были ухолены, платье вычищено к нужному часу. Но сегодня барин встал раньше, и все разладилось.
Вдобавок еще одно обстоятельство увеличило нетерпение майора и напавшую на него злость. Раньше ему все казалось ладно и в себе самом, и в слуге, а нынче, когда он встал перед зеркалом, все было не по нем. И седины в волосах нельзя было не заметить, и морщины на лице обнаруживались вполне явственно. И хотя он растирался и пудрился дольше обычного, в конце концов все пришлось оставить, как есть. И платьем своим, и его чистотой майор остался недоволен: на мундире попадались волоски, на сапогах видна была пыль. Старый слуга не знал, что и сказать, и только удивлялся такой перемене.
Несмотря на все эти препоны, майор довольно рано вышел в сад и нашел там, как и рассчитывал, Гиларию. Она поднесла ему букет цветов, а ему не хватало мужества расцеловать ее, как бывало, и прижать к сердцу. Но смущение, которое он испытывал, было весьма приятно, и он дал волю чувствам, не думая о том, куда они его заведут.
Баронесса также не преминула вскорости появиться в саду и, показывая брату записку, только что доставленную ей посыльным, воскликнула:
– Ты ни за что не угадаешь, о ком извещает нас эта записка!
– Так скажи скорее сама! – отвечал майор и узнал от сестры, что его старинный театральный приятель должен проехать неподалеку от имения и намерен завернуть к ним на часок.
– Мне любопытно повидаться с ним, – сказал майор, – ведь он уже не молод, а все играет, как я слышал, молодые роли.
– Ему должно быть лет на десять больше, чем тебе, – отозвалась баронесса.
– Наверняка, если память меня не обманывает, – ответил ей майор.
В скором времени явился жизнерадостный, любезный господин стройного телосложения. В первый миг свидания все растерялись, потом приятели узнали друг друга, и начался разговор, оживляемый разнообразными воспоминаниями. Вслед за тем перешли к рассказам, к расспросам и ответам на них, каждый в свой черед поведал о своем нынешнем положении, и вскоре друзья чувствовали себя так, будто и не разлучались.
Рассказываемое по секрету предание гласит, что человек этот в давние времена, когда был еще красивым и приятным юношей, имел счастье или несчастье понравиться одной высокопоставленной даме, из-за чего попал в большие затруднения, но майор вызволил его из опасности, в нужный момент отвратив грозившую ему печальную участь. За это он навсегда сохранил благодарность и брату и сестре, чье своевременное предупреждение побудило его к осторожности.
Незадолго до завтрака мужчин оставили наедине. Майор рассматривал старого приятеля, дивясь и даже изумляясь его внешности и в целом, и в каждой черте. Казалось, он совсем не изменился, и не было ничего странного в том, что он может появляться на подмостках молодым любовником.
– Ты разглядываешь меня внимательней, чем позволяет вежливость, – сказал он наконец майору, – боюсь, ты находишь, что я сильно изменился по сравнению с прошлыми временами.
– Наоборот, – отвечал майор, – я восхищаюсь тобой, – насколько моложе и свежее меня ты выглядишь. А ведь я помню, ты был уже зрелым человеком, когда я с отчаянной смелостью желторотого птенца ринулся помогать тебе в известных затруднениях.
– Ты сам виноват, – отозвался собеседник, – так же как все люди твоего склада; и хотя упрекать вас не за что, однако подосадовать на вас можно. Вы думаете только о необходимом, о том, какими быть, а не какими выглядеть. Это неплохо, пока ты хоть кем-то остаешься. Но когда в конце концов внешность и сущность расходятся, причем внешность оказывается куда менее стойкой, чем сущность, тогда каждый замечает, что не пренебрегать телом ради души – грех небольшой.
– Ты прав, – отвечал майор и не мог подавить вздох.
– Может быть, и не совсем прав, – сказал пожилой юнец, – потому что при моем ремесле непростительно было бы не стараться поддержать свою внешность как можно дольше. А вам приходится больше глядеть на другое, более важное и существенное.
– Но бывают обстоятельства, – сказал майор, – когда чувствуешь себя в душе совсем свежим и очень хочется, чтобы и внешность опять стала так же свежа. – Приезжий не мог угадать истинное состояние духа у майора, а потому счел, что в нем говорит солдат, и стал распространяться о том, как важен для военного внешний облик и как надо было бы офицеру, который по обязанности уделяет столько внимания одежде, заботиться также о коже и о волосах.
– Например, непростительно, – продолжал он, – что виски у вас поседели, кожа сморщилась, а голова скоро станет плешивой. Полюбуйтесь-ка на меня, старика! Посмотрите, как я сохранился! И никакого колдовства, а забот и хлопот меньше, чем мы тратим каждый день себе во вред или, по крайней мере, без всякой пользы.
Майор находил для себя в этой случайной беседе слишком много проку, чтобы сразу ее оборвать, однако к делу он приступил медленно, соблюдая осторожность даже со старым приятелем.
– Увы, время упущено, – воскликнул он, – и наверстать ничего уже нельзя! Надобно смириться, а вы, я надеюсь, не станете из-за этого думать обо мне хуже.
– Ничего не упущено, – возразил приезжий. – Если бы только вы, степенные люди, не были так надуты и надменны и не объявляли бы всякого, кто заботится о своей внешности, пустым малым! Ведь этим вы сами себе портите удовольствие быть приятными в приятном обществе.