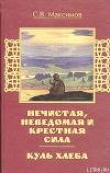Текст книги "Трубачи трубят тревогу"
Автор книги: Илья Дубинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Лукавый Лука
Когда у Майдана Голенищева наши казаки тушили объятые пламенем стены пасеки, Мостовой вывел из кустов бересклета двух малышей.
Девочка лет пяти озиралась вокруг испуганными глазами-незабудками. В смуглых ручонках она держала лукошко с ягодами. Мальчик, не по сезону одетый в длинный, до пят, вельветовый пиджак, прячась за спиной сестры, смотрел волчонком из-под нахмуренных светлых бровей.
– Чьи будете, светлячки? – стараясь говорить поласковее, спросил Мостовой.
Дети упорно молчали. Но грузная торба из старого рукава, висевшая через плечо девчонки, говорила о многом.
Мостовой, порывшись в кармане, извлек два куска колотого сахара. Девочка взяла гостинец сразу. Мальчик долго от него отказывался, но, взглянув на сестру, протянул руку за лакомством. Девочка сняла с плеч торбу, опустила ее на траву.
– Передайте таткови. Лежит связанный на подводе.
– Как его звать? – спросил Мостовой.
– Богдан! – ответили в один голос дети.
– А по-лесовому?
– «Божа Кара!» – гордо отчеканил мальчик. Сбросив тяжелый пиджак, угрюмо добавил: – И это таткови.
Казак Запорожец, услышав сердитый голос малыша, выругался:
– Бандитское семя! Нет вершка от горшка, а как смотрит, волчонок!
– Брось, Максим, – осадил бойца Мостовой. – Дети за отцов не отвечают.
– Где ваша хата, светлячки? – присев на корточки, сочувственно спросил Мостовой.
– Наша хата за лесом, – доверчиво ответили малыши, – в Клопотовцах.
– Попрощайтесь с татком и марш к мамке. Сами и передадите ему торбу и спинжак. Тебя же, Максиме, прошу, присмотри за атаманами. А то как бы «Божья Кара» не убежала от кары народной...
Помню, мы все тогда жалели детей атамана. Если бы их было только двое – этих убитых горем несчастных ребят!
Казалось, что со всех сторон доносится тревожный крик: «Спасите наши души! Спасите наши души!» И надо сказать, что усилиями нашей партии, усилиями таких людей, как Мостовой, множество и множество душ было спасено.
После операции у Майдана Голенищева мы с комиссаром дивизии Лукой Гребенюком и Мостовым с напряженным выниманием слушали у нас в штабе, уже в Литине, сбивчивое повествование атамана «Божья Кара» – Богдана Цебро. Что-то общее было в зверином облике этого обитателя лесных трущоб с петлюровцем Максюком, захваченным год назад в Грановском лесу на Гайсинщине.
Те же небрежно выбритые щеки, тот же землистый цвет лица – результат неспокойных ночевок в землянках и постоянного напряжения нервов, тот же настороженный, явно недружелюбный взгляд исподлобья и тот же отталкивающий, дающий о себе знать на расстоянии, густой козлиный запах – обязательный спутник неопрятных, долгое время лишенных бани людей.
Но если крутой и тонкий нос Максюка придавал его обрюзгшему лицу грозное, можно даже сказать, свирепое выражение, то заурядная, с коротким вздернутым носом физиономия Цебро и наполовину, по всей длине, отсеченное ухо не вязались ни с «высоким предназначением», ни с грозной кличкой атамана.
Еще на обратном пути в Литин душевно взъерошенный Братовский-Ярошенко, морщась от сыпавшихся на его голову проклятий, советовал обратить внимание на карнаухого.
– По чину, как и я, сотник, – шептал, покачиваясь в седле, бывший петлюровский резидент. – Но он из тех сотников, которые знают больше иного полковника...
...Лука Гребенюк, сморщив лицо, глуховатым голосом попросил крутившегося в штабе взводного Почекайбрата:
– Голубчик, будь ласка, распахни окно. Атмосфера что-то тяжелая стала.
Мостовой предложил пленнику поменяться местами.
– Что? Не терпите мужицкого дыма? – не без ехидства спросил петлюровец.
– Рос на махре. С десяти лет. Терплю дым, но не терплю козлиного духа.
– В лесу бань-то нет! – заметил Гребенюк. – Один душ, и тот порой уж очень горячий! Вот как на пасеке за Майданом Голенищевом.
– Не боитесь, сорвусь? – Искоса поглядывая на широко раскрытое окно, атаман уселся на табурет Мостового.
– И не подумаете! – отчеканил комиссар дивизии. – Не те времена. Теперь ваш брат думает о другом. Рады, что зацапали. По глазам вижу: хочется сказать нашим казакам спасибо, а стыдновато. И дурацкая гордость не позволяет...
– Ну и меткость! Из десяти возможных девять прямо в яблочко! – сердито хмурясь, выпалил атаман. – Вы кто, знахарь? Был у нас один из этой категории, сотник Максюк, гадал все больше на бобах. А вы на чем?
– На морзянке!
– Не пойму! – Лицо пленного вытянулось. – Может, это как знаменитый «железный факир» Ибн Бамбула? Зырнет на твои кишени и начнет чесать без запинки, сколько там грошей, какие документы. Наша контрразведка сразу его замела – шпион! Таким глазищам и стальные стенки нипочем! Было это осенью девятнадцатого года, в Попелюхах. Там давал представление бродячий цирк.
– Этого фокусника я знал, – ответил комиссар при полном молчании штабников. – Бродячий цирк был тогда в Коростышеве. Тоже в девятнадцатом, летом. Даже афишу ихнюю помню. Вот послушайте: «Только три дня! Только три дня! Ловите момент! Ловите момент! Чудо Европы и всех ее двенадцати окрестностей! Краса священного Ганга и славного Днепра! Любимец публики Правобережья и всего Левобережья! Шут кубанский, клоун молдавский, эквилибрист бессарабский, шпагоглотатель таврический, непревзойденный хиромант всего земного шара! Укротитель диких баранов! Покровитель ядовитых змей и черных тараканов, железный факир и мудрец Мартын Заденко Ибн Бамбула Брамапутский!..»
Без единой запинки произнесенная Гребенюком цирковая реклама вызвала дружный смех всех слушателей, а комиссар продолжал:
– И наши особисты приняли его за шпиона... Но тогда ему повезло. В коростышевской конной милиции служил цирюльником его родной брат Хома Бамбула. Но я не из фокусников. И не из цирюльников. До меня в нашем роду были мужики, от меня пошли канцеляристы. Долго таскал пятипудовики на Роменском элеваторе. По вечерам учился на телеграфиста...
– Вот что значит «морзянка» – телеграфный аппарат Морзе? – спросил атаман.
– Эге! По уши влез в эти дела. Поначалу во сне никак не мог вырваться из силков – телеграфные ленты опутывали. Над ухом все пищало: точка-тире, точка-тире... а потом и днем стало донимать. Воробьи у станционной конторы чирикают, а мне слышится: точка-тире, точка-тире... Паровоз гудит – мне же мерещится: точка-тире, точка-тире... Потом из этих телеграфных значков складывается в моей голове чудная речь воробьев, паровозов, высоких хлебов, густых трав...
Атаман, напряженно слушавший комиссара, как-то опустил плечи. Сошла настороженность с его хмурого лица. Взгляд стал более человечным.
– И сейчас вижу – в ваших глазах вспыхивают телеграфные знаки: точка-тире, точка-тире. И не так уж трудно расшифровать эту морзянку, эту безмолвную депешу запутавшейся души... Душа вопит: куда я шел и до чего докатился... точка-тире, точка-тире. Был воякой, а стал бандитом... точка-тире, точка-тире...
– Мутим души детей! – воспользовавшись паузой в речи комиссара, добавил Мостовой. – И чужих, и своих. Вот тех, что под Майданом Голенищевом принесли вам пиджак, харч. Не детки, а настоящие светлячки!
Атаман заерзал на табурете. Больно прикусил нижнюю губу. Не выдержал пристального взгляда Мостового.
– Самостийна Украина Петлюры! – продолжал Гребенюк. – Где она? Нет ее, не было и никогда не будет. У Петлюры может быть только самостийна земська аптека!
– Значит, вы и есть комиссар второй червонно-казачьей дивизии Лука Гребенюк? – спросил петлюровец, немного оправившись после короткого замешательства.
– Эге! Что? Встречались где-нибудь с вами?
– Зачем встречались? Сейчас не то что в наших лесных землянках, а даже за Збручем, во всех козацких лагерях, и то знают ваше словечко – «самостийна земська аптека»! Все говорят: не одного нашего гайдамака переманили своим лукавством. И прозвали вас там «Лукавый Лука».
– При чем тут хитрость, при чем лукавство? Переманывает вашего брата не Лукавый Лука, а нелукавая правда жизни. Мы же все, – Гребенюк указал на собравшихся в штабе казаков, – лишь ее защитники и пропагандисты.
Атаман, не выпуская изо рта цигарки, все исступленней затягивался. На его обрюзгшем лице, казалось, было написано: «Зачем возитесь со мной? Взяли на горячем, ведите на клуню, секите голову, стреляйте. Не терзайте душу, не тираньте!»
Когда-то, в средние века, на бронзовых телах пушек литыми латинскими буквами писался грозный девиз: «Последний довод королей». Но если у королевской власти, кроме пушек, были еще какие-то доводы, то сколько могучих доводов появилось теперь у власти народной!
Условия гражданской войны на Украине имели свою неповторимую особенность. Червонное казачество – тяжелый молот, крушивший куркульские полки самостийников, – одновременно было сильно действующим магнитом по отношению ко всем тем, кто попал к Петлюре по заблуждению.
Мы хорошо знали врага, а старались узнать еще лучше. Нас интересовало: сколько лет провел атаман в желтоблакитном стане и что его туда привело? Как он относился к своим казакам и как обходился с пленными красноармейцами? Откуда его ненависть к советской власти? И особенно сильно было наше любопытство к тем, кто, не имея богатых хуторов, вековых рощ, несметных табунов, попал в гайдамацкие ряды.
Кое-кто называл нас пренебрежительно советскими попами, считая, что главный аргумент воина – его острый клинок. Пусть! Но заблуждались, как показала сама жизнь, эти «ура-рубаки», а не мы. Мы помнили основной довод – жгучее ленинское слово. Наши проповеди сделали не меньше, чем клинки, которыми, кстати, и мы, когда это нужно было, умели пользоваться как последним из последних доводов пролетариата.
Действуя по ленинскому принципу: сначала убеждение, а потом принуждение, мы обращались к нашим противникам с предостерегающими словами Тараса Шевченко: «Схаменiться, будьте люде...» И это действовало. Под Большими Зозулинцами целая бригада сечевых стрельцов Петлюры повернула штыки против интервентов! А полк гайдамаков во главе с их командиром Сергеем Байло! Сколько же он покрошил оголтелых петлюровцев, сражаясь под красными знаменами!
Если враг переставал быть врагом, это было уже большой победой ленинской правды. Среди отобранных у атамана записей была такая фраза: «Будь проклят ты, твое паскудное имя и весь твой дьявольский петлюровский род...» Это говорило о том, что хозяин дневника готов отойти от самостийников, но еще не отошел. А многие, по мере просветления их мозгов, невзирая на все прошлые преступления, шли с нами против тех, с кем были вчера. Не это ли шаг к победе малой кровью, к победе по-ленински, по-человечьи?..
«Божья Кара»
Откровенно, без утайки, беседовал с нами петлюровский сотник Цебро.
– По крови я сын украинского народа, – с болезненной наигранностью повествовал он. – По классу – сын бедняка... В общем, роду я не казацкого, а батрацкого. Отец – швейцар полтавской гимназии. Ну, а по духу... Вы сами знаете, какого мы духа...
Нелегким оказался для гимназиста – сына швейцара – путь к знаниям. Подавляющая масса соучеников – сынки дворян и имущей знати – сторонилась его. Однажды на уроке французского языка он, краснея и обливаясь потом, под насмешливые выкрики класса вместо «ке фе т-иль?»[30]30
Что он делает?
[Закрыть] упорно произносил «ке хве т-иль?». После этого детвора не давала ему спуску, заставляя произносить ставшие для него ненавистными слова – фикус, фонарь, Федор, фасон.
С иголочки одетые подростки открыто издевались над шитой на вырост дешевенькой шинелью молодого Цебро, называя ее «жлобской хламидой» и «маминой спидныцей».
То, что одноклассники сторонились его, Богдану было понятно. Не дружить же сыну дворянина с сыном швейцара. Но семена обиды все глубже и глубже пускали свои цепкие корни. Мучают его – так и быть. Но зачем издеваются над его народом? Хорошо, пусть они говорят Федор, а мы – Хведор. Так разве мы не такие люди, как они? Такие же, но не все! Вот не дошло тогда до сознания Богдана, что над сынками богатеев Кочубеем, Капнистом гимназисты не издеваются. Напротив, всячески заискивают перед ними, угождают им. А ведьв их жилах течет та же кровь, Что и у него, – украинская.
Не понимал тогда молодой Цебро главного. Дворянчики возмущались тем, что рядом с ними, в одном классе сидит плебей, сынок того, кто в раздевалке хранит их шинели.
Не понял этого Богдан ни тогда, ни еще много лет спустя. И переживет он немало, прежде чем у него по-настоящему раскроются глаза.
Отец внушал ему:
– Эта анафемская гимназия для тебя, Богдане, путь в люди. Не быть же и тебе швейцаром. Потерпи, сынок! Христос терпел и нам велел.
С трудом Богдан добрался до шестого класса. Гимназисты хлынули в школы прапорщиков. Полгода – и Богдан Цебро вырядился в драповую офицерскую шинель с золотыми погонами. Когда Цебро, по настоянию родителей, поднялся из швейцарского подвала наверх, в актовый зал, его бывшие соученики зашумели: «Здравствуйте, господин прапорщик!»
На сей раз Цебро не имел права обижаться: его встретили восторженно, с неподдельным восхищением. Вот что значит прапорщик его императорского величества! Не «хвикус», не «ке-хве т-иль», а «ваше благородие!»
– А там скинули царя, – все больше и больше оживляясь и нервно гладя рано полысевшую голову, продолжал плененный атаман. – «Наконец-то будет у нас своя держава, – подумал я тогда. – Никто не станет смеяться ни надо мной, ни над моими детьми. Потому что в нашей, державе все будут Хведоры, а не Федоры...» Много в ту нашу первую военную зиму пролилось, крови, – с горечью говорил Цебро. Передвинувшись на самый край табурета, он показал левой, заскорузлой, давно не мытой рукой на изуродованное ухо. – Вот отхватил его свой же брат, украинец. Случилось это восьмого февраля восемнадцатого года в Киеве. Один момент – и четыре сбоку, ваших нет! То были ваши хлопцы – червонные казаки. А может, я этим обязал кому-нибудь из вас?
– У того казака, – ответил Гребенюк, – видать, лошадь была сильная, а рука слабая – обкарнал только пол-уха. В бою мы вместе с ушами снимаем и голову. Так что, пан атаман, на нас не грешите.
После переворота Скоропадского петлюровская армия с тайного благословения головного атамана присягнула гетману. Подпольная связь между Петлюрой и командиром Левобережного корпуса атаманом Болбачаном была доверена молодому хорунжему Богдану Цебро. И ему начало мерещиться, что еще немного – и он, всегда бывший последним среди последних, займет прочное место среди первых. Вот тебе и «мамина спидныца», вот тебе «ке хве т-иль», черт побори! А отрубленное ухо ничуть не мешало. Напротив! В Запорожской Сечи гордились такими почетными знаками.
– Меня ценили, – вспоминал он. – Привез я раз письмо Болбачана. А у пана Петлюры люди. Полон кабинет. Симон Васильевич положил руку на мое плечо и говорит: «Кое-кто из вас, добродиев, мне закидает, что я своей политикой отталкиваю рабочий класс. И вы, добродий Вовк-Сыроманец, первый! – Головной атаман указал пальцем на тощенького, быстроглазого человечка. – А ну спросите пана хорунжего, какого он роду? Он вам и скажет: «Самого что ни на есть пролетарского!» – и это будет сущая правда, панове!»
– Люмпен-пролетарского! – шумно выпуская из носа клубы махорочного дыма, невозмутимо заметил Мостовой. Сверля атамана глазами, продолжал: – Обратно же возьмем лакеев из гостиниц и рестораций. Кое-кто из этих «пролетариев» шибко жалеет о буржуях: по чаевым соскучились!
...В знаменитом бою под Мотовиловкой, где верные Петлюре полки Коновальца, восстав, разбили двинутые против них из Киева гетманские силы, хорунжий Цебро уже был в строю. Петлюра пожаловал ему чин сотника и поручил формировать полк серых гайдамаков (имели шапки с серым шлыком).
Ожидая производства в полковники, Цебро со своим полком боролся против червонных казаков под Старо-Константиновом, Проскуровом и даже здесь, под Литином, в котором он, Цебро, спустя два года дает показания. Но ждал сотник Цебро напрасно. В полковники его так и не произвели. Кто бы мог подумать? А началось все с пустяка!
Ухаживая за пышно свисавшим к левому уху оселедцем, Цебро стал замечать, что с каждым разом на расческе остается больше и больше волос. Не помогли ни знахари, ни древние шептухи. Один опытный врач объявил: причина облысения – дурная болезнь. Тогда Цебро вспомнил глухой переулок у Контрактовой площади. Черное убранство комнаты, черные чулки и даже черное белье красотки. Назвалась она офицерской вдовой. Не взяла деньги, подарок.... «Черная напасть», – подумал сотник, выслушав диагноз доктора. – «Божья кара», – сказал он вслух, вернувшись в штаб.
– Верите в бога? – спросил комиссар.
– Верю – он меня покарал. В Ахтырке подцепил белый с красными цветами шерстяной платок. Послал Фросе – моей жене. Послал, а самого пекут слова обиженной бабы: «Хай вас за ту хустку черна пранця побье»... Вот и побила... А теперь посудите, – с горькой усмешкой произнес атаман, – чи станут гайдамаки слушать пархатого полковника? Только пан головной не захотел меня обидеть. Взял меня в ставку...
– Но так на чине сотника вы и засохли? – спросил Мостовой.
– Помните, что сказал пан Выборный? Это в «Наталке-Полтавке»... «Лучше живой хорунжий, чем мертвый сотник». А я скажу: лучше живой сотник, чем мертвый полковник...
– Пока живой... – подал реплику Почекайбрат.
– Не твоего, Панас, ума дело, – осадил взводного Мостовой.
– Крови на мне нет, – продолжал петлюровец, искоса взглянув на Почекайбрата, – кроме той, что в честном бою... За это солдата не судят... Пленных не убивал... Мирных жителей тоже. Из-за Збруча требовали, чтобы я во имя бога побольше карал... Но покаранным остался лишь атаман Божья Кара...
– Что ни день пакостили, срывали труд селян, – сухо произнес комиссар, – а послушать вас – вы самый безобидный и несчастнейший в свете человек...
– Да, вы видите перед собой несчастную жертву чеботаревского застенка, – ударил себя в грудь атаман. – Не верите? Возьмите мой дневник, господа-товарищи!
– Что? – спросил Гребенюк, потрясая трофейной тетрадью перед лицом атамана, – осуждаете пана Петлюру? Разоблачаете изменников-атаманов, продававших Украину? Сами каетесь? Как же вам доверили атаманство? Что-то не вяжется: петлюровский резидент и «жертва чеботаревского застенка». Что? Страшно держать ответ?
– Я не из тех, кто, выслушав смертный приговор, пускается в пляс: «Ой, кума, не журись, туды-сюды повернись...» Я молод. У меня дети. Хочу жить... Почитайте дневник. Увидите, каков наш головной. За верную службу сдал меня в руки палачу...
С помощью самого Цебро мы осилили расплывшийся, написанный химическим карандашом текст дневника. Начинался он так: «Подволочиск. Будка стрелочника. 21 ноября 1920 года. Чернейший из всех черных дней. Не победа на Днепре, а разгром на Збруче. Не высокие курганы славы, а жалкие холмики казацких могил. Первая – под Крутами. Последняя – под Писаревкой. Могила всей нашей казацкой красы! Последняя ли она? Запишу, пока свежо в памяти.
После разгрома там, за Збручем, начался развал здесь – к западу от Збруча. Все открыто критиковали головного атамана. Даже писака Вовк-Сыроманец».
Когда разгорелся бой в Волочиске, адъютант ставки Цебро находился в вагоне Петлюры. Он был свидетелем такого разговора.
Французский полковник Льоле, опекавший раньше Петлюру, теперь наседал на головного:
– Ну шьто, первый зальп – и Украйн, гоп, поднялсь? Да, мусью, Пьет-Льюра, Украйн, поднялсь, только не с вами, а против вас, да, контр вас. Вольочиск – это ваш позор...
Петлюра ответил:
– У нас. Волочиск, а у вас Седан... Мы поторопились. Послушались пана Пилсудского.
Заговорил Вовк-Сыромалец. Армейский писака. Почему-то в цивильном:
– Беда – быть лакеем. Вдвойне беда – быть лакеем у лакея. Да, положение пикантное. Котовский и червонные казаки в Волочиске. Чего ждать от кандальника? Ворвется со своими головорезами в Подволочиск...
Тут размечтался Петлюра:
– Парочку бы мне Примаковых или Котовских. Сидел бы я не в этом несчастном Подволочиске, а в нашем златоглавом Киеве...
А Вовк-Сыроманец продолжал:
– У нас, пан головной, Котовский мог бы стать Удовиченкой, а у них Удовиченко – Котовским... Не герои создают среду... Среда создает героев. И еще скажу, мы занимались маскарадами, а большевики – душой мужика. Мы завели оселедцы Тараса Бульбы, нацепили гайдамаку черный и желтый шлык, а о том не подумали, что у него душа красная...
Головной положил руку на плечо газетяра:
– Народ, который не пытается завоевать свое право мечом, достоин доли раба...
А Вовк ему ответил:
– Лбом стенки не прошибешь... Меч мечом, а гибкость гибкостью. Надо было признать Ленина, Советы... сотрудничать с ними. Сотрудничать и потихоньку завоевывать народ, изнутри...
– Знакомая песенка, – возразил Петлюра. – Ею мне прожужжал уши Винниченко. Большевики могли спеться с Курносым Мефистофелем. У них еще могли найтись общие слова. Для Симона Петлюры у них есть лишь штыки и темницы чека. Упрятали бы меня за решетки. Да и вас, пан газетяр, хотя бы за вашу брошюрку «Симон Петлюра».
– Упрятали бы нас, но не наши идеи, – продолжал Вовк. – А может, я и уцелел бы. Покаялся бы за «Симона Петлюру».
– Ваше счастье, – зло сказал Петлюра, – что мы в Польше, а не у себя дома. Я бы вам устроил свидание с паном Чеботаревым.
– Понимаю, – усмехнулся газетчик, – ни одна держава не может обойтись без палача. Но кат Чеботарев – это не собеседник для мыслителя Вовка-Сыроманца...
А тут вошел сам Чеботарев.
– Пан головной атаман, – начал он, – полковник Стеценко не выполнил вашего приказа. Сдал Волочиск... Батько, докладываю: Стеценко трус и изменник. Благослови, батько...
Вовк заговорил первый:
– Высшая политика не признает сантиментов... Она знает один закон – закон джунглей. Трудно было убить первого – кошевого атамана Болбачана. А потом полетели головы верных сынов Украины... Да, я вас, Симон Васильевич, изучаю давно... ваши хуторские концепции еще кое-как годились для борьбы с Керенским. Но с Лениным может бороться лишь человек, мыслящий мировыми категориями... с иной архитектурой ума.
– Когда умолкают пушки, начинают гудеть злопыхатели и болтуны, – ответил Петлюра. – Забыли свою брошюрку? Кто же в ней писал обо мне – «найкращий син рiдного нашого краю»?.. Измена, настоящая государственная измена...
– Это козырной туз всех неудачливых правителей... Все-таки, Симон Васильевич, вам было бы лучше в сутане, нежели в жупане.
На путях загудел паровоз. Все встрепенулись. Но ждали напрасно. Паровоз легионеры Пилсудского пустили под свой эшелон. Тут Петлюра приказал Цебро:
– Летите к «Кармелюку». Пусть хлопцы держатся там час или два... пока нам дадут паровоз.... Послужите мне, пан сотник, еще разок... Помните восемнадцатый год? Ну, с богом, Богдан...
По пути к бронепоезду Цебро заскочил в будку стрелочника. Решил на свежую память записать все услышанное. И записал. Вышел из будки. Направился к мосту, а навстречу бегут рабочие, перешивавшие колею. И гайдамаки с бронепоезда... Кто с телом пулемета на плече... кто просто с узлами... Прощай «Кармелюк»! Что теперь скажет сотник Цебро пану головному?
* * *
Состав из шести вагонов, в которых помещалась ставка и несколько министров из гражданского управления, уже стоял наготове. Цебро подумал: «Ну, все, слава богу, в порядке. Хоть и смазали пятки вояки с панцерныка, но опасность миновала: состав под паровозом, а паровоз под парами». Но не так думал пан Чеботарев. Цебро за поручни – а контрразведчик уже подсаживает его. И так не снимал руки с пояса, пока не привел в купе головного.
– Батько! – обратился он. – Вот такие повинны в катастрофе. Если ваших, батько, приказов не выполняют адъютанты ставки, то чего ждать от простых старшин? Имею точные сведения – у панцерныка и духа его не было. Где-то переховывался. Благослови, батько.
Цебро ждал с трепетом. Его жизнь и судьба зависели от одного звука, даже не звука, а взгляда или движения бровей пана головного. По сути, Чеботарев не врал. К «Кармелюку» Цебро не попал. И, ожидая расплаты, думал о своих заслугах: Дарница, Мотовиловка! А курьерство в дни гетманщины! А зимний поход! А тяжелые бои с большевистской конницей во время советско-польской войны! А отрубленное ухо! А железный крест!
Пан головной махнул рукой.
– Помню, – поведал нам атаман, – в груди – лед, в голове – огонь, в ногах – вата. И тут меня повели: «Прощайся с жизнью, Богдане. Бог тебе ее дал, головной отобрал. От него железный крест, от него и свинцовая пчелка». Из вагона головного вытолкнули, а в «пульман» Чеботарева втолкнули. Состав тронулся. От всего пережитого за день не заметил, как заснул. Схватился я от крика «геть!» – это Чеботарев выпроводил из купе караульщиков. Не взглянув на меня, кат присел к столику. Начал писать. Потом взял криво исписанный листок, прочел его содержание: «Меня, сотника Богдана Цебро, подавила военная катастрофа. Кончаю с собой. В моей смерти никого не винить. Хай живе батько Симон Петлюра!» Палач сердито приказал: «Эй ты, пачкун! Перепиши своей рукой, потом подмахни. И хай будет дело с концом...»
Не совладав с собой, выкрикнул я: «Падлюка!» – и двинул кулаком по столу так, что загремели подстаканники, бутылки. Чеботарев откинулся к стенке купе, хлопнул в ладоши. Вернулись подхорунжие. Связали меня, руки туго стянули солдатским ремнем. Я потребовал цигарку. Чеботарев выгнал стражу, воткнул мне в рот папиросу, зажег спичку, дал прикурить, а потом сказал примирительно: «Богдан Петрович! Я считал вас умницей. Вам нужно умереть. Я хоть и не писака, как некоторые, но составил неплохую афишку. Потомки с гордостью будут произносить имя славного сотника Богдана Цебро». Тут головной кат раскрыл серебряную пудреницу, извлек из нее щепотку кокаина и, прижав одну ноздрю пальцем, блаженно затянулся.
«Мне уж терять было нечего, – читал Гребенюк дневник Цебро. – Я хорошо знал, что от такого ката, как Чеботарев, ни лаской, ни раскаянием, ни мольбой ничего не добьешься. И я заорал: «Гад ползучий! Цебро жил героем и умрет героем. Нас, боевиков, расстреливаешь, вешаешь, а воров-интендантов милуешь. Хоть вояки наши босые и голые, зато у тебя всегда и коньячок, и марафет!» А он: «Заткнись, изменник! Скажи хоть, где ты прятался, пока наши вояки гибли от пуль большевиков. Тоже мне герой – «ке хве т-иль!». Чеботарев словно полоснул меня раскаленным прутом. Прошло столько лет, и я ни разу ни от кого не слышал этого, так унижавшего меня выражения. Но как дознался кат? Как? Против большевистских шпионов – лопух, о каждом из нас он располагал данными аж до десятого колена. «Ну и что, если «ке хве т-иль»? – ответил я. – Дело Болбачана помнишь, пан Чеботарев?» Головной кат встрепенулся. Обрадовался: начинается главный разговор. И в то же время стараясь насладиться муками жертвы, он небрежно произнес: «Очень даже хорошо помню. Это же был не только твой друг, но, как тебе известно, и мой. А документ все же подпиши. Не подпишешь, черт с тобой. Кокнем и составим акт о самоубийстве. Я у тебя, быть может, первый, а ты у меня тысяча первый...» – «Так вот, тысячу ты проглотил, а тысяча первым подавишься, – сказал я. – Письмо твое к Болбачану помнишь? Оно сохранилось... в надежных руках...»
В помещении стало необыкновенно тихо. Затаив дыхание мы ждали, что будет в дневнике дальше. Но заговорил Цебро.
– Тут пояснить треба. Летом 1919 года кошевой Болбачан метил на пост головного атамана. Вот тем письмом Чеботарев обещал заговорщику арестовать Петлюру. Но он же и продал Болбачана. 28 июня 1919 года сам отвез кошевого атамана на полустанок Балин и посек.
«Где письмо?» – зарычал Чеботарев. «У надежного человека, – я положил босые ноги на постель Чеботарева. – Как только он узнает, что я в твоих лапах, письмо пойдет в ход...» Минут пять молчали. Первым заговорил Чеботарев: «Верни письмо, отпущу на все четыре стороны. Отпущу и дам золотые документы. Для головного атамана тебя уж нет в живых. Да, как сотник Цебро, ты умер. Воскреснешь под другим именем. Но не здесь... Подчиню тебе для начала один уезд. А сам будешь подчиняться вице-атаману Подолии Якову Шепелю. Остальное все будет зависеть от тебя. Может, и загремит на всю Украину имя нового борца. На Подолии народ религиозный. Он поверит в боевого вожака-атамана «Божья Кара». Ну что, згода?» Я согласился. Это все же лучше, чем валяться с продырявленной головой где-нибудь под откосом на перегоне Подволочиск – Тернополь.
Чеботарев взял двумя пальцами «посмертную записку». Поднес к свече. Когда бумажка сгорела, он заговорил: «Помните. Ни одной подводы зерна, ни одного чувала сахара, ни одного полена дров большевикам. Жгите склады, ссыпные пункты, пускайте под откос поезда. А там, может, придет время – начнутся настоящие дела. В Европе богатства много, а защищать его некому. Кому-нибудь мы еще будем нужны. Ну, ничего, – сказал он на прощание, – эти сукины сыны вышибли нас с Украины в двери, а мы проберемся туда через окно. С богом, атаман «Божья Кара!»
...Прошло всего несколько минут, и я всего себя исщипал. Не верил, что нахожусь на чистом морозном воздухе. Не верил, что мне светят ясные звезды с высокого неба, а не тусклый огарок в вонючем чеботаревском застенке... Пусть я буду обманутый в своих лучших чувствах человек. Пусть я буду «ке хве т-иль». Но я не трепач. Как мы и условились, письмо я вернул Чеботареву... Молодец моя Ефросиния: несмотря ни на что, сумела его сохранить! Как будто знала, что им, этим злополучным письмом, будет куплена моя жизнь...
* * *
Дальше шли торопливые записи о встречах то на монастырской пасеке, то у Голубого ставка, то у Самойлова дуба с каким-то Свободным Гражданином, Звездой Спасения, Крутым Рогом, Селянской Местью. Было в записях Цебро и кое-что занимательное. Например:
«1 января 1921 года. Вечер. Глухой хутор. Только не хутор близ нашей Диканьки. Это волчье логово затерялось в лесу между Клопотовцами и Овсянниками. Слава всевышнему, нашлись добрые люди, приверженцы нашего святого дела, дали приют Фросе и малым деткам. Чуть не написал: сироткам. А ведь могло быть и так. И не милостью заклятого врага. Куда бы ни шло. А то милостью того, кому, сто и сто раз рискуя головой, служил верой... Где же правда на нашей земле? Ответствуй же мне, о господи!
Но... Сижу в теплой хате. А завтра чуть свет – в лес, в сырую землянку. Днем и здесь рыскают всякие. Зевок – и вместо землянки подвал чека... Для них я бешеный волк, которого надо убить, для своих – преступник, давно убитый... Нечего сказать – превеселая жизнь...
Не знают там, за Збручем, что теперь у людей на душе. Верно то, что всем осточертела продразверстка, эта контрибуция, но еще больше всем осточертела война. Ею здесь сыты по горло. Семь лет – не шутка. Люди хотят покоя. Наши головорезы и те говорят: «Начнем кусать мы, пойдут кусать и они. А появится пан головной оттуда, вот тогда ударим. Самогон есть, сало есть, бабы под боком. Посидим, пока тихо...»