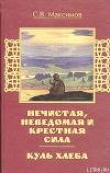Текст книги "Трубачи трубят тревогу"
Автор книги: Илья Дубинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Не желая бросать ни меня, ни Грома на произвол судьбы, Очерет заранее уже подговорил себе смену – грузноватого кубанца Ивана Земчука.
Отец Дорофей и «отец» Иаков
В то трудное время велась повседневная борьба не только с теми, кто пролезал к нам из враждебного лагеря. И среди нас были такие, которых приходилось крепко осаживать.
В Кальнике еще, в первый же день знакомства с частью, я пошел искать комиссара полка. Вдоль разбитой мостовой ровной линией вытянулись стандартные каменные дома. У одного из заводских служащих – обитателей этих коттеджей – и проживал наш комиссар Яков Долгоухов.
Не зная еще, с кем столкнет меня судьба, я вспомнил многих комиссаров червонного казачества. Боевое настроение казаков формировалось партийным коллективом и главой его – комиссаром части. Личный пример тех, кто звал массу на подвиг, играл решающую роль. «Коммунист, – говорил Примаков, – до боя действует словом, а в бою – клинком».
Комиссар 1-го полка Иван Кулик, увлекая казаков в атаку, погиб геройской смертью от клинков махновских бандитов.
Под Хорлами во главе бригады, устремившейся на белогвардейский десант, скакал комиссар Иванина. Близкий разрыв тяжелого снаряда вышиб военкома из седла. (До сих пор семидесятилетний Савва Макарович Иванина носит в легких осколок вражеского снаряда – память о перекопских боях.)
Комиссар бригады Роман Гурин, показывая пример бесстрашия казакам 3-го и 4-го полков в жаркой схватке с легионерами Пилсудского, был тяжело ранен на галицийской земле. С незажившей еще раной Гурин вскоре вернулся в строй.
Получив две раны в схватке с улагаевской конницей под Перекопом, не покинул своего места политрук из 1-го полка Степан Еломистров. Лишь третье, смертельное ранение вывело из строя отважного политработника.
Командир, стремящийся создать из своей части безотказно действующий боевой коллектив, знает, что ключи к сердцу солдата находятся в руках комиссара, если только он настоящий комиссар.
Якова Долгоухова я застал дома. Зажав в зубах дымящуюся тяжелую трубку, в полосатой тельняшке, кожаных брюках, он расхаживал босиком по давно не мытому полу огромной необжитой комнаты. Помещение не блистало ни чистотой, ни меблировкой: у простенка – кривой стол, в темном углу – высокий топчан, покрытый солдатским одеялом.
Долгоухов остановился посреди комнаты, разгладил пятерней шевелюру.
– Ага, новый комполка! Садись, приятель! – процедил он сквозь зубы, указав трубкой на кособокий ящик, заменявший табурет.
Я подумал: «Что ж, это неплохо – комиссар из моряков! Сразу видно – и тельняшка, и обкуренная трубка, и первое же обращение на «ты». Комиссары – бывшие моряки – не редкость. Они крепкие рубаки и горячие ораторы. Масса любила речистых политработников. Недалеко ушло время, когда один хороший митинг заменял десятки приказов...
– Чертовское давление в котле... сто атмосфер... с похмелья, конечно, полундра. Что ж, надо знакомиться, – тянул сиповатым голосом хозяин. Прошлепав босиком к простенку, наклонился, извлек из-под стола бутылку. Разочарованный, швырнул ее в угол комнаты. – Пусто... нечем зарядиться. Какое же это к бесу знакомство без полфедора?
«С чего начать наш деловой разговор? – подумал я, удивленный странной речью комиссара. Вдруг со двора донесся бойкий топот копыт. Хозяин бросился к окну, распахнул жалюзи. Яркий свет хлынул в помещение, и весь беспорядок, царивший в ней, предстал в полном «блеске».
– Подкрепление... полундра! – воскликнул внезапно повеселевший Долгоухов.
Я подошел к окну. Какой-то тощенький безбородый попик, с узелком под мышкой, ловко соскочил с коня. Суетясь, привязал поводья к скобе амбарных дверей. Направился торопливо в помещение. На пороге снял широкополую шляпу. Молодое, с голубыми глазами лицо рыжего попика показалось мне озорным.
Положив на стол узелок, гость пробасил: «Закусон». Лихо откинув полу черной рясы, извлек из карманов широких брюк, заправленных в порыжевшие старомодные сапоги, две полкварты – «выпивон», а всё вместе – «угощон».
– Будем знакомы – отец Дорофей.
Батюшка, чувствуя себя как дома, развернул узелок, затем проворно раскупорил полкварты и наполнил немытые стаканы. Долгоухов сгреб другую бутылку, взболтнул содержимое, затем стал следить, как серебряные пузырьки, закружившись, медленно оседали на коническое дно посудины!
– Первак! – авторитетно заявил он.
– Благодарные прихожане! – Поп многозначительно щелкнул языком.
Меня очень заинтересовал комиссар, а еще больше его собутыльник. Сначала мелькнула мысль: «Ловко играет поп роль простачка. Работает на какого-нибудь пана атамана. Среди бела дня, в рясе, на красноармейском коне галопом влететь во двор комиссара – это грубая работа!»
– Воин да не пьющий – зело любопытно! – пробасил попик, прижав к нагрудному кресту отвергнутый мной стакан. – А мы с вашим предшественником да вот и с отцом Иаковом, – указал на Долгоухова, – откровенно говоря, принимаем сию благодать паки и паки...
– Ради знакомства! – ничуть не смущаясь, просипел хозяин. – Полундра! Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо.
– Сгинь зелье, пропади! – выпалил отец Дорофей и мастерски осушил стакан. Крякнул, а затем добавил: – Откровенно говоря, вы видите перед собой классика...
– Какого это еще классика? – удивился я.
– Классика алкоголизма! – болезненно усмехнулся отец Дорофей и добавил: – Вот так мы и глушим скуку!
Еще в Ильинцах комиссар дивизии Лука Гребенюк, напутствуя меня, советовал сдружиться с секретарем партбюро Мостовым и комиссаром Долгоуховым, недавно назначенным в полк, моряком, рубахой-парнем, и засучив рукава взяться за работу. Но кого же встретил я в лице комиссара полка! Во мне все больше закипало возмущение.
– Допускаю, – возразил я попу, – вам действительно скучно. Прошли веселые времена для вашей касты. Но впервые вижу скучающего комиссара.
– Завел молебен, – сощурил осоловелые глаза Долгоухов. – Отче наш, иже еси на небеси. Ты мне покажи, комполка, где бешеные атаки, где риск подполья? Все кончилось, наступил полный штиль... – Хозяин оттянул ворот тельняшки. – Ты подай мне наступление, «ура», свалку... Возьмем же, снова, награды! Дают не тому, кто ближе к бою, а тому, кто ближе к начальству. А это чудо-нэп? Мечтал о пожаре мировой революции, а мне говорят: «Вывози незаможникам навоз на поля». Замахнулись на твердыни Европы, а носятся с паршивенькой гвоздильной мастерской. То резали буржуев, а нынче сами их выращиваем. Нет, нынешняя фисгармония не по моей флотской душе. Слыхали новый стишок, сам сложил:
Дух поднять, чтоб всем буржуям?
Протестуем! Протестуем!
– Скука душит, – скинув рясу и оставшись в розовой косоворотке, заскулил поп. – Но главное – не падать духом. Токмо уповать...
– На что уповать? – спросил я.
– На дух божий. Токмо он всесилен и вездесущ. Трижды были в заблуде пастыри, кои опоясали чресла мечом. Это исусово, христово воинство, верю, неугодно было самому Иисусу Христу...
– И получилось по священному писанию, – сказал я, – взявший меч от меча и погиб.
– Совершенно верно, командир, – согласился поп. – Стараясь разгадать грядущее, я возвращаюсь к прошлому. Век назад французы с криками «Aux lanternest!»[21]21
На фонари! (франц.).
[Закрыть] вешали духовных отцов на фонарях. Храмы божий превратили в вертепы. Потом опамятовались. Уразумели: царство земное сулили всем, а досталось немногим... Лишь у стоп господних есть для всех пристанище.
Пьянчужка попик, разглагольствуя, сразу же показал себя не таким уж простачком. И не всякий трезвый поп в те суровые времена изрекал то, что слетало с уст собутыльника Долгоухова.
– Все подвержено приливам и отливам. И удел нашей долгогривой братии уповать на прилив. Уповать и искать стезю к душам оскорбленным и униженным. На то указует нам незримая десница.
– Калиновское «чудо»? – спросил я.
– Что Калиновка? – пренебрежительно скривил рот отец Дорофей. – Топорная работа. Не те времена...
В Калиновке, той самой, что примыкает к Кожуховскому лесу, «обновилась» икона. Разжигаемые духовенством фанатики, увлекая за собой тысячи верующих, совершали многолюдные крестные шествия. Отроки с безумно устремленными вдаль глазами несли хоругви, а отроковицы, в белых, длинных полотняных рубахах, с распущенными волосами, – иконы. Участники крестных ходов, ожидая скорого конца мира и немедленного пришествия Христа, предавались поощряемому духовенством безделью.
Как только раскрылись жульнические махинации с калиновским «чудом», сразу же угас религиозный психоз и вызванные им многолюдные шествия.
– Времена теперь иные, иные у церкви должны быть и способы, – продолжал жужжать поп. – Не обманом, подобно калиновскому, а христовой правдой святая церковь наша обрящет былую силу.
– Очень в этом сомневаюсь, – сказал я.
– Наш всеблагий учитель внушает нам долгое терпение. Не узрю я, узрит потомство. Вере христовой две тысячи лет, и жить ей присно и во веки веков. Вот, – взмахнув коротко подстриженной гривой, указал он на комиссара. – Отец ваш Иаков что творит? Паки и паки ничего. А человеческая душа, как и натура, жаждет наполнения. Не будет наполнять ее отец Иаков – будет наполнять отец Дорофей.
– Заткни хрюкало, батько, – отозвался Долгоухов, – не посмотрю на твой сан, долгогривый водолаз, и протащу тебя мордой по половице. Треплешься про наполнение, а стаканы порожние...
– Само собой, – ответил поп и взялся за бутылку. – Попалась мне брошюрка Емельяна Ярославского. Презабавно пишет. За животину хватался. Ловко кроет нашего брата. Но Ярославский где-то там в Москве, а тут кто? Тут отец Иаков! Что, вопрошаю, смогут сделать добрые ваши пастыри, не такие, как отец Иаков, когда люди увидят, что не для всех уготовано царство земное, для избранных лишь. Вот тут-то исподволь начнем мы. У каждой божьей твари с древности существует неискоренимая потребность в душевном тепле. И я, не таясь, говорю: уповаю! Чем больше будет таких, как отец Иаков, тем скорее воспрянет из пепла наша присновозносимая, всеблагая и всеутешающая святая церковь. Аминь.
– Не зря говорится: «волос долог, а ум короток», – наконец заговорил Долгоухов. – Я не монах. Умею не только пить... А вашего брата душили и душить будем.
И тебя, батя, прихлопнем, хотя ты парень и ничего, компанейский. Даже церковное золото отдал для голодающих. Не то что другие...
Веселого попика ничуть не устрашили угрозы. Наполнив очередной стакан, высоко поднял его.
– Да, – с гордостью заявил он, – я с амвона склонил верующих... Церковные сосуды сданы, ничего из злата-серебра не утаено. Упаси господи... – Поп перекрестился, выпил, крякнул и, вновь наполнив стакан собутыльника, затянул вполголоса:
Налей вина, и эти будни,
При чашах, полных до краев,
Мы в праздник перестроим чудный
И юность вспомним нашу вновь...
Лихо опрокинув самогон в глотку, он швырнул стакан в дальний угол комнаты. Уперев руки в бока, пошел отбивать чеканную дробь, сам себе подпевая:
Ой, топы, топы, топы,
Собиралися попы
К благочинному идти
Благочинную трясти...
В такт поповской песне Долгоухов энергично размахивал руками. Казалось, вот-вот и он ударится в пляс. Очевидно, мешало присутствие третьего. Не переставая широко жестикулировать, затянул:
Дух поднять, чтоб всем буржуям?
Протестуем! Протестуем!
Шалопутный служитель божий внезапно остановился:
– Пойдем, отец Иаков, к моей благочинной. Может, она нас, рабов божьих, чем-либо попотчует от щедрот своих неисповедимых...
Вся эта сцена произвела на меня гнетущее впечатление. Вот теперь-то я понял, почему так загадочно улыбался адъютант Ратов, спрашивая меня, познакомился! ли я уже с комиссаром.
Особенно была неприятна бравада пьяного Долгоухова, не сумевшего понять, что откровенный в своих высказываниях попик во многом был прав. Мечты, которые лелеял он, очевидно, подогревали в те бурные времена не одного отца Дорофея. И, чтобы без промаха бить по этим коварным мечтам церковников, мало одних книг Ярославского и плакатов с лозунгами: «Религия – опиум для народа».
Жизнь партии с народом и для народа, всенародная борьба за создание светлого царства на земле для всех трудящихся без неоправданной роскоши для немногих, забота о счастье всего человечества без забвения нужд отдельного человека – вот те неприступные скалы, о которые разобьются надежды хитроумного отца Дорофея и всех его присных.
В тот же день я собрался ехать в местечко Дашев, чтобы представиться бригадному начальству – соблюсти этикет. В мирное время комбриг полками не управлял, а следил лишь за их строевым обучением. Его должность в шутку называлась архиерейской. Но серьезная беседа предстояла с комиссаром Корнелием Афанасьевичем Новосельцевым[22]22
К. А. Новосельцев ныне пенсионер, живет в Кучино, Московской области.
[Закрыть] старшим в бригаде коммунистом. Ему-то я и должен был рассказать о первой встрече с Долгоуховым.
Направляясь в расположение первого эскадрона, которым командовал кубанский казак Храмков, я пересек главную улицу поселка, мощенную крупным булыжником. Тут меня чуть не сшибли с ног два «ковбоя», лихо проскочившие за околицу. Один из них был Долгоухов, а другой – его собутыльник, поп-»философ» Дорофей.
Но ехать в Дашев не пришлось: комиссар Новосельцев сам явился в Калыник. И не один. Вместе с ним пожаловала местная власть.
Высокого роста, плечистый, с открытым мужественным лицом, комиссар прошел в помещение штаба и сразу занял командирское место. Чем-то до крайности расстроенный, поздоровался со всеми официально и строго. Велел найти и вызвать в штаб Долгоухова.
Дашевский председатель – в прошлом рабочий Кальникского сахарного завода – с возмущением жаловался на Долгоухова. На главной улице местечка он задавил поросенка, возле потребиловки, хулиганя, поджег бороду старику.
Нет смысла рассказывать о последствиях лихих подвигов «отца» Иакова. Они и так ясны. Но на встрече комиссара бригады с Долгоуховым стоит остановиться.
Явившись в штаб, одетый с головы до ног в хрустящую кожу, Долгоухов, не вынимая изо рта трубки, тяжело опустился на табурет.
Новосельцев, заложив правую, раненую руку за портупею, скомандовал:
– Встать!
Долгоухов, попыхивая трубкой, не шевельнулся. Глядя вызывающе на военкомбрига, небрежно ответил:
– А мне и так удобно.
– Встать, приказываю! – повторил комиссар и сам вскочил на ноги.
Это подействовало. Поднялся не торопясь и Долгоухов.
– Ну, а дальше? – спросил он с издевкой.
– Дальше попросите разрешения сесть, – сказал комиссар и опустился на стул.
– Ну что ж! Разрешите? – нехотя выдавил из себя Долгоухов и добавил: – Полундра!
– Не разрешаю. К кому вы обращаетесь? Спросите по форме: «Разрешите сесть, товарищ военкомбриг».
Наконец комиссар своего добился, и Долгоухов сел.
– Теперь застегайте ворот!
– Мне жарко.
– Всем жарко. Вы не в кабачке, а на военной службе, и пока еще комиссар полка. Подберите ворот гимнастерки, застегните кожанку на все пуговицы. И нечего выставлять напоказ морскую тельняшку!
Долгоухов не торопился выполнять приказ.
– Застегивайтесь, и поживей! – стукнул. Новосельцев кулаком по столу. – Нечего корчить из себя балтийца. Какой вы моряк? По анкете – портовый табельщик.
– Вы кто? Царский офицер? – развязно спросил Долгоухов, застегиваясь. – Жмете по-офицерски!
– Я путиловский рабочий, – ответил Новосельцев, – и понимаю: в Красной Армии не место разгильдяйству. Вы позорите высокое звание комиссара. Собирайтесь. Поедем. В политотделе разберемся... А если вам уж так скучно, милости просим в Туркестан. Может, басмачи вас развеселят...
Долгоухов ушел... Новосельцев, сняв с головы папаху, вытер платком вспотевший лоб.
– Ну и напасть на мою голову. Впервые вижу такого. Тоже мне полундра – табельщик разнесчастный. А строит из себя лихого клёшника-братишку. Позорит моряков, позорит комиссаров.
– Но вы ж ему дали перцу! – с нескрываемым удовольствием сказал Ратов, хорошо знавший Новосельцева еще по белопольскому фронту. – Посмотрел бы он, как вели себя наши комиссары в Мозырских болотах...
– Не говори, Петр Филиппович! – ответил Новосельцев.
– А вы расскажите, Корнелий Афанасьевич, – попросил Ратов, – пусть молодежь послушает.
– Что ж, – Новосельцев немного успокоился после беседы с Долгоуховым. – Знаете, товарищи, когда просят Горького что-нибудь рассказать, он отвечает: «Я вам лучше напишу», а когда просят Новосельцева написать, он говорит: «Давайте я вам лучше расскажу». Вот я вам выложу, как я сделался комиссаром.
– Послушаем, – закуривая, сказал председатель Дашевского Совета.
– Так вот, – начал Корделий Афанасьевич, – возвращался я с Восточного фронта заросший, немытый, грязный. Одним словом – позиционный солдат. Было это летом восемнадцатого года. Прихожу к начальнику политотдела в Симбирске. А он меня посылает комиссаром в инженерный батальон. Думаю, куда мне! Но он нажимал вовсю. Тогда я попросил инструкцию, а он говорит: «Ишь чего захотел! Программа партии есть? Пойди и по ней работай. А мы по твоему опыту составим инструкцию». Явился я в батальон. Машинистка – барыня! Переписчики и те в десять раз чище меня. Я стушевался. Комбат фон Таубе сразу же мне сказал: «Хорошо, что пришли. Бумаги без печати недействительны, а печать без комиссара не закажешь». Спрашиваю его: «Коммунисты в батальоне есть?» А он: «Прикажете навести мост через Волгу – пожалуйста. Или протрассировать линию окопов – с охотой. Но коммунистов в практике своей работы не встречал». Начали знакомиться. Он сказал: «Да, я фон-барон, но в октябре 1905 года в Москве нес на плечах гроб Баумана. Выгнали за это из института. Я не коммунист, но считаю, что и беспартийный может честно служить Советской власти». Рассказал и я о себе. А что там – токарь с Путиловского. «Ну, с такой биографией, – Таубе вскочил с места, – теперь выходят в наркомы». Поехали в казармы. На фронте еще гуляла вольница, а там всё по струнке. Чуть что не так, Таубе сыплет наряды, выговора. Я ему: «Это напоминает старину». А он: «Товарищ комиссар, знайте, будь то армия царская или пролетарская, а без дисциплины не может быть войска».
Зажили мы с фон-бароном дружно. И научился я у него многому, по правде скажу. А поначалу идти в батальон очень уж опасался. Думал, не справлюсь. И до того оробел, что полдня проболтался на базарной площади. Какой-то инвалид крутил там карусель. Вот я и катался на деревянном коне. А как истратил на это баловство всю свою получку – путевые денежки, пошел в батальон...
– Зато, товарищ военком, не оробели, – сказал Ратов, – когда выводили нашу бригаду из кольца... В Мозырских болотах. Вот где была веселая карусель...
– Да, всякое бывает в жизни.
Новосельцев, проведя искалеченной рукой по возбужденному лицу, доверчивым взглядом осмотрел внимательных слушателей.
Полк «конных марксистов»
Партийное слово
Александр Мостовой сидел на низенькой скамеечке у ворот хаты и, нагнув светловолосую голову, чинил уздечку.
– Чем занимаетесь? – спросил я с изумлением, застав его за необычным делом.
– Как чем? – Воткнув кривое шило в ремень, Мостовой поднял на меня большие голубые глаза. – Занимаюсь партийной работой...
– То, что вы секретарь партбюро, известно всем, – ответил я. – Но шорник?
– Я не шорник, товарищ комполка. Моя основная профессия – токарь. В Луганске точил у Гартмана паровозные оси. А это, – указал он на кучу конского снаряжения, лежавшего у его ног, – от скуки и а все руки. В пехоте подковывал красноармейские чеботы. Кто обойдет в инфантерии сапожника или в кавалерии шорника? Никто! Наклявывается клиент – и хорошо. Пока он возле меня посидит, я его провентилирую и по текущему моменту, и по поводу международного положения, и в отношении политики партии по крестьянскому вопросу. Потому сейчас я уже не труженик резца, а труженик партийного слова. Вот только, когда иду с ребятами на сенокос, все опасаюсь, как бы кому-нибудь не скосить пятки. Плохо слушается коса. Но и это не страшно. Командир первого эскадрона Храмков – видите, он идет сюда с ленчиком от седла? – говорит: «Не тушуйся, Александр, на сенокосе трудно только первые десять лет, а там дело пойдет...»
Подошел Храмков, бросил на землю ленчик. Сдвинул на затылок черную с красным верхом кубанку и, выставив напоказ светлый казачий чуб, сощурив злые глаза, с подчеркнутой небрежностью обратился ко мне:
– Что же это, по вашей милости нас, природных казаков, превращают в пешку? Мы конница, а не пластуны! Командир эскадрона и тот ходит на своих двоих. Где это видано?
– Придется походить пешком... карантин не кончился, – ответил я. – Ликвидируем чесотку, а тогда будем ездить.
– Новая метла чисто метет! – с задором выпалил командир эскадрона. Его лицо покраснело от волнения, а глубокий шрам и а щеке, след сабельного удара, вмиг побелел. – Ничего, метла оботрется, и все пойдет по-старому. Видали мы всяких!..
– Эй ты, труженик клинка, Храмков! – оборвал эскадронного Мостовой. – Как секретарь, запрещаю тебе так разговаривать с командиром.
– Пусть выскажется товарищ. Может, полегчает на душе, – сказал я.
– И выскажусь! – дерзко продолжал Храмков. – Мне все едино терять нечего. Не сегодня-завтра всем нам дадут коленкой под зад. Не впервой. Жернов приехал, наставил своих, Кружилин – своих. Каждый новый командир принимает от старого гарнизон, гарнизонных краль, только не комэсков.
– Не думаю никого снимать, – успокоил я разгорячившегося товарища и добавил: – При условии, если они помогут мне поднять полк.
– Перевидали мы уже всяких подъемщиков! Потужитесь, потужитесь, а потом, как некоторых, потянет к тихой, спокойной жизни. Комполка – неплохая должность, почему не пожить? Известно – кому чины, тому и блины! – злорадно закончил Храмков, повернулся, надвинул на лоб кубанку и ушел.
– Видали? – бросил ему вслед Мостовой. – Горячая кубанская кровь. Режет в глаза все без разбору. Парень что надо, лихой рубака, людей своих бережет, но вспыльчив до крайности.
– Карантин во что бы то ни стало надо выдержать, – сказал я секретарю полкового партбюро. – И баня нужна лошадям, с горячей водой, с зеленым мылом, а у ветеринарного врача ни людей, ни мыла.
Секретарь принялся за прерванную работу. Я присел на скамеечку рядом с ним. Мои глаза непрерывно следили за движениями рук, ловко орудовавших кривым шилом и тонким сыромятным ушивальником. На коричневой коже оголовья одна за другой появлялись ровные, словно отпечатанные на машинке, строчки.
– А мы, – не прерывая работы, ответил мой собеседник, – сделаем субботник. Не в силах сами справиться, – пошумим народу. И это будет по-ленински. Народ вытянет. Мы все: бойцы, командиры, политработники – засучим рукава и станем банщиками. Это не страшно. Все бойцы знают, что кони – это наше тонкое место. Только как быть с мылом? Наклявывается что-нибудь?
– Попросим в дивизии, – сказал я.
– А хватит ли того мыла? – Мостовой задумался. – Может, сделаем так. У завода в лесу лежат дрова, привезти нечем. Договоритесь с директором: мы перебросим ему топливо, а он нам – сахарку. За сахар в Киеве цельный вагон мыла отвалят.
– Дело говорите! – ответил я.
– Наши бойцы должны понять, что кто-то заботится о них. То, что Храмков сказал вам, кавалеристы кроют в глаза командирам, политрукам. Не все, но говорят, Вы не знаете еще истории нашего полка, – секретарь глубоко вздохнул. – У нас настоящий собор богородицы. Сначала были одни кубанцы – природные труженики клинка. Формировали их в Лаишеве, в запасной армии под Казанью. Затем от полка осталась кучка. Влили к нам первый полк из старой кочубеевской бригады. Ничего хлопцы. Потом прислали из 41-й дивизии остаток полка Садолюка. Стало подходяще... У вас, слышал я, в восьмой дивизии люди по три года командуют, а здесь, что ни месяц, новый командир. Не успел распаковать чемодан – обратно его собирает. Где же тут быть спайке, традициям, любви к своей части? Я учился на токаря. Поначалу, без опыта, то и дело перегонял металл в стружку. И здесь все шло в стружку. Я не помню ни одного нашего бойца, чтоб он вернулся в полк после ранения или отпуска. А у вас, в червонном казачестве, слышал я, дружнота, казак хоть все с себя проест, а за тридевять земель доберется до своей части. Вот над чем вам, комполка, и мне, секретарю, надо подумать. Только смотрю я на вас, очень уж вы молоды. Все наши комэски старше вас, а кое-кто и в отцы годится. Ну, ничего... Если только приехали к нам надолго, мы, партийцы, поддержим... Только скажу одну штуку, по-простому, по-рабочему: держите голову повыше, а нос пониже. И все пойдет на лад. Вот только вместо Долгоухова – этого труженика стакана – дали бы настоящего комиссара.
– А что такое настоящий комиссар? – спросил я.
– Вот как наш бригадный – это да! Такого бы нам в полк. Я говорю про товарища Новосельцева. Наш брат – пролетарий, к тому ж еще и питерец. Этот бы вас поддержал! А в самом деле – потолкуйте с ним. Что ему в бригаде делать? Архиерейничать! Знаете, на польском фронте был у нас комбриг Шатадзе. Так он способен был только усы напомаживать. Правда, усы отрастил до плеч. Выручал бригаду Новосельцев.
Из ближайшего переулка выскочил огромный волкодав. Прижимаясь к ограде, он бежал в направлении штаба. Следом показался казак, которого нетрудно было узнать по черной повязке на глазу.
– Семивзоров! – заметив бойца, сказал Мостовой. – Мой земляк. Я луганский, он из станицы Гундоровской. К нам попал от красновцев. Рубака, службист. За старание заработал побывку, а ехать домой опасается...
Семивзоров в двух шагах от нас остановился, стукнул каблуками, бойко, по-старому, поздоровался. Он никак не мог расстаться со своим «здраим-желаим». Рядом с казаком, присев на задние лапы, замер грозный волкодав.
– Я к вам, товарищ партийный секретарь, – обратился он к Мостовому, протягивая перевязанную восьмеркой пачку сыромятных ремней. – Наладил хозяину сбрую; он мне это и пожертвовал. Думаю, пригодятся нашему полковому шорнику.
– За подарок спасибо. Только смотри, Митрофан, не прибежит ли следом хозяин.
– Скажу правду: доброго коня Семивзоров еще уведет, но на эту пакость он неспособный...
– Ладно, беру. Только вечерком беспременно загляну к твоему хозяину...
– Милости просим!
– Ну, а как с побывкой, Митрофан?
– Я уже сказывал, товарищ секретарь. Пока что мне на Дон ходу нет!
– О том, что ты когда-то был у Краснова, а не у красных, все мы знаем, – успокоил бойца Мостовой. – И новый командир знает.
Казак присел на завалинке.
– Видите ли, – прищурив единственный глаз, начал он. – Советская власть, та мне простила. А вот мой сосед, он иногородний, тот, думаю, вовек не простит. Значит, в восемнадцатом году с Фицхалауром мы под корень вырезали всю родню моего шабра. Ну, а касаемо грехов против власти, я их загладил вот этим! – Казак ударил по эфесу клинка. – Увидите, Семивзоров еще сгодится... Сколь раз я мог переметнуться и к белякам, и к шляхте, вон как сделали казаки есаула Фролова, но я понял: моя дорожка с Фицхалауром – страшный, кровяной грех. Смываю его не слезой, плакать казак неспособный, а кровью. И вражеской, и своей. И лучше мне при Советской власти быть в пастухах, нежели при атаманской в есаулах. Одно плохо – маленечко поздновато опамятовался, – сокрушался казак, отвоевавший для народа его землю, но опасавшийся вернуться на тот ее кусок, где он родился и вырос.
– Тужить не надо, Митрофан, – не прерывая работы, успокаивал разволновавшегося казака Мостовой. – Факт – донское атаманство трохи закоптило тебе мозги, и еще факт – Советская власть крепко тебе их подшабрила. И не таким прочищает. Ты ж все-таки трудовой казак, не кровосос, не эксплуататор!
– Куда там! Порой сам тянул шлею богатеям... – Вдруг Семивзоров спохватился: – А скажите, товарищ секретарь, что-то я вас хотел спросить, услышал я одно словечко, и не знаю, что к чему. Отродясь не слыхивал...
Мостовой чуть встревожился, воткнул шило в ремень, потер рукой подбородок, сделал небольшую выдержку и спокойно спросил:
– Чего тебе вдруг приспичило? Что за слово?
– Шел я мимо первого эскадрона. А там политрук беседует с казаками про какой-то «путч»...
– Видишь ли, товарищ Семивзоров, немецкие генералы мутят. Пробуют вернуть кайзера Вильгельма на прежнюю должность, вот они и путчуют...
– Понял, понял, значит, все едино, что бунтуют, что путчуют...
Посидев еще немного, казак поднялся и ушел в том же направлении, откуда явился. Волкодав Халаур, обнюхивая каждый столбик ограды, неторопливо затрусил впереди хозяина.
– Ладно довелось с утра газетки полистать, – с облегчением вздохнул Мостовой, – вычитал про этот путч. До этого я и сам не знал, что означает это чертово слово. Трудновато, товарищ комполка, без доброй грамоты. В девятнадцатом году две недели проучился на курсах, и то через день отбивали атаки шкуровцев. Вот сегодня выкрутился хорошо. А то раз такое было! Провожу занятие в роте. Вопрос актуальный – смычка рабочих и крестьян, а тут ротный писарек подкатил вопросик: «Что такое субстанция?» По курсам помню: до этой самой субстанции какое-то касательство имел Спенсер, а в чем заклепка, хоть убей, не помню. Ну, и стал выкручиваться, а самого сто потов прошибают. Только управляюсь рукавом смахивать с лица, с шеи... Роюсь в памяти, а сам лопочу: «Так вот, товарищи, есть, конечно, станции, есть инстанции, есть дистанции, а это просто субстанция...» Чую, что мелю чепуху, а главного не вспомню. Тут я рассердился, строго посмотрел на того писарька и сказал с сердцем: «Субстанция – это такая сволочная штука, которую придумал непролетарский ученый Спенсер специально для того, чтобы морочить нам, рабочим и крестьянам, голову. Нам, рабочим и крестьянам, надо помнить про смычку. Это и есть наша главная тема сегодня. Поясню: возьмем простую кувалду, насадим ее на рукоять, так просто, без всякого, – много ли ею накувалдишь? Черта с два. При первом ударе слетит. А всади в рукоять, с торца, конечно, стальной клин – другое дело. Знай тогда намахивай. Вот, для примера, скажу: кувалда – это рабочий класс, рукоять – крестьянство, а стальной клин – это наша партия, она скрепляет смычку рабочих и крестьян: Понятно?» Бойцы рассмеялись, довольны, шумят в один голос: «Верно, товарищ политком, вот она где натуральная субстанция, сразу дошло». Конечно, писарек хотел меня подковырнуть. Но его не виню, виню себя. Грамота нужна – во! – Мостовой, вытащив шило из оголовья, провел им у самого подбородка. – После один умник долго меня строгал, наждачил: почему я сравнил партию со стальным клином – мол, принизил партию. А я ему: «Боец любит примеры, сравнения. Ты из учителей – у тебя одни примеры, я металлист – у меня другие. Будем объяснять каждый по-своему, а главное, чтоб боец понял, о чем ему говорят... И я не из тех, которым интерес принижать нашу партию».