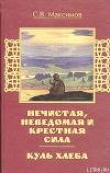Текст книги "Трубачи трубят тревогу"
Автор книги: Илья Дубинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Примак – душа голоты
На завалинке поповского дома, в котором помещался штаб, смоля козьи ножки, балагурили кавалеристы. Разговор шел о командире корпуса, которого с минуты на минуту ждали в Гранове. Из Гайсина по полевому телефону передали, что комкор, следуя в штаб 8-й кавдивизии, заедет в наш полк.
Раньше казаки почти ежедневно видели Примакова, редко покидавшего поле боя. Сейчас, с окончанием военных действий, когда двенадцать полков черво»ного казачества раскинулись на огромной территории, появление командира корпуса в части было уже большим событием.
Кто-то вспомнил, как гетман Скоропадский в восемнадцатом году обещал за голову Примакова семьсот тысяч карбованцев.
Очерет, стараясь отвлечь внимание Брынзы, в кисет которого он глубоко запустил длинные пальцы, сказал с усмешкой:
– А целого мильёна пожалел ясновельможный. Теперь, думаю, он и все десять мильёнов согласный был бы отдать.
Какой-то пожилой казак, насупив брови, сказал:
– Что наш Примак, что Котовский – это самые геройские командиры по всей Красной Армии. Их сам Ленин знает. Потому они есть защитники нашего бедного класса.
Бойцы червонного казачества – и славные ветераны, заложившие основу Первого конного корпуса, и молодежь, недавно ставшая под его знамена, – любили и уважали своего командира.
– Вот я, хлопцы, ездил в Киев, – вмешался в разговор Брынза, – посылали меня по обмундирование. Там, на базарах, интересно поют слепые бандуристы. Одну их песню я заучил.
Повставайте та звiльняйтесь
Вiд панства, крiпацтва,
Дожидае нас, врятуе
Червоне казацтво.
Ой почули козаченьки
Тугу степовую —
Веди, батьку Приймаченку,
Мы степ урятуем.
Ой, Примак, душа голоти,
Лицар ти залiзний,
Потрощив без мiри щоту,
Ворогiв Вiтчизни
– Хлопцi, стривайте! – вскочил с завалинки молоденький боец-галичанин. – Так що я вам скажу, хлопцi. Подивiться на майдан! Так то ж сам Примак до нас iде!
Все повернули головы в сторону Грановской площади. Пересекая ее, в сопровождении двух адъютантов и вестовых, сдерживая разгоряченного Мальчика, нетерпеливо перебиравшего точеными ногами, приближался к поповскому дому комкор. В казачьей форме, осанистый, с обветренным строгим лицом, Примаков казался старше своих двадцати трех лет.
Осадив горячего скакуна у входа в штаб, комкор ловко соскочил с седла. Отдав поводья ординарцу, направился к казакам, словно по команде поднявшимся с завалинки.
– Здорово, товарищи «москвичи»! – приветствовал Примаков казаков. Сняв серую смушковую папаху, чистым носовым платком прошелся по стриженой русой голове.
– А вы нас не забываете, товарищ командир корпуса, – выпалил Очерет, восхищенно посматривая на боевые ордена и знак члена ВЦИК, сверкавшие на груди комкора.
– Может, и забыл, так вы сами о себе напомнили. Банду Христюка прикончили. – Комкор сверкнул большими зеленоватыми глазами. – Молодцы, хлопцы!
– Это вот наш сотник отличился, – Сазыкин, секретарь партбюро, указал на Брынзу.
– Как рана? – повернулся Примаков к сотнику. – Не свалила?
– Как на кошке, товарищ комкор, – ответил Брынза.
– И он в долгу не остался. Максюк его надолго запомнит, – вставил слово казак Федор Тачаев[18]18
В настоящее время Ф. О. Тачаев пенсионер, живет недалеко от Ясной Поляны.
[Закрыть], московский гравер, и, смутившись, сделал шаг назад.
– Мне довелось видеть вас под Вендичанами, – заговорил Брынза. – Вот когда вы достали своей шаблюкой фроловского полковника. Хотя и не одобряю я это.
– Чего не одобряете, товарищ Брынза?
– Командир корпуса, а летит в атаку, как наш брат, простой сотник.
– Без этого нельзя, товарищи. Наших там был один пятый полк, а у Фролова – целая бригада.
– Ну ясно, – рассмеялся Очерет, – пятый полк да комкор – вот и получился полный штат – аж вся бригада.
– А О чем была тут у вас беседа? – поинтересовался Примаков.
– О текущем моменте, – ответил секретарь партийного бюро.
– Как раз про вас балачка и шла! – добавил галичанин.
– Что про меня говорить! – махнул рукой комкор. – Вы бы лучше про то, как скорее покончить с бандами. Не дают покоя хлеборобам.
– Вот мы про это самое и балакали, – заверил Примакова Очерет. – Вспоминали, как мы с вами каблучили гадов...
– И про пальбу орехами вспоминали?
– Чего не было, того не было, – не смутившись, отрезал Очерет.
Примаков достал из кармана брюк небольшую, из вишни вырезанную трубочку. Выколачивая пепел, стукнул ею несколько раз о роговой эфес кубанской шашки. Глядя на комкора, решили закурить и бойцы. Но прежде чем были свернуты цигарки, со всех сторон потянулись руки с кисетами.
– Попробуйте моего, товарищ комкор!
– Настоящая кременчугская, фабрики Гурария.
– А вот матка прислала самосаду, натуральный рязанский горлорез!
Но опередил всех Очерет.
– Смачнее, как от любезной, нет табачку, товарищ комкор! – Он растянул зев кисета перед самым носом Примакова.
– О, хлопче, у тебя и любезная уже завелась, – сказал Примаков, принимая угощение.
– Товарищ комкор, – лукаво улыбнулся Очерет, – знаете, барсук под землей норится, и тот вокруг барсучихи мурлычет...
– И это от любезной? – спросил Примаков, рассматривая атласный, вышитый цветными нитками кисет.
– А то как же! – возгордился казак. – Грановские кое-что соображают!
Но тут пустил шпильку Федор Тачаев:
– Особенно соображают, когда ты их зовешь поближе к природе, подальше от людей...
– Самый смачный табачок, видать, чужой! – не стерпел Брынза и укоризненно посмотрел на земляка, только что опустошившего его кисет. – Ну и стрелок, Крендель!
– Обратно же, товарищ командир корпуса, без курева казак никуда! – Очерет пропустил слова сотника мимо ушей. Выпятив грудь, указал на нее пальцем. – Думаете, с чего она у меня такая? Дымку погуще да ремень тяну пуще.
– Насчет ремня, – ответил, насупив брови, Примаков, – это все нам знакомо. Как-нибудь перетерпим голодуху. А жителям Поволжья как? Весь их паек – лебеда!
– Знаем, – сказал Брынза. – Мои хлопцы все, как один, проголосовали за лозунг: «Четыре казака кормят одного голодающего».
– А нам полковая медицина читала лекцию, – зарделся молодой галичанин, – так по той лекции выходит, приварок отменяется. Заместо него ученые выдумали какую-то калёрию.
Казаки подняли на смех простодушного товарища.
– Чудак, – ответил ему Очерет, – та калория и есть наш красноармейский паек. Слыхать, вы, товарищ комкор, – он повернулся к Примакову, – и от своих наградных часов отреклись в пользу голодающих?
– Не только я, ребята. Сдали в Помгол золотые часы и комбриг Петровский – бывший комиссар дивизии, и другие товарищи.
Казак-галичанин, приготовив завертку, собирался было загрузить ее табачком. Примаков, всмотревшись в сложенную гармошкой газету, взял ее у бойца.
– А это, ребята, никак наша «Правда»? – нахмурив лицо, спросил он.
– Я по ним не разбираюсь, – ответил хозяин газеты. Боец, привыкший видеть командира хмурым лишь в бою, насторожился. – Только лишь начал ходить в неграмотную школу.
– В школу неграмотных, – поправил Сазыкин.
Примаков бережно развернул обрывок газеты.
– Вот, товарищи, послушайте меня. «Правда» – голос нашей партии. В «Правде» пишет Ленин. Эту газету мы все обязаны уважать, а тут ее на раскур пускают…
– Вот у вас трубочка, – попробовал было разрядить напряженную обстановку Очерет. – А нам без бумажки никак...
– Попроси любезную, – чуть смягчился комкор. – Она тебе подарит и трубочку. А если вы уж так привыкли к козьим ножкам, так и быть, попрошу комиссара корпуса Минца достать вам старых царских газет...
Потолковав с бойцами, Примаков позвал меня с собой. Мы пошли во двор. Забравшись на сиденье высокой тачанки, командир корпуса заговорил:
– Вижу, вы чувствуете себя в новой роли неплохо, а артачились. Значит, партия поступает верно, выдвигая политработников в командиры? Вы только покрепче налегайте на уставы, на учебники. Учитесь сами и учите людей... А вот с шестым полком вам придется расстаться.
Примаков выжидающе посмотрел в мою сторону. Сообщение комкора ошеломило меня.
– Не расстраивайтесь. Все обойдется по-хорошему, – успокоил меня комкор.
– Что ж, – сказал я не очень-то бодрым голосом, – поеду в Петроград, вновь поступлю, в политехнический.
– Кто вас отпустит? – Примаков улыбнулся. – Стране, правда, нужны инженеры, но ей нужны и грамотные командиры. Нам с вами служить, как медному котелку. Мы вас переведем в другой полк.
– В какой? – полюбопытствовал я.
– В какой – еще не скажу, но знаю, что не восьмой, а семнадцатой дивизии. Нашего же корпуса!
– Это за что же?
– Не за что, а для чего! Котовский привел в семнадцатую дивизию свою славную боевую бригаду и уже много хорошего там сделал. К Григорию Ивановичу идет пополнение. Из сорок первой дивизии – полк Садолюка, из-под Могилева – бригада, бывшая кочубеевская, с Полтавщины – полк незаможников, башкирскую бригаду Горбатова передают нам. А кадров у Котовского не так уж много. По его просьбе мы и перебрасываем кое-кого в семнадцатую дивизию. Начнем с вас. Придется прививать новичкам боевые традиции червонного казачества. – Примаков слез с тачанки, стряхнул соломинки, приставшие к синим, с лампасами галифе и, прощаясь, добавил: – Только не вздумайте опускать руки. Смотрите!
Итак, мне предстояло, не оставляя рядов червонного казачества, нашей дружной сплоченной семьи, перейти под начальство Котовского. Это несколько смягчало горечь предстоящей разлуки с боевыми товарищами.
В дивизии Котовского
Служить в дивизии Котовского было честью для многих. Но события шли своим чередом, и... попасть под команду Григория Ивановича мне не пришлось.
Спустя неделю после разговора с Примаковым, в самый разгар пасхальных праздников, когда жители села в знак благодарности и за ликвидацию банды Христюка, и за участие полка в полевых работах радушно угощали наших казаков душистыми куличами и жирными окороками, в Гранов явились два командира. Один из них – Павел Беспалов, а другой – чапаевский комбриг Иван Константинович Бубенец, который еще в 1917 году во главе роты лейб-гвардии егерского полка штурмовал Зимний дворец.
Выполняя привезенный ими приказ, я сдал Беспалову полк, а бригаду – Бубенцу (временно мне пришлось замещать комбрига Самойлова, уехавшего в отпуск в далекий Череповец).
Высокий и худой, широкоплечий, с некрасивым, но очень приветливым лицом, Иван Бубенец, принимая от меня бригаду без особых формальностей, предложил мне свою дружбу. Мне импонировали и два ордена Красного Знамени славного комбрига, и его близость к легендарному Чапаеву, и его тесная дружба с Дмитрием и Анной Фурмановыми, с которыми он три года спустя меня познакомил в Москве.
Бывает так, что люди с родственными душами, встретившись на жизненном пути, сразу же, с первого слова, с первого взгляда, сближаются навсегда. Вот такая дружба возникла у нас с Бубенцом там же, в Гранове, но, к сожалению, она продолжалась недолго.
В 1926 году славный комбриг погиб во время воздушной катастрофы под Севастополем. В некрологе, напечатанном тогда в «Правде», Анна Фурманова писала, что крестьянство Самарской губернии и трудовое казачество уральских степей недаром считали Ивана Бубенца своим верным защитником. «Чапаевцы долго будут помнить тебя, дорогой друг» – этими словами заканчивалась статья Анны Фурмановой.
В один из апрельских солнечных дней, простившись с людьми 6-го червонно-казачьего полка, провожаемые Бубенцом до околицы села, мы с Очеретом, покинув Гранов, тронулись в путь на Ильинцы. Там стоял штаб 17-й дивизии, куда мне было предписано явиться.
Мое имущество состояло из подаренного мне Федоренко трофейного Грома, офицерского седла, шашки, парабеллума, фибрового чемодана с одной парой белья. Такое было богатство у всех полковых командиров червонного казачества. Редко кто из нас владел второй, запасной, парой сапог.
С грустью покидал я 6-й полк. Тосковал, невесело понукая пеструю кобылу, и мой спутник Очерет. На передней луке седла в дырявом мешке он вез хрюкавшего всю дорогу поросенка – щедрый дар его грановской любезной.
Ехали мы, то и дело оглядываясь по сторонам и зорко осматривая опушки придорожных лесов, таивших в себе опасность для одиноких путников. Расквартирование целого кавалерийского корпуса в районе Ильинцы – Гайсин не делало еще безопасными дороги. В ту пору немало одиночных бойцов пало от рук петлюровцев.
Конечно, против направленного издали, из какой-нибудь чащи, выстрела мы были бессильны. Возможное появление конных бандитов не страшило: не раз выручали острые клинки и крепкие лошади. В случае нападения хуже пришлось бы жирному, визжавшему всю дорогу поросенку. Но все обошлось благополучно. Наши резвые кони быстро доставили нас в Ильинцы.
Множество проводов на шестах свидетельствовало о наличии в местечке крупного штаба. А обилие всадников, скакавших по пыльным улицам, говорило о том, что командование занято важными делами.
Штаб дивизии мы нашли в двухэтажной каменной школе. Оставив Очерета во дворе, я поднялся наверх, где в одном из бывших классов находился кабинет начальника дивизии.
Не без волнения я постучался. Проверил пояс, одернул гимнастерку, поправил папаху... Услышав ответное «Войдите», потянул на себя дверь.
– Простите, мне нужен начдив, – сказал я, увидев за столом бывшего офицера Соседова, которого я как-то встречал и раньше.
– Начальник дивизии семнадцатой кавалерийской вас слушает, – не без подчеркнутой важности ответил Соседов. – Ступайте, э-э, поближе.
– Где начдив Котовский? – спросил я.
– Котовского уже нет. Что вам угодно? Вас слушает начдив.
Среднего роста, упитанный, с бритой головой и маловыразительным лицом, Соседов отличался крайней заносчивостью. Его самоуверенность не имела границ. В 1920 году, после смотра у Хмельника, перед решительным ударом по белопольскому фронту, он, работник армейской инспекции, на обеде заявил командиру червонного казачества; «Знай, когда тебя убьют, я стану командиром восьмой дивизии», на что Примаков, смеясь, ответил: «Я хорошо знаю, что никогда этому не бывать».
Во всем большом классе находились стол, кресло, десятиверстка на стене и еще один стул, на который Соседов, сам развалившийся в широком кожаном кресле, однако, не пригласил меня сесть.
Я доложил, что прибыл в 17-ю дивизию командовать полком. У Соседова левый глаз неожиданно куда-то закатился, а затем совсем закрылся, зато над правым бровь все больше и больше лезла кверху.
Не знаю, что вызвало такую, пока безмолвную, но вполне красноречивую реакцию. Нужно сознаться, что я не расшаркивался, не ел начальство глазами. Сидевший передо мной в кожаном кресле «авторитет» не вызывал во мне даже видимости священного трепета.
Растягивая слова, перемежая их для солидности этаким «э-э», Соседов, пронизывая меня широко открытым правым глазом, покровительственно спросил:
– Э-э-э, позвольте, э-э-э, вы это, э-э-э, бывший, э-э-э, офицер?
– Нет, – ответил я.
– Позвольте, э-э-э, быть может, унтер-офицер?
– Нет!
Правый, открытый глаз начдива вовсе округлился:
– Позвольте, э-э-э, очевидно, вы вольнопер, пардон, э-э-э, я хотел сказать, вольноопределяющийся.
– Нет, – слегка улыбнулся я, заметив полное замешательство начдива.
– Позвольте, э-э-э, ничего не понимаю. Тогда просто солдат? Э-э-э, ну, скажем, драгун, гусар, улан? – Соседов стал пощелкивать пальцами, пренебрежительно оттопырив нижнюю губу.
– Ни уланом, ни гусаром, ни драгуном я не был.
Соседов встал, словно ужаленный. Надорвал краешек привезенного мною пакета. Бегло прочел предписание, спросил:
– Как же так? Не офицер, не унтер-офицер и даже не солдат, э-э-э, старой армии. И суетесь командовать полком? Ладно, идите, вы свободны. Ищите себе квартиру, – распорядился Соседов. – Не сегодня-завтра я лично поговорю с комкором.
Ничем не оправданная чванливость самовлюбленного вельможи, так же как и его высокомерное «Что вам угодно?», которым он встретил меня, сразу же создала барьер отчуждения между нами.
Я повернулся и оставил возмущенного и потрясенного моими ответами Соседова. Но на этом дело не кончилось.
Спускаясь по широкой лестнице, я на первой же площадке столкнулся с Котовским. На рукаве его защитной гимнастерки виднелась эмблема – в серебряной подкове золотая конская голова; на груди в красных розетках выделялись два ордена Красного Знамени. Верх красной фуражки был чуть примят. Я взял под козырек.
– Здравствуйте, здравствуйте! – Котовский протянул мне руку. – Ч-что вы тут делаете?
После зимней операции против Махно это была наша первая встреча. Я ей очень обрадовался. Тут же, на площадке, я рассказал Котовскому о нашей беседе с Соседовым. Взяв меня под руку, Григорий Иванович сказал:
– Я уже не начдив. Моя коренная бригада в эшелонах. Слыхали про банды Антонова? Едем на Тамбовщину. Но ничего, не вешайте нос, пойдемте...
Мы стали подниматься вверх. У самой двери Котовский спросил:
– Орден за Волочиск получили?
– Нет, Григорий Иванович.
– Я же Виталию о вас говорил. Явись вы с орденом, Соседов с вами иначе бы разговаривал.
Котовский энергично открыл дверь, вошел в кабинет. Следом за ним, поддерживая рукой шашку, переступил порог и я. Не успел еще Соседов, на сей раз от удивления, зажмурить левый и широко распахнуть правый глаз, как Котовский без всякого вступления обрушился на него.
– Т-ты чего дурака валяешь, С-соседов? – без имени-отчества, звания начал Котовский. – Не принимаешь командира?
– Нет свободной вакансии, Григорий Иванович. Вот свяжусь с командиром корпуса.
– Комкор его послал не на свободную вакансию, – продолжал Котовский, – а на девяносто седьмой, на головной полк дивизии. У нас с Примаковым была на этот счет договоренность. И не крути, Соседов! Направляй товарища в полк. – И, немного смягчив тон, взглянул подбадривающе на меня. – Не пожалеешь, Соседов.
Мой вопрос был тут же решен. Прощаясь, Котовский пожелал мне успехов.
Переночевав в Ильинцах, мы с Очеретом направились в Кальник. Стоянка 97-го кавалерийского полка имела две достопримечательности. В Кальнике недавно пустили в ход сахарный завод. И там же со времен освободительных войн Богдана Хмельницкого сохранился дом, служивший полковым штабом легендарному сподвижнику гетмана Ивану Богуну.
Вскоре в Ильинцы прибыл Дмитрий Аркадьевич Шмидт, недолго командовавший в 8-й дивизии бригадой. Шмидт принял от Соседова 17-ю дивизию. С новым начдивом явился и Бубенец – мой новый друг. Он получил 3-ю бригаду. Приехали командовать полками, как и я, Спасский и Святогор. Вместе с другими товарищами из 8-й дивизии прибыл к нам и уралец сотник Ротарев.
Их задача была ответственной и почетной. Предстояло не только восстановить боеспособность дивизии, сильно поредевшей после жестоких боев с пилсудчиками и петлюровцами, но и привить ее личному составу славные традиции червонного казачества. Враг был разбит, но не капитулировал...
«Либо в стремя ногой, либо в пень головой»
В селе Кальник, подковой охватывавшем сахарный завод, находился весь 97-й полк, а 8-я дивизия с трудом разместила бы здесь лишь один свой эскадрон.
До меня командовал полком донской казак Кружилин, упитанный мужчина лет сорока. Ознакомившись с предписанием, он не мог скрыть почти детской обиды, появившейся на его крупном смуглом лице.
Сунув предписание в карман гимнастерки, комполка потребовал коня. Не сказав ни слова, умчался в Ильинцы.
О состоянии полка, пригласив меня в канцелярию, докладывал адъютант полка Петр Филиппович Ратов, В то время начальник штаба части назывался еще адъютантом.
Во время нашей беседы я невольно любовался мощными плечами адъютанта, его выпуклой грудью. Не сдержавшись, пошутил:
– Случайно, вы не брат Ивана Поддубного?
Белое, с пшеничными бровями лицо крепыша расплылось в широкой улыбке. Он ответил:
– У нас в Уржуме, это на Вятке, Поддубный швырнул меня на ковер после пятой секунды. А вообще-то, товарищ комполка, я не борец, я из бурлаков... один из последних могикан этой славной артели.
Задорная улыбка, не сходившая с открытого лица адъютанта, беседа без подобострастия, унаследованного некоторыми нашими штабниками от штабников царских, сразу же располагали к нему. Ратов заявил, что вначале его, строевика, тяготила необычная работа, но сейчас уже он к ней привык. Жаловался бывший бурлак лишь на три пункта. Первый пункт – абсолютное отсутствие бумаги, второй – «недостаточное присутствие» грамоты и третий – хор трубачей.
Тут же разыгравшаяся колоритная сцена подтвердила правдивость этих жалоб. К штабу на широком галопе подкатила тачаночная тройка, и ездовой, лихо развернувшись, крикнул во весь голос:
– Принимай, адъютант!
– Вот видите, товарищ комполка, – рассердился Ратов, – что делает этот барбос Гришка Ивантеев, командир пулеметного эскадрона. Нет бумаги, так он лишат ежедневную рапортичку на задке тачанки.
И действительно, хлестким, писарским почерком на аккуратно разграфленной лаковой поверхности задка была изображена вся арифметическая характеристика эскадрона – количество людей, лошадей, пулеметов, винтовок. Перенеся в блокнот все данные, Ратов скомандовал:
– Езжай и передай эскадронному распоряжение нового командира полка: если еще раз это повторится, нанюхается он гауптвахты.
Но ездовой, сдвинув на ухо черную кубанку, не тронулся с места.
– Чего стоишь? – спросил Ратов.
– А роспись? Нарисуй ее, адъютант, на спинке...
Угроза штабника подействовала. Назавтра рапортичка была доставлена не на роскошной пулеметной тачанке, а на... пулеметном щите. Так как эскадронный писарь – подросток Вася Осипов (ныне автодорожный работник во Львове) – не мог справиться с такой тяжелой ношей, ее шутя доставил в штаб командир взвода Фридман, такой же крепыш, как наш адъютант.
Появление Фридмана с «рапортичкой» под мышкой вызвало дружный смех штабных писарей.
– Видать, товарищ адъютант, командиры не очень-то пугаются ваших угроз, – сказал я, наблюдая за веселым спектаклем. – А комиссару полка жаловались?
Ратов, многозначительно улыбнувшись, ответил вопросом:
– А вы разве еще не познакомились с нашим комиссаром?
...Но бумаги все же не было. И изобретательный Григорий Ивантеев придумал нечто новое, передав сразу же свой опыт другим подразделениям: ежедневные рапортички стали писать на бересте.
Отсутствие бумаги немало помучило штабников, но, без сомнения, по этой самой причине не было тогда у нас и бумажной волокиты.
Петр Ратов, закончивший краткосрочные командирские курсы, после некоторой стажировки в строю был на своем месте. Штаб держал в руках. Распоряжения командира своевременно и толково передавал в подразделения. В указанное графиком время представлял в высшие штабы необходимые сведения, рапорты и донесения. Здесь к нему, как к адъютанту, придраться нельзя было.
Но вот с общей грамотой у бывшего бурлака дела обстояли неважно. Однажды во время тактических учений, получив распоряжение информировать высший штаб о действиях полка, он составил донесение, из которого ничего нельзя было понять. Ратов дважды переписал документ, но с тем же результатом. Пришлось самому взяться за карандаш. Когда я оторвался от полевой книжки, чтобы показать своей «правой руке», как пишутся донесения, адъютанта вблизи не было. Он лежал под тенистым осокорем. Уткнувшись носом в рукав выцветшей гимнастерки, вздрагивая могучим бурлацким плечом, он сокрушался:
– Неужели я так и не научусь этой премудрости?
С трудом заставив бывшего бурлака взять себя в руки, я тогда же подумал: «Ну, голубчик, раз ты так близко принимаешь все это к сердцу, значит, будет из тебя толк».
Вернувшийся Кружилин подписал документ о сдаче полка. Я попросил показать боевую выучку части. Так как на полях росли высокие, почти в рост человека, хлеба, полк вывели за поселок, на выгон. Из всего, что удалось вывести, Кружилин едва сколотил эскадрон. Ясно, что ни о каком полковом учении не могло быть и речи. Наспех созданная строевая единица, как бы командиры ни старались, не могла без предварительной практики показать что-либо стоящее.
В подавленном состоянии мы возвращались в поселок. Вдруг Кружилин оживился. Какие-то искорки зажглись в его глубокосидящих грустных глазах. Он кого-то вызвал из строя и, что-то ему шепнув, послал вперед. Когда мы появились на единственной улице поселка, вдоль ее широкой части, напротив заводской конторы, кто-то уже расставил длинную шеренгу станков со свежей лозой.
Кружилин, отъехав в сторону, подал команду. Всадники, обнажив клинки, взяли к бою пики, один за другим стали отделяться от строя.
Искусство рубки и уколов, передававшееся с кровью из поколения в поколение, нигде не развито так высоко, как у природных казаков. Лоза, срезанная сильным и мгновенным прикосновением шашки, скользнув вертикально вниз, утыкалась свежим острием в землю. Пущенная вперед пика, проткнув вертикальное чучело, тут же ловко перехватывалась рукой, сильным толчком подбрасывалась вверх, летела вперед высоко над головой всадника, опережая его и коня, затем схватывалась на лету, и, послушная казаку, ударом вниз поражала «бегущего врага». Через секунду-две пика – это сильное оружие конницы – снова была готова к очередной комбинации уколов.
Кубанская молодежь – бойцы 97-го полка, наслышавшись от Очерета безусловно приукрашенных им рассказов о червонных казаках, решила показать и себя на своих пораженных чесоткой, плохоньких, но как-то сразу оживившихся лошаденках.
Из-за поворота улицы, со стороны сахарного завода, стоя, во весь рост на подушке седла и вращая на ходу пикой, выскочил всадник с черной повязкой на глазу. Смуглость его сухощавого и скуластого лица еще больше оттенялась огромной серебряной серьгой, вдетой в мочку левого уха. Рядом с конем, на уровне его передних ног, несся, вывалив красный язык, огромный, с мохнатой шерстью, великолепный волкодав. Чуть согнувшись, джигит гикнул, поднял в намет чалого дончака. Вот этот ловкий казак, отставив пику и схватившись руками за переднюю луку, вылетает из седла и на полном скаку, чуть коснувшись травы, вскакивает на коня. Вот он уже отталкивается от земли по другую сторону лошади и спустя миг легко опускается на мягкую подушку казачьего седла.
– Это Митрофан Семивзоров, – сказал Ратов. – Отчаянный рубака, весельчак. Одноглазый, и наши люди зовут его «Прожектор». Конь у него Шкуро, а волкодав – Халаур. Были такие казачьи атаманы Шкуро и Фицхалауров. Дорожит он животными, да вот еще бубном. Видите – приторочен к заднему вьюку.
Семивзоров, блеснув высшим классом джигитовки, лихо отдал честь и, прогарцевав мимо нас на чалом, с задором отчеканил:
– Либо в стремя ногой, либо в пень головой...
Услышав знакомый голос, Халаур, на ходу повернув голову в нашу сторону и словно подтверждая мнение хозяина, трижды гавкнул густым собачьим басом.
После отличной рубки и джигитовки, показанной казаками, настроение Кружилина поднялось. И я понял, что всадники эти могут послужить хорошей основой для создания крепкой конной части. Надо сказать, что многие бойцы – полтавские, харьковские, черниговские хлеборобы, никитовские шахтеры, луганские металлисты, – севшие на коня по зову партии и не знавшие дома, что такое клинок и пика, научились ими владеть в ходе боев с гайдамаками Петлюры и с казаками Деникина.
Расставаясь, я от души поблагодарил Кружилина за хорошую выучку конников.
* * *
В просторную, отведенную под жилье комнату явился Очерет. Злой и угрюмый, занес в прихожую седла, оружие, визжавшего в мешке поросенка. Попросил папиросу. Я не курил, но держал для жаждущих несколько пачек махорки. Затянувшись, с каким-то отчаянием в глазах Очерет посмотрел на меня:
– Отпустите меня домой, товарищ комполка.
Я уже давно обещал Семену отпуск. Выслушав просьбу Очерета, я подумал, что он соскучился по Бретанам. Но не в отпуск просился Семен. Его потянуло «домой» – это означало в Гранов, в 6-й полк, к друзьям, к боевым товарищам. Я бы и сам, если б это было возможно, улетел вместе с «им на крыльях. Но об этом не приходилось и думать.
– За лошадей мне страшно, – в раздражении выпалил Очерет. – Скрозь чесотка, стаень нет. Фуража тоже. А что это за полк? Я уже все скрозь пронюхал. Одна жменька[19]19
Горсточка.
[Закрыть] – и все. Сами видели на учении. Эх, – сокрушался Семен, – видать, наш Примак за что-то сердитый. Обкаблучил он нас как следует с этой чесоточной командой...
– Вот и надо из нее сделать полк не хуже шестого...
Очерет замахал руками.
– Вы что? Смеетесь? Тоже сказали! На что казаки первого полка похваляются: мы, мол, самые старые, а я считаю, что боевее нашего шестого полка нет! И ничего мы с вами тут не добьемся. Попомните мои слова. Вот под Волочиском не послухали меня – верхи поперлись на бронепоезд. Там обожглись и здесь обсмолитесь!
Против пессимизма Очерета я был бессилен. На все мои уверения он только безнадежно махал рукой.
Раскладывая на столе сало и хлеб, ординарец все еще брюзжал:
– Не люблю я этой городской роскоши! – Он бросил злобный взгляд на просторное помещение. – Что с того, что нас сунули в этот анбар? А жри всухомятку. Вот по деревням лафа. Дашь хозяечке продукцию, подвернешь ей такое словечко «бонжур» – она тебе и яешню поджарит, и галушечек поднесет. Конечно, в обыкновенной сельской халупе. Потому что в хате под бляхой[20]20
Под железной крышей.
[Закрыть] сроду не накормят. Куркульня!
Глубокие душевные переживания Семена не мешали ему с аппетитом справляться с «сухомятным обедом». Уминая за обе щеки, он продолжал делиться впечатлениями:
– В нашей хозкоманде больше коней, чем в этом полку. Командирова братва – так она у него без счету: ездовые, коноводы, ординарцы, свой кашевар. Увидела та братва наш чемоданчик и поросенка, подняла, сволочь, на смех. Подвели меня к тыну, а возле него две тачанки. Одна выездная, значит, а другая до верху загруженная, палатками закутанная и веревками затянутая. И говорят: «Вот это понимаем – комполка. А что твой? Молодежь с поросеночком!»
Я слушал сетования Очерета улыбаясь. Но он не унимался:
– Да, у ихнего комполка все очень богато. И тачанки, и кони, и сбруя, и все. – Мне показалось, что Очерет как-то пренебрежительно посмотрел на мен». – Зато полк! Весь ихний полк, говорю, одна жменька. Людей маловато, а насчет коней, то совсем дрянь. Как они стали смеяться над нашим чемоданчиком и поросенком, я им и сказал: «Наша хозкоманда и та посильнее будет вашего полка». А они, черти, говорят: «Если там такое богатство, то почему же вы приехали на нашу бедность? Сидели бы у себя, не рыпались».
Покончив с обедом, Очерет повторил просьбу:
– Сделайте милость, товарищ комполка, отпустите меня обратно. – Подумав, с хитринкой добавил: – Демобилизуюсь, вас вовек не забуду, пришлю из Каховки бутылочку натуральной «бургундии». Специально для вас выпрошу у дядюшки Анри...
Прошла неделя, а Семен ходил как в воду опущенный. Все у него валилось из рук. Поняв настроение ординарца, я, к великой его радости, разрешил ему вернуться в Гранов, в наш старый, 6-й полк.