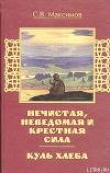Текст книги "Трубачи трубят тревогу"
Автор книги: Илья Дубинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Дубинский Илья Владимирович
Трубачи трубят тревогу
Сабли червонных казаков
Под Перекопом
Что можно сказать о самочувствии человека, ждущего казни?
На войне каждый, сражаясь и поражая насмерть врага, сам постоянно рискует. Смерть здесь подстерегает на каждом шагу. Но на фронте она бывает разной: может быть славной и прекрасной, как песня, может быть и совсем другой... Меня ожидала именно другая, бесславная.
В бою мне не раз приходилось смотреть смерти в глаза. А тут, сознаюсь, стало страшно. Лучше бы встретиться с ней в чистом поле, сидя верхом на коне. А каково же принять ее от своих? От товарищей и друзей, с которыми делил и радость и горе, и первое испытание судьбы и первый удар врага, и последнее слово утешения и последний глоток пресной воды?
Теперь, спустя много лет, вспоминаю, что надежд на спасение было очень мало. Нет, не в силу тяжести моей вины, а в силу тяжести обстановки тех значительных и суровых дней. На того, кто объявил мне суровое решение, я даже обидеться не имел права. Солдат Революции обязан подчиняться всем ее законам: и добрым, и жестоким.
В эпоху коренной ломки всего старого, в пылу ожесточеннейшей борьбы тот, кого обвиняли в нарушении долга, не мог рассчитывать на снисхождение.
Находясь под стражей в сельской клуне и ежеминутно ожидая вызова, я думал о своей судьбе. Вспомнились пушкинские слова. «Заутра казнь. Но без боязни он мыслит об ужасной казни...» Может, это так и было. Но Кочубей уже сгибался под тяжестью десятилетий. Это не двадцать один год!
И может, это уже было малодушием, но в те страшные минуты я очень жалел, почему накануне, 14 апреля 1920 года, когда из-за Перекопского вала выполз английский танк, пулеметная очередь врангелевца вывела из строя нашего командира, а не сразила меня – комиссара полка.
Но что же в конце концов случилось? Чем я провинился? Откуда навалилась беда?
* * *
Под Перекоп весной 1920 года в 13-ю Отдельную кавалерийскую бригаду, состоявшую из Орловского и Алатырского полков, прибыл 1-й Московский конный полк. После этого Орловский объединили с Алатырским, которым командовал Демичев – в прошлом наборщик из города Карачева. Комиссаром новой, объединенной части назначили меня – бывшего комиссара Орловского полка.
Подпрапорщик царской кавалерии Михаил Афанасьевич Демичев, впоследствии командир 1-го конного корпуса червонного казачества, начал службу в Красной Армии в должности взводного командира. Крепкого телосложения, с вечно насупленными бровями, из-под которых блестели умные серые глаза, он был человеком дела, а не красивых слов. Отеческим отношением к людям и скромной, непоказной отвагой Демичев завоевал крепкую привязанность подчиненных.
В походах бывший подпрапорщик не расставался с кожаной курткой, высокими, почти охотничьими сапогами, шоферскими перчатками-крагами и с вечно дымящейся трубкой.
Незадолго до слияния полков алатырцы совершили героический подвиг, вызвав своим бесстрашием восхищение всех войск Перекопского фронта. Глубокой ночью, пройдя по замерзшему Сивашу, они налетели на мыс Тюп-Джанкой, захватили позиции вражеской береговой артиллерии и разгромили Керчь-Еникальский полк.
Красные конники порубили немало беляков, подорвали орудия и вернулись в Строгановку с 40 трофейными пулеметами и 750 пленными.
За Тюп-Джанкой полк был награжден Знаменем ВЦИК, а многие алатырцы вместе с их командиром Демичевым и комиссаром Генде-Ротте – орденами Красного Знамени. Ходил на Тюп-Джанкой и молодой краском Николай Логинов[1]1
Н. А. Логинов в годы Великой Отечественной войны был первым секретарем Тамбовского обкома партии, в настоящее время пенсионер, живет в Москве.
[Закрыть].
С Демичевым мы проработали недолго. Я заболел сыпняком. Моему ординарцу Сливе, отвезшему меня в Асканию-Нову, в дивизионный лазарет, не понравилось там: в Аскании из десяти больных лишь один выздоравливал. Слива повез меня обратно в Ново-Дмитровку.
Молодой организм, неустанные заботы Сливы и старушки квартирохозяйки помогли мне справиться с тяжелым недугом. Как только вернулись силы, я снова сел на коня.
Вскоре начались ожесточенные бои под Перекопом. 14 апреля на штурм Турецкого вала двинулась 42-я стрелковая дивизия Нестеровича, латышская – Калнина, 3-я – Козицкого, 8-я червонно-казачья – Примакова и 13-я отдельная кавалерийская бригада – Микулина.
Бесстрашные латыши, наступая во весь рост, сломили сопротивление офицерских полков генерала Слащева и первыми ворвались в Перекоп. Там они оставались недолго. Врангелевское командование бросило в контратаку горскую конницу Улагая, кубанцев Шкуро и донцев Морозова, а также конногвардейский полк, состоявший из немецких колонистов Таврии. Вместе с конницей обрушились на латышских стрелков белогвардейские самолеты, французские броневики и английские танки. Латышам пришлось отойти.
Червонные казаки Примакова и полки из бригады Микулина отбили все атаки белой кавалерии. Они и сами не раз бросались на врангелевцев, вынудив их уйти за Турецкий вал. Но этот успех дался нелегко. В широкой степи за Преображенкой осталось много наших людей, сраженных клинками белогвардейцев.
Объединенный Алатырский полк с рассвета до поздних сумерек, пока не утихла эта памятная битва 14 апреля 1920 года, под огнем вражеских самолетов и танков удерживал упиравшийся в Сиваш левый, восточный участок Перекопского фронта.
В тот день наш полк, потеряв до четверти своего состава убитыми и ранеными, не пал духом, не дрогнул даже тогда, когда вышел из строя его командир Демичев.
На ночь нас отвели в Перво-Константиновку. Еще по дороге в село комбриг Владимир Микулин и наш новый военком бригады Альберт Генде спросили меня, кто бы мог вместо раненого Демичева возглавить полк. Я назвал Ивана Самойлова, краскома, командира сабельного эскадрона, бывшего череповецкого пастуха.
– А мы с комиссаром полагаем, что лучше всех справится с полком Шротас, – сказал Микулин.
Я категорически возразил против этой кандидатуры. Пий Казимирович Шротас, уроженец города Вильно, которого бойцы в шутку называли «Пий сто десятый», командир пулеметного эскадрона, человек, знавший свое дело, не трусливый, с холодной головой, но и с холодным сердцем, был слишком флегматичен, чтобы возглавить кавалерийский полк.
– Назначим Шротаса, – настаивал комбриг, – он все же бывший офицер, у него больше опыта.
– Пусть командует Пий Казимирович, – поддержал Микулина комиссар, – а потом видно будет.
На 15 апреля в 6.00 намечалась повторная атака Перекопа, но нам с новым командиром полка Пием сто десятым не пришлось в ней участвовать...
Ночью в Перво-Константиновке Шротас, усадив против себя адъютанта, продиктовал ему приказ, назначив время подъема в 5.00. После тяжелого боя люди очень устали, и я высказал опасение, что из-за позднего подъема полк вовремя не соберется. Шротас успокоил меня, заявив, что он лично объедет подразделения и все будет в порядке.
Перед рассветом все штабные работники разъехались по эскадронам, чтобы поторопить их с выступлением, но в 5.30 утра, когда мы должны были уже двигаться к Перекопу, полк находился еще в селе. К нашему штабу на громоздком «бенце» подкатил начальник 42-й дивизии Нестерович. Ему оперативно подчинялась наша 13-я бригада. Не желая никого слушать, начдив заявил:
– За опоздание полка – расстрел.
Сам сказочной отваги, Нестерович слыл как человек, скорый на расправу. Так что, очутившись в «бенце» начдива, мы поняли, что тут не до шуток.
Весь день мы со Шротасом провели в расположении штаба 42-й дивизии, не обмолвившись ни единым словом. За стеной цвели вишни, чирикали воробьи, звала к жизни ароматная таврическая весна. «Там, под Перекопом, – думал я, – твои боевые товарищи штурмуют укрепления белогвардейцев, а ты ждешь суровой расплаты за интеллигентскую деликатность. Надо было настойчивей разговаривать с новым командиром».
И в то же время горечь моих, как мне казалось, незаслуженных переживаний облегчалась каким-то недобрым, злорадным чувством: «А все же я был прав, когда давал отвод Пию сто десятому».
Нестерович был не только начдивом, которому подчинялась 13-я бригада, но и начальником Перекопского боевого участка. Высшая власть! Человек волевой и решительный не станет попусту бросаться словами. И все же у нас теплилась надежда. Ведь судьи перед вынесением приговора будут разбираться в обстоятельствах дела. Расстреливают врагов и то не всегда и не всех. А мы со Шротасом не шпионы, не мародеры, не белогвардейцы. За нашими плечами немало атак, десятки боев, тяжелые походы. И это известно, если не Нестеровичу, то нашим друзьям и товарищам, командиру и комиссару бригады. Разве их не волнует наша участь? Нет, не может этого быть!
Поздно ночью 15 апреля, после тягостного двадцатичасового ожидания, нас доставили в штаб боевого участка. Там в накуренном помещении уже собрался «полевой суд». Он состоял из Нестеровича, Микулина, Генде.
Лишь мы переступили порог, Нестерович оглушил нас раскатистым басом:
– О! Явились орлы! Скажите спасибо вот им, – указал он зажатым в руке циркулем на членов суда, – иначе подсек бы я вам крылья. Для примера, конечно...
Да, я не ошибся в старших товарищах. Микулин, воспитанный в интеллигентной передовой семье, располагал к себе мужественным благородством. Ему претила любая несправедливость. Комиссар, лодзинский пролетарий, коммунист с 1905 года, бывший царский артиллерист-фейерверкер Альберт Генде, душа нашей бригады, тоже был не из тех, кто равнодушно проходит мимо беды товарища.
– Лошадь на четырех ногах и та спотыкается, – подбадривая нас улыбкой, сказал Микулин. – За промах бьют, но не убивают, товарищ начдив. Таким гвардейцам место на коне, а не под конем...
– К тому же Алатырский полк поработал сегодня на славу, – добавил Генде. – И полк, и его командир Самойлов...
Тут комиссар многозначительно посмотрел на меня. Казалось, его взгляд выражал раскаяние: мол, вот же, не вняв совету, поставили во главе полка не того, кого следовало...
Нестерович, взмахнув повелительно циркулем, услал стражу. Вмиг стало легче дышать.
– Прощаю вас, – сказал грозный начдив. – Но пример все же нужен. Властью начальника боеучастка я вас разжаловал... Еще будут бои на Перекопе. Вот и искупайте свою вину...
Еще сильнее чувствуешь, как хороша жизнь, когда, хоть и ненадолго, столкнешься носом к носу с угрозой смерти. Есть все же правда, хорошая, светлая правда на нашей земле! Есть хорошие люди, есть настоящие товарищи! А главное, если и придется отдать жизнь, то по крайней мере с оружием в руках, в борьбе за правое дело, в схватке с врагом.
* * *
В качестве рядового я попал в Московский кавалерийский полк, в 3-й эскадрон Дмитрия Швеца. Лихой рубака, он сразу же после подъема, уладив эскадронные дела, принимался точить клинок и брить голову. «Мои предки – сечевики, – заявлял Швец у походного точила, – а у запорожца сабля должна быть острой и лоб голый».
Председатель коммунистической ячейки нашего эскадрона Георгий Сазыкин, рабочий Невского завода, участвовал в штурме Зимнего дворца. Худенький, с приятным умным лицом, черноглазый, он пользовался всеобщей любовью. На отдыхе он созывал партийцев и каждому давал отдельное задание. Себе брал самое сложное. В эскадроне все время чувствовалось влияние коммунистов, В бою они первыми бросались в атаку на врага.
Сазыкин участвовал во всех боях червонного казачества, куда после влился Московский полк. Ходил он в проскуровский, тарнопольский, стрыйский рейды. Одним из первых в августе 1920 года прорвался в город Стрый через мосты, оборонявшиеся белопольской пехотой. С пулеметчиком Семеном Богдановым[2]2
С. П. Богданов ныне пенсионер, живет в Ленинграде.
[Закрыть] освободил заключенных из стрыйской тюрьмы. Впоследствии Георгий Павлович Сазыкин был комиссаром 3-го червонно-казачьего полка[3]3
Г. П. Сазыкин в настоящее время возглавляет в Ленинграде крупный строительный трест, является членом Октябрьского райкома КПСС.
[Закрыть].
В мае под Перекопом наступило затишье. В новой части меня, как и других рядовых бойцов, наряжали для патрулирования Черноморского побережья.
Командование войск Перекопского участка, занятое подготовкой штурма вражеских укреплений, ослабило наблюдение за своим побережьем. Этим воспользовались белогвардейцы. 15 апреля, как раз в тот день, когда мы со Шротасом жестоко поплатились за свою неопытность, они в Хорлах высадили десант во главе с генералом Витковским. В полках Витковского под ружьем стояли офицеры-золотопогонники, сынки помещиков и капиталистов. Взводами командовали капитаны, а ротами – полковники.
Захватив кусок твердой земли, офицерский десант отбросил слабые части береговой обороны и нанес удар пехотной бригаде Германовича. Витковский нацеливался на тылы перекопской группы войск и на позиции советской тяжелой артиллерии.
Вот тут-то и была поднята по тревоге червонно-казачья дивизия Примакова. Штаб-трубачи вихрем носились по улицам Строгановки, Владимировки, Перво-Константиновки, Чаплинки – по всему охваченному тревогой побережью.
В то утро горнисты дивизии, среди которых были и безусые подростки, и седоголовые ветераны (один из этих славных стариканов, усач Рудый, в прошлом состоял штаб-трубачом при Николае Николаевиче, царском дядюшке,), не трубили ни бодрого «Подъема», «и лирической «Седловки», ни строгого «Сбора».
В то утро на просторах Таврической степи трубачи трубили лишь одну мелодию – сигнал «Тревога»:
Та-та-та-та, та-та-та-та...
Тревогу трубят,
Скорей седлай коня,
Но без суеты,
Оружье оправь,
Себя осмотри,
Тихо на сборное место коня веди,
Стой смирно и приказа жди...
Полкам червонных казаков не пришлось тогда ни долго оставаться на сборном месте, ни долго ждать приказа. Послушные сигналам трубы, под командой своего молодого начдива, будоража степную тишину гулким Топотом копыт, понеслись они с севера на юг, к Преображенке – фальцфейновской вотчине, и дальше – к Хорлам.
Когда начдив Примаков вел своих всадников навстречу белогвардейскому десанту, над степью звучали лишь два сигнала, хорошо усвоенные не только бесстрашными кавалеристами, но и их лошадьми. Это был сигнал галопа:
Всадники, двигайте ваших коней
В поле галопом резвей...
и сигнал карьера:
Скачи, лети стрелой!
Атакованный червонными казаками сначала в чистом поле, а затем на Преображенском кладбище, десант генерала Витковского понес большие потери, и лишь ценой огромных усилий ему удалось прорваться к своим в Перекоп.
В том страшном бою хорошо поработали лихие пушкари из батареи Сергея Лозовского.
В этот день, сраженный осколком снаряда, погиб командир 4-го червоннл-казачьего полка Илья Гончаренко. Другим осколком был ранен комиссар бригады Савва Макарович Иванина, тот самый, который в 1906 году взбунтовал заключенных козелецкой тюрьмы.
После 15 апреля командование, опасаясь повторных вылазок белогвардейцев, усилило наблюдение за морскими подступами к нашему расположению. Днем и ночью конные патрули контролировали участок побережья от Хорлов до Скадовска. Всю ночь мы, патрульные, следуя глухими прибрежными тропками, наблюдали за морем, а вернувшись на рассвете в эскадрон, чистили и кормили коней, после чего до вечера спали.
В конце мая бригада Микулина вошла в состав 8-й червонно-казачьей дивизии. Алатырский полк стал пятым, а Московский – шестым червонно-казачьим полком. Вернулся в строй Демичев. Разжалованный Пий сто десятый получил снова пулеметный эскадрон.
Внук крепостного
С Виталием Марковичем Примаковым – «железным рыцарем», как называли его в своих песнях слепые лирники Украины, пришлось мне тесно общаться и во время гражданской войны, и довольно часто после нее. Раскрывая в беседах с нами революционное прошлое, он умел быстро овладевать всеобщим вниманием.
К сожалению, не все, услышанное от Примакова и от его школьных товарищей, не все из прежних записей, не все, чему был свидетелем я в годы гражданской войны, и не все, чему были свидетелями мои боевые друзья, вошло в эту хронику. Она включает в себя лишь самое главное.
– Вспоминаю своего батька, – говорил как-то Примаков, – он был народный учитель. Беззаветный труженик. А ведь мечтал и из меня сделать учителя. Не то что мать. Она гордилась мной – бунтарем. В юности, в грозную эпоху «Буревестника», крепкой опорой были друзья-подпольщики, но в борьбе я всегда чувствовал любящее сердце матери. А отец? Отец был благородный человек, но уж очень боялся потерять то, чего достиг с величайшим трудом... В одном был прав батько: я из обыкновенных самый обыкновенный.
Примаков тут же рассказал об одной беседе между его родителями. Варвара Николаевна, мать Виталия Марковича, заговорила однажды с мужем о старшем сыне:
– Мне почему-то кажется, что наш Виталий особенный.
– Любой матери кажется, что ее дитя – гений, – сердито ответил отец. – Забыла, в какое время живем? Из особенных выходят или те, кто вешают, или те, кого вешают. Выбрось это из головы и ему не засоряй мозги. Напротив, внушай ему, что он из обыкновенных самый обыкновенный. Надо думать об одном: как бы поставить детей на ноги. И тихо дожить век в Шуманах. Кончит Виталий учение, а там, может, займет мое место учителя. Чем плохо для внука крепостного мужика?
Но внук крепостного не стал учителем в Шуманах. В решающие дни борьбы за новую жизнь партия, впитавшая в себя из народа самое преданное, самое талантливое, самое передовое, поставила двадцатилетнего Виталия Примакова во главе боевой конницы Советской Украины.
Нелегким, тернистым был его путь. Отчетливо рисуются мне картины беспокойной юности – с его слов и со слов тех, кто близко знал этого замечательного человека. Часто вспоминал он укромную усадьбу, притаившуюся на тенистой Северянской улице Чернигова, ставшую его вторым домом. Хозяин этой усадьбы пользовался особым «расположением» полицейских – возле нее всегда маячила фигура агента-»топтуна», не спускавшего глаз с маленького дома.
Вот и сам хозяин – «опасный сочинитель» Михаил Михайлович Коцюбинский. Обычно задумчивый, угрюмый, он оживал в кругу детворы. Молодежь так и льнула к этому дому.
Михаил Михайлович усталый вернулся как-то с прогулки. Усевшись на веранде в окружении детей, носовым платком вытер вспотевший лоб. Провел пальцами по пышным, аккуратно расчесанным темным усам.
Ежегодные поездки к Средиземному морю не поправили здоровья писателя. Но его неодолимо тянуло в далекую сторону. Взаимное влечение, которое почувствовали друг к другу при первом же знакомстве Михаил Коцюбинский и поселившийся на острове Капри Алексей Пешков, росло и крепло с каждой встречей.
О чем-то оживленно споря, к веранде приблизились старший сын писателя Юрий и его друг Виталий Примаков.
Не по годам вытянувшийся, голубоглазый, как и мать, Юрий тонким станом походил на отца. Виталий, моложе Юрия на год, был значительно ниже его. Но сызмальства втянутый в физический труд, выросший на селе, Виталий выгодно отличался от своего товарища ладным телосложением. Крепыш, с широкими плечами и развитой грудью, не дававший спуску гимназическим верзилам – любителям притеснять малышей, он пользовался заслуженной симпатией всего класса.
Юноши, оборвав спор, поднялись на веранду, поздоровались с Михаилом Михайловичем.
– Здоровеньки булы, хлопци! Как успехи, бравые мушкетеры? – справившись с одышкой, спросил Михаил Михайлович. – Небось опять досадили наставникам, хранящим юность вашу?
– Да, сегодня педелям было жарко! – с плохо скрываемой радостью выпалил Юрий.
С малых лет юноша привык видеть в отце старшего друга, к которому можно в любое время прийти и со всеми печалями, и со всеми радостями.
– А что случилось, Юрко? – поинтересовался Коцюбинский, пристально всматриваясь в задорное лицо сына.
– Крамола, татко, крамола! И где? На стенах актового зала!
– Прокламация? – с тревогой и радостью в голосе спросил писатель. – Что, опять «долой царя»?
– Нет, только несколько строк – «Буря! Скоро грянет буря!»
А Виталий, чуть волнуясь, с горячностью продекламировал:
– «Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: – Пусть сильнее грянет буря!..»
– Вот и все! – поправив форменную рубаху и чуть передвинув вверх лакированный гимназический ремень, сказал Юрий. – О царе ни слова. А переполоху!
Скрипнула дверь, и на веранде с мензуркой в руках появилась Оксана. Широкоплечая, плотная, в коричневой юбке и кофточке из теплой шотландки, с вьющимися каштановыми волосами, она, чем-то озабоченная, казалась старше своих тринадцати лет. Тепло улыбнувшись отцу, Оксана заставила его выпить лекарство. Тряхнув локонами, ушла в дом.
Из раскрытых окон вдруг полились нежные звуки рояля. Оксана, приготовив уроки, села за инструмент, тот самый, клавишей которого не раз касались пальцы талантливого музыканта, друга писателя, Николая Витальевича Лысенко. Какой-то мягкой певучестью и лирической теплотой веяло от задушевных звуков романса Шопена. Юному Виталию казалось, что вместе с мелодией песни звучат в вечернем воздухе и ее слова: «Если б я солнышком на небе сияла...»
– Потрясли сегодня старшеклассников, – возобновил Юрий прерванный разговор, – и с особым пристрастием Семена Туровского, Ивана Варлыгу, Николая Григоренко.
– Их таскали к Еленевскому и к Зимину, – подтвердил Виталий. – Директор и инспектор – эта пара вороных – поработали сегодня на славу!
– Что ж, – задумчиво улыбнулся Михаил Михайлович, – наша молодежь видит знамение времени не в «Ключах счастья», Вербицкой, не в «Санине» Арцыбашева, а в «Буревестнике». Расчудесно!
Это было в 1911 году, когда писатели-декаденты и писатели-ренегаты, рисуя бесцельность и гибельность всякой борьбы, продолжали звать молодежь от служения «сомнительным богам идей» к служению «осязаемому божеству чувственной любви».
За своего первенца Михаил Михайлович был спокоен. Его не пугала мысль о том, что дети, пренебрегши родительским воспитанием, вырастут эгоистами, себялюбцами, для которых собственное благополучие может стать дороже гражданского долга. И он, и мать Юрия – Вера Иустиновна, оба занятые большим общественным делом, внимательно следили за развитием детей, пристально изучали и их наклонности, и их друзей. Родители радовались тому, что с первого класса гимназии Юрий искал товарищей не среди избалованных сынков черниговской знати. Он тянулся к серьезным, вдумчивым мальчикам.
Юрий и его ближайший друг Виталий недолго увлекались Жюлем Верном и Вальтером Скоттом. Отдав юношескую дань этим авторам, они рано стали интересоваться книгами о восстаниях Спартака, Гарибальди, Емельяна Пугачева. В тринадцать лет они прочли почти всего Пушкина, Шевченко, Гоголя, Тургенева.
Как и вся передовая молодежь того времени, Юрий и Виталий почитали писателя-бунтаря Максима Горького. Оба хранили широко распространенный литографический снимок автора «Буревестника» – аскетически худого, с волевым блеском умных глаз, с низко падающими длинными волосами, в гладкой косоворотке, подпоясанной витым шнурком.
И Юрий, и его друзья радовались вместе с Оксаной, когда она получила с острова Капри фотокарточку писателя с автографом. В какой-то степени отцовское дарование перешло к дочери. Оксана сама начала писать рассказы, стихи. Автор «Буревестника», ознакомившись с творчеством старшей дочери Коцюбинского, прислал ей на память одну из своих книг, а также дорогой подарок – ожерелье из дымчатых, темно-сиреневых аметистов.
– Таскали к начальству и нас – подростков, – сорвав золотисто-багровый листок дикого винограда, продолжал Юрий. – Меня, Виталия и наших друзей. Учинили допрос похлеще, чем по делу Добычина...
– Что ж им нужно было от вас, юнцов? – с негодованием в голосе спросил Михаил Михайлович.
– Зинин стучал кулаком по столу: «Знаем, откуда ползет зараза, этот дух «Буревестника»!» Забыл, дьявол, как Добычин накрыл его шинелью в раздевалке...
– Сегодня этот педель, Зинин, все тюфяки вспорет в интернате, – возбужденно сказал Виталий.
– Вот, дети мои, – промолвил Коцюбинский. – На долю нашего поколения выпали очень серьезные испытания. Но вас ждут еще более значительные события.
Наступает время решающих бурь и великих потрясений...
Юрий и Виталий, усевшись на ступеньки крылечка, тесно прильнули друг к другу. Это была не первая задушевная, от сердца к сердцу, беседа, которую вел писатель со старшим сыном и его другом. Затишье, наступившее после бурного 1905 года, было непрочным, предгрозовым. Михаил Михайлович с тревогой думал об испытаниях, ожидавших молодежь.
Борьба за дело народа, которая не угасала ни на миг, ждала борцов и вожаков, и их на смену «павшим, в борьбе уставшим» должно было выдвинуть юное, подрастающее поколение.
Обостренное чутье художника среди множества людей находит единицы – наиболее интересные и яркие натуры... Писатель – знаток душ – видит невидимое... Сквозь морщины старика распознает нежное личико ребенка, розовые щеки юноши, мужественное лицо зрелого человека – все то, что предшествовало густым старческим складкам. И наоборот, мысленно дорисовывает будущее ребенка.
Своенравный мальчик, явившийся в Чернигов из глухого села, заинтересовал Михаила Михайловича многими качествами: пытливым умом, мягкой улыбкой, пристрастием к чтению, настойчивостью, чувством собственного достоинства и при всем этом еще задиристым нравом. Не предугадывал ли Коцюбинский, наблюдая за Виталием, насыщенный драматизмом его героический жизненный путь? Нередко же бывает так: чем ярче судьба даровитых людей, тем сильнее она обрушивается на них своей драматичностью.
Еще свежи были в памяти людей грозные события 1905 года. Вспышки народного гнева – эти зарницы грядущей грозы – возникали и в самых глухих уголках царской России. Герои Коцюбинского, теперь уже не на страницах «Фата-Моргана», а на суровой арене жизни, вооружившись косами, вилами и топорами, двинулись на штурм дворянских гнезд.
Дети из таких семей, как семья Коцюбинских, росли в атмосфере революционной романтики. Из разговоров старших, из рассказов сверстников юноши узнавали многое. Приезжавшие на каникулы молодые большевики, студенты-питерцы, рассказывали о той борьбе, которую вел рабочий класс России.
Много было разговоров о ссыльном большевике Владимире Селюке. Он и питерские студенты Короткий, Гриневич, Присядько создали в Чернигове несколько революционных кружков.
Гимназисты через соучеников-провинциалов узнавали и другое – о разгуле карателей в Конотопе, Клинцах, Шостке, Глухове и в других городах и селах. Женя Журавлев, ровесник Юрия, поведал своим товарищам о том, что творилось в селах и деревнях его родной Козелецщины. Слушая захватывающий рассказ о бесстрашии девятнадцатилетнего революционера Саввы Иванины, молодежь, увлекавшаяся романтикой народных восстаний, понимала, что не перевелись еще на Украине последователи Устина Кармелюка.
В один из февральских дней 1906 года, в день казни большой группы осужденных, по указанию революционного подполья была устроена обструкция во всех тюрьмах Черниговщины. В одиночке козелецкого острога содержался участник вооруженного восстания Савва Иванина, высокого роста и богатырского сложения молодой человек.
Арестанты, по условному сигналу Иванины, разобрав нары, забаррикадировались в камерах. Вышибли окна и, раскидав печи, забросали надзирателей кирпичами. Полиция, вызванная в тюрьму, не в силах была что-либо сделать. Прискакали драгуны. Пьяные, пустив в ход шашки, они штурмом брали одну баррикаду за другой. Ворвавшись в камеру к Иванине, каратели не могли с ним справиться. Руки молодого бунтаря, вцепившиеся в косяки двери, словно примерзли к ним.
Драгунский унтер прикладом нанес Иванине удар сзади. Спустя полчаса, когда Савва пришел в себя, он уже ничего не видел и не слышал. Зрение вернулось к нему не сразу – через полтора месяца, а слух – через два. Закованного в кандалы Иванину, будущего комиссара одной из бригад червонного казачества, под конвоем увезли в иркутский централ.
Евгений Петрович Журавлев, сын козелецкого народного учителя, ставший впоследствии начальником войсковой разведки червонного казачества, в Отечественную войну – командарм, генерал-лейтенант, и сейчас с большой теплотой вспоминает о встречах с Коцюбинским. Писатель часто беседовал с гимназистами. Возвращаясь с занятий, она шумной гурьбой появлялись в сквере (против городской ратуши), в котором любил гулять Михаил Михайлович.
– Царю нужны верные слуги, – говорил писатель, обращаясь к юношам. – Но, вопреки воле начальства, гимназии воспитывают и слуг народа. И они, эти слуги народа, обязаны знать больше, чем слуги царя. К чему я это говорю? К тому, чтоб напомнить вам, что ваша пора – это пора учебы... Знаем мы о ваших тайных кружках. Знаем, что каждый из его членов вызубрил назубок гневные речи Демосфена и Сен-Жюста. Знаем, что ваши юные сердца, жаждущие подвигов, полны стремления «глаголом жечь сердца людей». Но всему свое время. Придет и для вас святая пора борьбы... Она не за горами... В одном я уверен, дети мои, – вам не придется повторять: «Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано»...
Слова Коцюбинского оказались пророческими. Пройдет каких-нибудь семь лет, и один из юношей по воле партии станет главнокомандующим советских войск Украины, а другой – строителем и вожаком ее боевой конницы – червонного казачества.
– Отец, а что ты скажешь о генерале Раевском? Под Бородином кто повел в огонь своих мальчиков? – Юрий с укором в больших голубых глазах посмотрел на отца. – А ты? Ты жалеешь нас?
– Что ж, Юрко, генералу Раевскому честь и хвала! Не зря его славил и Пушкин. Но мы пока не на поле боя. Голубь не вытолкнет из гнезда птенцов с неокрепшими крылышками. Жизнь – это непрерывный поток. Сейчас пора одних, а спустя немного подхватят эстафету другие.
Но молодость не любит ждать. Виталий с головой ушел в «бунтарское дело». Оно надолго разлучило его с милой усадьбой Коцюбинских, с Оксаной, чьей дружбой он дорожил.
В 1913 году Юрий, Виталий, Ахий Шильман[4]4
Комиссар артдивизиона в червонном казачестве, потом секретарь Смоленского обкома партии.
[Закрыть], Алексей Стецкий, Валя Шаевич, Лазарь Аронштам, Валерий Имшенецкий и другие товарищи создали революционный кружок, примкнувший через год к социал-демократам.
Началась война 1914 года. Черниговское революционное подполье, связанное с Петроградом и Киевом, широко развернуло пропаганду против нее. Жандармы арестовали гимназистов Семена Туровского, Михаила Зюку, Михаила Бунина, Наума Горбовца, когда те расклеивали антивоенные листовки. Арестованных выслали в Вятку.
Но семена, брошенные подпольщиками, дали всходы: черниговский гарнизон глухо бурлил. Жандармы, неистовствуя, схватили на улице Виталия Примакова. При обыске на квартире Муринсона, где проживал Виталий, были найдены революционные листовки. 14 февраля 1915 года многие молодые черниговские социал-демократы очутились под стражей. Случайно избежал ареста лишь Юрий Коцюбинский, заболевший тифом.
В мае Виталия Примакова, Марка Темкина, Анюту Гольденберг увезли в Киев, на суд.
Большая группа черниговской молодежи провожала арестованных в Киев и даже сумела пробраться в зал заседания суда. Была там и Варвара Николаевна.