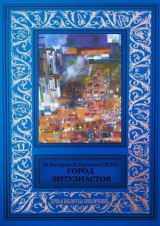
Текст книги "Город энтузиастов (сборник)"
Автор книги: Илья Кремлев
Соавторы: Михаил Козырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Солнце академика Загородного
Издали это было похоже на установку новой гигантской радиомачты. Вблизи глаз различал причудливый переплет стальных лесов, падающие клетки подъемников, хищные клювы кранов, дрожащие реи напружинившихся цепей. У дощатого забора, перегородившего Советскую площадь, не прекращалась толчея.
– Вишь ты, – рассказывал человек в подозрительной кепке и сапогах бутылками, – большевицкое солнце устанавливают.
– Какое там солнце – отозвался рыхлый мужчина в пенсне и мягкой каракулевой шляпе, – обыкновенная фабрика ультрафиолетовых лучей.
– Гражданин, – ядовито остановил его человек в кепке, – вы думаете вам сквозь очки все видно? А я вот и без очков в любой темноте сумею солнце разглядеть.
– Интересно знать, уважаемые, – ехидно спросил, проталкиваясь к спорящим, лиловый старичок с брезентовым портфелем:
– Как это солнце отпускать будут – по книжкам «Коммунара» или всем без изъятия гражданам кроме лишенных избирательных прав?
– Тебе, надо думать, дадут, – ответил ему человек в кепке, косясь на брезентовый портфель, – ежели, понятно, к тому времени не вычистят по первой категории.
Локшин подошел к забору.
– Гражданин, не стеклянный, детям не видать, посторонись!
Толпа у загадочных лесов с каждой минутой росла.
– Искусственное солнце, это – все одно, что сахарин вместо сахара. А только, – тут человек чрезвычайно неопределенной и модной внешности сделал паузу, – а только при чем тут, граждане, приказ? Три смены. Глядите, граждане, диктатура требует, чтобы как каторжные работали и день и ночь!
На корявых досках забора, пестрея разнообразными шрифтами, маячил давно знакомый Локшину приказ ВСНХ.
– Товарищи, – сказал он, – что ж особенного? Рабочий день все равно семь часов.
– Семь? – злобно переспросил человек в кепке, – кому семь, а кому сдыхать всем.
– Почему же, собственно? Я не понимаю…
Локшин действительно не понимал, почему эти люди в кепках, в фуражках, в прошитых фетровых и меховых панамах, с четыреугольными, плохо выбритыми лицами, так враждебно встречают каждый взлет фантазии, каждое неожиданное слово. Он болезненно остро почувствовал, что он, Локшин, со всем своим интеллигентским ораторским искусством, ничего не может сказать этим людям, никак не сможет их переубедить. Может быть, здесь Сибиряков и Кизякин – эти скучные флегматики революции – нужнее, чем он, может быть, они своим хладнокровным косноязычием сумеют поднять всю эту массу до революционных высот.
– А интересно, граждане, – продолжал лиловый старикашка, – как это они строить умудряются. Например, дом выстроить – кредитов нет. Например, керосин понадобился – в очередь вставай… А мне что, – неожиданно переменил тон старикашка, – я полный пенсион получаю. Мне политика ни к чему.
– Кому как, а мне это большевицкое солнце – тоска смертная, – сказал человек в кепке и поспешно ушел.
В ОДС услужливый Лопухин проникновенно взмахнул бакенбардами и, подойдя к столу Локшина, с деликатной вежливостью сказал:
– Александр Сергеевич, прочтите приказ.
Локшин в третий раз прочел приказ ВСНХ. Сознание того, что его, счетовода Локшина, идея заставляет солидных, в форменных фуражках людей из ВСНХ писать приказ, еще год назад переполнило бы Локшина гордостью. А теперь общество по диефикации СССР модернистической вывеской с прямыми, чуть кренящимися влево буквами, с гранитными столбами у подъезда, с матовыми уплывающими фонарями вестибюля, с голубой, наконец, стеной, на которой чьим-то неуверенным карандашом было написано единственное слово – «жид» – стало таким же привычным, как ящик с неровной пирамидкой переложенных разноцветными указателями карточек.
Порой Локшину казалось, что он бесконечно вырос. Он подходил к зеркалу, прорывающему скучный простенок вестибюля, и оттого, что, вдавливаясь в чуть-чуть загорелую кожу, казались настойчивее морщины, и от того, что по-взрослому голубели виски, его охватывала мягкая грусть. Ему казалось, – от ненавистной гимназии, от ржавых парт до постной жены, до унылых получек и унылых попоек, до тусклого в бесчисленных циркулярах полит-хоз-прод-управлений фронта – без единого просвета тянулась его бесцветная жизнь.
– Ольга…
Вспомнив об этой женщине, вместе с неожиданным успехом пришедшей к нему и сразу занявшей в его жизни едва ли не первое место, Локшин поднял голову и чуть-чуть улыбнулся.
Эта улыбка тотчас же была замечена сотрудниками общества, которые во главе с Андреем Михайловичем столпились вокруг Лопухина. Если бы Локшин был менее занят собственными мыслями, от него не ускользнуло бы, что и степенный главный бухгалтер, и угодливый Паша, и солидно прислонившийся к шкафу Петухов, и хихикающие у входной двери машинистки, одна с локонами – Маня, другая без локонов – Фаня, собрались не случайно и чего-то ждут от него.
– Александр Сергеевич, – Подхватив чуть заметную улыбку Локшина и растянув ее до кончиков модных бакенов, спросил Лопухин, – что ж, и мы теперь будем беспрерывно работать?.
– Мы в бухгалтерии тоже об этом поговаривали, – с живостью подхватил Андрей Михайлович.
Голова Паши высунулась на четверть метра вперед, машинистки, поглядев друг на друга, сделали неуверенный шаг. Локшин, все еще не замечая напряженности всеобщего внимания, сказал:
– Конечно, мы должны показать пример.
Улыбка, растянувшая рот Лопухина, недоуменно застыла. Лицо Андрея Михайловича приняло выражение суровой деловитости. Паша стремительно спрятал голову за спину Андрея Михайловича, машинистки поспешно юркнули в дверь и сразу же рядом застучали машинки.
– Александр Сергеевич, – осторожно подыскивая слова, начал бухгалтер, – я полагал, что это касается только рабочих.
– Почему же только рабочих? – удивился Локшин, и вдруг вся эта сцена рассмешила его. – А какая, собственно, разница между рабочими и вами? – улыбнувшись, спросил он.
– Помилуйте, – словно не веря своим ушам, возразил Андрей Михайлович, – ведь мы – умственного труда.
– Извиняюсь, – улучив момент, сказал Петухов, – у меня, например, ресконтро. Допустим – бухгалтерия работает в три смены. Карточки те же будут в остальных сменах или другие? А если те же самые, то ведь напутать могут, а я отвечай!
Андрей Михайлович пренебрежительным взглядом смерил Петухова.
– Ресконтро – это пустяки. С карточками всякий управится, но вы простите, Александр Сергеевич, я как ученый бухгалтер спрашиваю – как же централизованное руководство? Они, – он сделал жест в сторону бухгалтерии, – будут в три смены работать. А я то как же? Я ведь не двужильный! А если два главных бухгалтера, то на ком ответственность?
Андрей Михайлович, почтительно улыбаясь, иронически пожал плечами и закончил:
– Очевидно, придется сидеть здесь круглые сутки.
Глава пятнадцатаяУ Ольги
Ольги не было дома, но именно сейчас она ему была нужна, как никогда. Локшин заехал к ней срезу после собрания, устроенного московским областным советом профессиональных союзов совместно с губотделами, представителями заводов и печати.
– Мы считаем, – говорил Миловидов на этом собрании, – приказ ВСНХ преждевременным. Массовое введение ночных смен – это проявление административного восторга. Хорошо, – продолжал он, разбрасывая прыгающие шары, – хорошо, допустим, мы бы не возражали. Но где рабочая сила, где кадры, где электрическая энергия?
Все это он говорил, обращаясь почти исключительно к Локшину, как-будто Локшин должен был достать недостающую московским заводам энергию.
Представители губотделов и даже представители заводов не менее, нежели Миловидов, нападали не только на ВСНХ, но, и главным образом, на общество по диефикации.
– Это – волынка, – сердито сказал сумрачный человек, оказавшийся представителем кожевников, – довольно с нас их обществ. Тут тебе и друг детей, тут тебе и МОПР, а тут еще ОДС – только работать мешают.
И хотя в словах оратора не было ничего, кроме дешёвой демагогии, ему дружно аплодировали.
– Я предлагаю, – продолжал оратор, – общество распустить.
В защиту общества никто не выступил, только одни на товарищей со всякими оговорками указал, что о ликвидации общества говорить преждевременно, но передача его функции какому-нибудь на научных институтов была бы очень желательна.
Локшину дали слово только в порядке прений. Он чувствовал, что говорит вяло: ему мотал некстати при помнившийся липовый старик с брезентовым портфелем. Он множился, портфель его удваивался и утраивался, вырастал, как в призматических зеркалах растет искривленное изображение. И вдруг начинало казаться, что и представители губотдела и сам Миловидов, и даже репортеры, пристроившиеся на трибуне, все они до невозможности похожи друг на друга, у всех у них подмышкой истрепанные брезентовые портфели, у всех у них лиловые сморщенные и злые лица.
– Если бы Ольга была здесь.
Ему казалось, что только Ольга может избавить его от призрака лилового старика.
На диване валялась раскрытая брошюра. Неровно разрезанные, вернее, разорванные страницы были испещрены выкладками и узорами чертежей. Локшин рассеянно, перелистывал эту брошюру и удивлялся способности Ольги интересоваться решительно всем. На этог раз, судя по бесчисленным пометкам на полях, Ольга интересовалась чем-то связанным с нагревательными приборами.
Инженер Винклер, – прочел он, – «Теплофикация городов», – и, отбросив брошюру, прошелся по комнате.
Комната Ольги в его представлении была неотделима от нее самой. Он любил ее комнату, ее мебель, ее вещи. Легкий красного дерева шкафчик, стиля ампир, напоминающий о прохладной гостиной старого барского дома, узкая девичья кровать, покрытая серебряным шелком, с тающими на нем в зеленом тумане гигантскими цаплями, письменный стол на тонких резных ножках, металлическими копытцами осторожно ступающих по выцветшему ковру – всю эту обстановку он изучил до мельчайших подробностей. Он знал, что если приоткрыть дверку шкафа, то там на полках увидишь любимые Ольгины чашки, испещренные морщинками трещин, с выщербленными кромками, с черным приплюснутым двуглавым орлом на прозрачных донцах. Ольга говорила, что это остатки елизаветинского родового сервиза, а Локшин никак не мог понять, что хорошего находит она в этой некрасивой и неудобной посуде. Он знал, что если выдвинуть ящики письменного стола, то там найдешь совсем не по-женски запрятанные в деловые пакеты обильные пачки писем на разных языках – письма, принадлежащие людям, имена которых нередко попадались в телеграммах ТАСС, письма, к которым до сих пор Локшин ревновал Ольгу.
Безделушки, разбросанные на столе и на подоконнике, всегда забытое, перекинутое через спинку кресла платье, кружевной платок, пушистым комком белеющий на темной обшивке дивана, – все эти вещи разговаривали с ним, и порой у наго возникало желание погладить их рукой.
– Неужели они добьются своего, – думал Локшин, – распустить комитет, передать какому-то институту…
– Ты давно ждешь? – спросила Ольга, расстегивая влажную беличью шубку, – а я с площади. Павла Елисеевича видела. Обещает закончить постройку к апрелю. Как это чудесно, – восторженно продолжала она, – я до сих пор не могу поверить, что это действительность. Подумай – при таком недоверии…
– Я тоже сегодня был на площади, – неопределенно ответил Локшин.
– Ты недоволен? Тебя что-нибудь огорчило?
– Да нет… Так как-то…
– Ты знаешь, я ужасно люблю Павла Елисеевича. Подумай только – академик, мировая величина, а он целыми днями торчит на постройке, как десятник бегает по лесам, ругается с рабочими. «Хотите, говорит, Ольга Эдуардовна, удовольствие получить, – постойте-ка там, в толпе». Я говорю – ничего интересного. Ругаются…
– Ты слышала?
– Ну, конечно. А он мне знаешь что ответил: «Вы, говорит, барынька, главного не усмотрели. Не ругались бы, не толпились – было бы плохо. А теперь посмотрите, какой интерес».
– Ты думаешь, он прав? – недоверчиво спросил Локшин, – а ты знаешь, что МОСПС сегодня потребовал ликвидации общества?
– Ликвидации? – вздрогнула Ольга.
Тогда Локшину не приходило в голову, что Ольга могла иначе, чем с горечью, с недовольством, с обидой встретить это сообщение. Если бы он внимательно вслушался в ее голос, он понял бы, что в ее удивлении сказывается некоторая нарочитость.
– Ну, конечно, у них ничего не выйдет. Мы не позволим… Кстати, – переменил он тему, сам не зная почему решив не рассказывать Ольге подробностей собрания в МОСПС, – неужели ты думаешь, что Загородный прав?
– Милый, он всегда прав! Он больше, чем умница. Ты обедал? – И, не ожидая ответа, Ольга стала накрывать ид стол.
Глава шестнадцатаяОдиннадцатый номер
Улица встретила Локшина пестроголосицей суетливой толпы. И хотя на улицах было чуть люднее обычного и хотя один только раз услыхал он оброненную кем-то фразу об искусственном солнце, ему казалось, что город взбудоражен и взволнован. Ему мерещились недовольные, рассерженные лица, всюду он видел неприметного умноженного до бесконечности человека в кепке и рядом с ним вездесущего лилового старичка с брезентовым портфелем.
– Доигрались, – встретил его возбужденно фыркающий тесть, – каторжные времена устраиваете.
И, не дав Локшину раздеться, яростно схватил его за рукав пальто.
– Говорят, декрет вышел, чтобы не спать больше. Всю Россию разворовали, а теперь на них по ночам работай. Солнце строят! Это как же, по карточкам, что ли, солнце выдавать? А если я кустарь – значит живи без солнца. Или солнце по второй категории?
– Да ну тебя! – раздраженно оборвал его Локшин.
– Не любишь правды? И я-то хорош – не видал, за кого дочь отдаю. Ты что ж это. В главные пакостники у них нанялся?
– Оставьте его, панаша, – враждебно сказала Женя, – и без того тошно. Соседи проходу не дают. Вы как же, говорят, Евгения Алексеевна, рожать будете – в три смены или только в две. Муженек-то ваш давно уж на две смены живет. Комиссар!
– Комиссар! – подхватил тесть. – Все они мастера по женской части на три смены работать.
Локшин оторвался, наконец, от хватающего его за рукав тестя, взглянул на заплаканное лицо Жени и с неожиданным для себя бешенством сказал:
– А идите вы все к чёрту…
И уже не думая ни о чем, задыхаясь от внезапной злобы, резко хлопнул дверью.
– А как же вещи? – уже на лестнице вспомнил он.
Дверь была не заперта. Он вернулся, прошел, стараясь не смотреть ни на плачущую, уткнувшуюся в подушки. Женю, ни на злобно шипящего тестя, к шкафу, вытащил из груды белья несколько воротничков и носовой платок, подумал о том, что не мешало бы взять запасную рубашку, но, не найдя ее, молча вышел.
Пивная на Зубовском была открыта. Он заказал кружку пива и подавленно опустил отяжелевшие локти на покрытый шелухой гороха стол. На эстраде полный человек в потраченном молью фраке и дырявом котелке, сопровождал уморительные ужимки и прыжки рифмованной скороговоркой:
– Уважаемые товарищи и дамы, пролетарии, спецы и хамы, послушайте модные куплеты про то и про се и про это… Маэстро, прошу вас, – обратился он к сидящему за белым облысевшим пианино худощавому парнишке, с очень тонким вытянутым лицом и очень большими глазами, – маэстро, что-нибудь душещипательное…
Расстроенное пианино задрожало от разухабистого мотива, а куплетист, подбоченясь и отставив ногу, той же скороговоркой запел:
Хорошо в эсэсэсэр
Прочий, странам не в пример.
Вез штанов вся нация.
Нету чая, нету дров
Есть диефикация…
– Раков возьмите, свежие, – предложила, закатывая глаза и соблазнительно выпячивая пышный бюст, увядающая женщина в черном, истертом от времени бальном платье, с кокетливым и тоже не первой молодости круженным передником.
Локшин рассеянно взял рака, отломал клешню и оглядел продавщицу. Из-под обветшавшего подола уныло высовывались толстые ноги в густо заштопанных бумажных чулках и в стоптанных скосившихся туфлях.
– У Жени такие же толстые ноги…
И возникшее было на минуту при воспоминании о Жене чувство жалости тотчас прошло.
– Первая лотерея ОДС… Главный выигрыш – трактор. Купите билет!
В руках подошедшей к Локшину девушки с легкомысленной челкой на напудренном прыщавом лбу был картонный плакат, изображавший причудливое, напоминающее Эйфелеву башню сооружение, разрезанное с угла на угол крупной красной надписью:
– Первая лотерея ОДС.
И немного пониже и помельче:
– Человек может и должен отдыхать, машина обязана работать.
– Купите, пожалуйста, билет, – тихо, но настойчиво повторила девушка, и глаза ее увлажнились, – вы можете выиграть целый трактор…
– Хорошо, – ответил Локшин. – Я возьму и наверное выиграю. Но что я буду делать с трактором?
– Работать, – рассеянно ответила девушка, – это же выгодно…
Локшин расплатился и начал пробираться к выходу.
Человек с птичьим лицом торопливо придвинул недопитую Локшиным кружку и залпом опорожнил ее. Буфетчик угрожающе застучал посудой, затурканный официант с треском открыл последнюю бутылку и сердито сказал:
– Граждане, пивная закрыта!
– Как же так? – недовольно возразил пьяный голос, – коли работать – так всю ночь, а пивная – до часу?..
Медленно пройдя по Пречистенке, Локшин запутался в узких, спокойных и темных переулках старой дворянской Москвы, вышел на Арбат и по занесенным снегом бульварам доврался до Страстной. Матовый циферблат «Известий» показывал два часа.
– Где же ночевать? Может быть, в гостиницу?
Он ощупал в кармане сверток с воротничками и побрел по Петровке. В Столешниковом над раскрытой перед запоздавшим жильцом стеклянной дверью он увидел надпись: «Центральная гостиница».
– Номера есть? – несмело спросил он у швейцара.
– Пожалуйте к дежурному.
В пустынной конторе белесый юноша задумчиво пощелкивал костяшками.
– Вы с поезда? – недоверчиво осмотрев Локшина, спросил он.
– Да… То-есть – нет… Я…
Локшин остановился, спохватившись, что чуть было не сказал конторщику, что разошелся с женой.
– Мне нужен свободный номер.
Конторщик на этот раз уже враждебно взглянул на Локшина.
– Номеров нет.
Локшин минуту топтался у стола, потом огорченно пошел к дверям. По коридору, полураздетый, в лиловых подтяжках поверх расстегнутой ночной рубахи, быстро шагал Миловидов.
– Александр Сергеевич, вы?
– Понимаете, – сокрушенно вздохнул Локшин, – номеров нет.
– Что? Номер? Сейчас будет!
Обезьяньи руки Миловидова быстро задвигались, он с размаху швырнул ослепительный мяч в голову конторщика, тот сразу обмяк и предупредительно сказал:
– Одиннадцатый номер. Шесть с полтиной.
Глава семнадцатаяШоссе энтузиастов
– Товарищ Локшин, – говорил академик Загородный, – ведь это же невозможно. Цех отстроили, а работа стоит…
– Павел Елисеевич, вы не беспокойтесь… Ведь есть ассигновка…
– А на что мне ассигновка, если денег по ней не дают? Был в госбанке, спрашиваю, почему кредиты закрыты, – кипятился Загородный, – а они… Тут неладно, тут кто-то действует…
– Да бросьте, вам кажется…
Локшин старался говорить как можно увереннее, но уверенности в нем не было. После памятного заседания в МОСПС, которое требовало закрытия общества, после распоряжения ВСНХ, отменившего свой недавний приказ, свернув ночные смены на крупнейших заводах, после ряда мелких неприятностей и неудач, одна за другой валившихся на несчастное ОДС, Локшину казалось, что дело диефикации безнадежно проиграно. Ассигновки задерживают. Мосстрой отказывает в отпуске материалов, Русгерстрой не желает продолжать работы по постройке завода, И тут еще эта статья…
Начиная с первого выступления Локшина в Политехническом музее, пресса ни разу не выступала враждебно, и вот сегодня – первая дискредитирующая дело диефикации заметка в «Нашей Газете».
Это был отчет о заседании МОСПС. Но, начиная с заголовка и кончая выводами, анонимный автор статьи всячески старался опорочить и обвинить во всех смертных грехах и ОДС, и самого Локшина, и даже Сибирякова.
– Неужели Буглай-Бугаевский? – думал Локшин, пропуская мимо ушей настойчивые жалобы и угрозы Загородного, – та же развязность, те же хлесткие остроты, то же слишком вольное обращение с фактами…
– Конечно, газета дрянная, ее никто не читает, но…
– Александр Сергеевич, – Продолжал Загородный, – что ж это будет? А ведь я слово дал, что за год закончу. Я, Загородный, дал слово. Я и отвечать буду. Что ж это такое, гоняют, как посыльного, – из ВСНХ в госбанк, из госбанка в Малый Совнарком, а там говорят: «Мы этого вопроса не ставили». А кто виноват – общество…
– Аппарат у нас прекрасно работает, – обиделся Локшин.
– А почему у вас баланса нет? Кто виноват? А мне говорят – мы не знаем, в каком состоянии ваши дела…
Локшин в глубине души сознавал, что Загородный прав. Общество работало не так, как этого хотелось бы Локшину. Баланс действительно не был готов, Андрей Михайлович говорил вежливые фразы, Андрей Михайлович смотрел в глаза, но все-таки не мог сказать, какими средствами общество располагает. Отчеты не представлялись к сроку, докладная записка ЦК и Совету Народных Комиссаров еще не была готова. В редкие минуты просветления Локшину казалось, что в обществе не все ладно, что аппарат всячески тормозит работу. Но когда он пробовал нажимать на Лопухина, Лопухин тремя-четырьмя вежливыми фразами, фразами чрезвычайно точными и обязывающими, заставлял его успокоиться.
– Нет, как хотите, а я откажусь, – окончательно выведенный из себя, говорил Загородный. – Нет, я дальше так не могу работать.
Локшин хотел сказать, что такой способ борьбы неприемлем, что положение общества не безнадежно, что оно должно работать, несмотря на сопротивление и травлю, но Лопухин, как всегда выраставший перед ним в самые неожиданные минуты, остановил его:
– Александр Сергеевич, вам сегодня в Кремль. Осталось пятнадцать минут…
– А списочек-то, списочек, – заторопился Загородный, – не забудьте… Здесь все, что нам требуется на первых порах…
Списочек этот занимал обе стороны большого листа и требовал по крайней мере двух часов для полного усвоения. Не желая обидеть академика, Локшин попытался прочесть несколько первых строк, посмотрел на часы и, вдруг вскочив, плачущим голосом сказал:
– Павел Елисеевич, судьба решается…
И, наскоро пожав руку профессору, готов был выскочить из комнаты.
– Александр Сергеевич, вас спрашивают… Кажется, бывшая жена…
– Бывшая жена, – повторил Паша зловещим шёпотом, жутко отчеканивая каждое слово так, чтобы слово это пронеслось по всему ОДС.
После разрыва Женя мучила Локшина телефонными звонками, письмами, наполненными истерическими жалобами и упреками, а в последнее время частыми посещениями общества.
– Скажите, Паша, что я сейчас выйду… Сейчас…
У Жени были красные от слез глаза и некрасивое истощенное лицо.
– Господи, – страдальчески сказал он, – чего ты от меня хочешь…
– Ничего… Возьми назад твои деньги. Со злобной решимостью Женя раскрыла ридикюль и бросила пачку кредиток, только сегодня утром посланных ей Локшиным. – На, возьми. Мне не нужны твои подачки…
– Тише, тише, – уговаривал ее, Локшин, – ведь услышат…
– Тебе стыдно? Любовница твоя здесь – перед ней стыдно, – неистовствовала Женя, нарочно выкрикивая отдельные слова, так что голос ее мог слышать не только вездесущий Паша, от которого ничего нельзя было скрыть но и Загородный, и Лопухин, и машинистки.
– Небось, когда нищенствовали, ни одной около тебя не было. Троих детей выходила, а теперь…
– Александр Сергеевич, вас к телефону.
Локшин был рад, что этот случайный звонок может прервать начавшийся очередной скандал. «Все против, – думал он, – и МОСПС, и ВСНХ, и Госбанк, – все травят его. И еще Женя. Женя, которая провела с ним столько лет…»
И снова бредовым призраком возник старикашка с брезентовым портфелем и наеденными временем, поросшими редкой седой щетиной лиловыми щеками… Все с ним – все против меня…
Звонил Сибиряков.
– Ты не забыл о Кремле? Пора!
– Константин Степанович, но почему я. Тебе было бы удобнее…
– Ничего, приучайся, – раздалось в телефонной трубке.
– Константин Степанович… Дядя Костя… Но Сибиряков уже повесил трубку. Локшин вышел в приемную. Женя, не дождавшись его, или уже успокоившись, ушла. С улицы настойчиво подавал сигналы автомобиль.
– А что, если Женя увидела Ольгу? Ведь Ольга ждет у автомобиля…
Тогда Локшин не понимал, зачем понадобилось Ольге сопровождать его в эту поездку. Он привык к ее неожиданным желаниям. То она во что бы то ни стало хотела вместе с ним поехать в Люберцы, то ей хотелось почему-то прийти в комитет и по целым часам рыться в бумагах: если бы Локшин знал тогда, что это – не просто капризы избалованной барыньки, если бы он знал, что это все делается по проверенному до мельчайших подробностей плану, по прямым приказаниям из-за границы, приказаниям, доставляемым тщательно законспирированными людьми на лоскутках материи, на вшитых под тонкую подкладку шифровках…
Ольга хотела его сопровождать – и он был благодарен ей и благодарно целовал ее руки.
Автомобиль остановился у приземистой башни, теперь, как и три века назад, охраняющей вход на мост через несуществующую уже речку Неглинную. Локшин на ходу спрыгнул на землю, подбежал к окошечку дежурного коменданта и назвал себя. Его ждал заранее приготовленный пропуск.
Знакомый до мелочей по фотографиям, несмотря на громадные постройки казавшийся игрушечным, Кремль развернулся перед его рассеянным взглядом. Странным показался контраст: покорно отливающий синеватым блеском снег на грузном, веками отлеживающемся колоколе, игрушечная распухшая пушка и рядом, тут за стеной, строящаяся, разворачивающаяся Москва. По ту сторону – тяжелые автобусы сотрясают асфальтовые мостовые, по ту сторону – стрелы экскаваторов вздергивают гигантские ковши, выплевывая зачерпнутый утрамбованный неведомыми костями суглинок, по ту сторону уже воплощается, лихорадочная мечта о ночи, превращеной в ослепительный день.
По эту сторону – безмолвные переулки времен Олеария, призраки сторожевых, ощетинившихся псов, узорчатые стены дворцов, неуклюжие башни, золотые луковицы церквей и казалось, вот-вот разбойные опричники пронесут мимо него с ночной баррикады безвестное тело неосторожного путника.
Локшин прошел заснеженным двором, обогнул угол огромного здания, поднялся по лестнице, миновал длинный низкий коридор и очутился у цели.
Человек, лицо которого он знал по бесчисленным портретам, и который был не похож ни на один из этих портретов, ибо самого главного, основного – неумолимой, нечеловеческой воли не передавал ни один портрет, не торопясь выслушал Локшина, задал ему несколько неожиданных вопросов, заставил повторить некоторые, не вполне ясные ответы и сказал:
– Я проведу этот вопрос через Совнарком. Я думаю, все будет сделано до осени.
Локшину странно было, что, разговаривая с этим человеком, он чувствует себя непринужденно и просто.
– Значит, мы можем рассчитывать на благоприятное решение? Этот вопрос не может быть отложен? – совершенно так, как если бы он говорил у себя в совете ОДС, спросил, поднимаясь, Локшин.
– Работайте, мариновать не будем.
Локшин пожал протянутую ему руку, поспешно миновал коридор, перешел через мост и тут только понял, что правительственный комитет по диефикации из мечтаний становится реальностью, что с этого часа можно говорить о бессонной, взметенной победной музыкой непрерывно действующих станков Москве, можно говорить о Москве будущего, как о Москве настоящего.
Он думал, что Ольга спросит его о подробностях свидания, но она не проронила ни звука. Только рука ее, теплая и нежная, нашла его руку, и это рукопожатие сказало ему, что Ольга, не расспрашивая, знает все.
Автомобиль пронесся мимо манежа, взлетел на Красную площадь, запутался, в снежных сугробах набережной, перемахнул Устинский мост и свернул на Таганскую площадь.
– К новостройке? – спросил шофер, показывая через окошечко облепленное снегом лицо.
Снежный буран внезапно обрушился на брезентовый кузов и сталактитами повис на усах шофера. Автомобиль ехал теперь по прямому и ровному шоссе Энтузиастов. Именно на нем шли те строительные работы, из-за которых академик Загородный чуть не заставил Локшина опоздать в Кремль.
Стройка шла в пяти километрах от завода Русскабель. Еще недавно безрадостный, кое-где застроенный засыпушками и бараками, пустырь ныне чернел от лесов. Жилищная кооперация возводила на этой далекой окраине целые кварталы семиэтажных стандартных домов. Строились не только дома, но и универмаги, и бани с бассейнами для плавания, амбулатории, ясли и клубы.
– Ольга, – наконец вышел из радостного оцепенения Локшин, – ты знаешь, мы едем по шоссе Энтузиастов.
– Какое изумительное название, – ответила Ольга. – Как странно, что завод «Вите-гляс» строится именно на этом шоссе…
Локшин приподнялся в автомобиле и поглядел на оставшуюся позади Москву. Вся в бесчисленных церквах, занесенная снегом внезапной вьюги, она темнела вдали.
– Москва, – сказал Локшин. – Шоссе Энтузиастов, – повторил он. – Да, да, – обрадовался он, наконец, найдя давно уже мучивший его образ. – Из города Кремля она сделается городом энтузиастов!..








