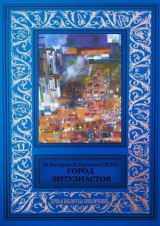
Текст книги "Город энтузиастов (сборник)"
Автор книги: Илья Кремлев
Соавторы: Михаил Козырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Часть третья
XVIIЗдесь будет город заложен
А. Пушкин.
Еще на покрытых прошлогодним бурьяном ложбинах Чортова Займища кое-где белел снег, еще высокая вода стояла на реке после весеннего половодья, еще вязли ноги в сероватой глинистой почве, на которой через полгода должен был расположиться городок, еще нетронутыми стояли огромные кучи камня и щебня, еще топор не прикасался к дереву, высокими штабелями выстроившемуся на пустыре, – а уже и снег и сероватую глину месили тяжелые сапоги первой партии строителей. Там и тут стояли трехногие аппараты землемеров, рабочие с влачившимися по земле цепями перекликались из конца в конец, отмечая свежеобтесанными колышками границы будущих улиц, переулков и площадей, плотники сооружали на берегу реки барак из горбылей и легкого теса, у барака дымился костер, ближе к шоссе в наскоро сколоченной конторе знакомый нам Палладий Ефимович Мышь, жестоко волнуясь и покрикивая тоненьким голоском, принимал от поставщиков новые и новые партии строительного материала, а по шоссе, тянулись подводы, груженые серыми бочками цемента, бревнами, подвязником, накатником, жердями, лежнями, брусьями и досками и красным кое-где до черноты пережаренным кирпичом.
По буграм и ложбинам в высоких охотничьих сапогах бродят знакомые нам фигуры: одна большая, с маленькой головой в потрёпанном коротком, словно бы с чужого плеча пальтишке; другая невысокая и сохранившая в одежде некоторую щеголеватость, несмотря на грязь, облепившую и скроенное по последнему модному фасону пальто и высокие охотничьи сапоги. Это – заведующий производственным отделом Галактион Анемподистович Иванов и директор постройки – Юрий Степанович Бобров.
Юрий Степанович горячо объясняет что-то архитектору, архитектор скупо роняет слова, стараясь соединить разговор с какой-либо реальной работой: то пробует сапогом влажную почву, то оглядывает углубление, наполненное вешней водой, то вынимает план и делает на нем необходимые ему отметки.
Остановились они неподалеку от реки, где она резко изгибается вправо.
– Вот здесь, – сказал архитектор – видите – будущий райисполком…
Только воображение строителя могло увидеть здесь будущую площадь и здание: непосвященный зритель видел только одно, что здесь больше, чем в других местах, наследили тяжелые сапоги, да здесь больше, чем в других местах, вешек и свежеотточенных колышков.
– Смотрите – тут один угол здания, тут другой. Фасад выходит к реке. Тут площадь, тут разобьем сквер…
– А где поставим трибуну?
– Строят уже – смотрите.
Неподалеку двое рабочих сооружали временные подмостки. Увидев архитектора, они бросили работу и подошли поближе.
– Вот это – первый камень нашей постройки, – указал архитектор на большой необтесанный валун.
– Приготовить что ли? – спросил один из рабочих. – Мы уж тут пробовали…
Неподалеку от камня был снят верхний слой почвы и обнажена сероватая глина. Архитектор носком сапога попробовал глину, что-то прошептал про себя и ответил:
– Начинайте. Без репетиции не обойдешься, – улыбаясь, сказал он Боброву.
Бобров согласился.
– Конечно, нельзя.
Лопаты врезались в глину и отломили каждая по блестящему, влажному ломтю. Обе лопаты одновременно приподнялись, и глина, слегка хлюпнув, примяла побуревшую прошлогоднюю траву.
– Давай еще.
Через две-три минуты была вырыта довольно глубокая яма. Архитектор опять пощупал дно кончиком сапога и распорядился:
– Еще на полфута!
Опять лопаты врезались в мягкую блестящую землю и тотчас же остановились.
– Вода.
Рабочие, как по команде, подняли лопаты и примяли глину. Из-под лопаты сочилась тоненькая струйка воды.
– На ключ попали.
Оба в недоумении остановились над ямой.
Архитектор, что-то нашептывая про себя и соображая, остановился в раздумьи. Бобров тревожно смотрел на него.
– Лом у вас есть? Попробуйте.
Брошенный со всего размаха лом легко врезался в мягкую почву. Вода забила сильнее и скоро наполнила яму.
– Что такое? Что случилось? – встревожился Бобров.
– Подземные воды, – спокойно ответил архитектор. – Этого надо было ожидать. Придется потом подумать, что с ними делать. А пока…
Он отошел шага на два – и опять быстро заработали лопаты, отбрасывая на траву мягкие и блестящие ломти сероватой глины. Почва становилась все влажнее и влажнее.
– Не надо. Зарыть. Начинайте с другого угла.
– А камень как же?
– Камень придется перенести. Эка беда!
Рабочие нехотя направились к колышку, отмечавшему противоположный угол будущего здания.
– Не все ли равно, куда мы первый камень положим, – ведь верно? – стараясь казаться веселым, спрашивал архитектор. Бобров молчал. Опять начали работать лопаты.
– Здесь хорошо. Дело обстоит не так страшно… К завтрашнему дню камень должен быть там. Яму засыпать, воду предварительно выкачать.
Строители последовали дальше. Они не слыхали, как позади них шёпотом разговаривали рабочие.
– На воде хотят строить, – сказал один.
– Им виднее… Наше дело исполнять, коли приказывают.
– Тоже еще камень переноси, – опять проворчал первый. – Нас не в каменщики, небось, нанимали… А этот кто же с архитектором важный такой… Форменный комиссар. Видно, ни хрена не понимает…
– Не твое дело, что велят, то и исполняй!
Наши герои не слыхали этого разговора, – и хорошо. Разве уменье управлять людьми не заключается в том, чтобы не слышать, чего не надо слышать, не видеть, чего не надо видеть, а в особенности не говорить о том, о чем можно и не говорить.
– Ну что ж, Юрий Степаныч, строим? Теперь уж назад не повернешь.
– Строим, – хмуро ответил Бобров.
– А чего ж не радуетесь-то? Радоваться надо.
– А вы радуетесь? – в упор поставил вопрос Юрий Степанович.
– А что ж мне еще делать? Понятно, что радуюсь. Только и беспокоюсь немножко. Не уплыл бы наш городок в речку. Что? Как по-вашему? Не уплывет?
Архитектор скрестил руки на груди и ждал ответа.
– Неужели есть опасность?
– Не страшно – я ведь, что называется, образно выражаюсь. Где-то тут – он придавил сапогом вязкую серую глину – под землей речка течет. А где она – без подробного исследования не установишь. Бурение надо произвести… Ведь это все от нас же самих зависит. Захотим – уплывет, не захотим – все сойдет благополучно. Питер ведь весь на воде стоит, и ничего – держится. Только если уж по правде говорить – надо бы другое местечко выбрать – повыше туда, посуше…
– Я думаю, что и здесь не плохо.
– А это уж как хотите.
Боброву представилось, что вот опять поставят вопрос об изменении проекта – опять комиссия рассмотрит и утвердит новый проект, опять пошлют запрос, опять изменят, может быть, опять назначат комиссию…
Подобные же мысли были и у архитектора.
– Справимся как-нибудь-подумаем. Это не штука на хорошем месте строить – ты на плохом так построй, чтобы хорошо было. Много ли у нас городов на хороших-то местах стоят? Ничего, вывезем…
Официальная закладка состоялась в назначенный день. Рабочие со знаменами, комсомол, пионеры, красноармейцы с оркестром музыки расположились полукругом на будущей площади. На трибуну один за другим выходили ораторы с праздничными речами о первом камне социалистического строительства, о тех трудностях, которые преодолены и которые еще нужно преодолеть.
Бобров стоял у трибуны. Рядом с ним, кутаясь в соболий палантин и как бы нечаянно крепко прижавшись к нему, стояла Муся. Изредка она поворачивала к нему голову и улыбалась радостной и многообещающей улыбкой. Он не слушал речей, не слушал поздравлений, наполненный радостью торжественной обстановки, радостью начала дела и, может быть, больше всего теми явными признаками внимания, которые оказывает ему Муся. Пусть в последнее время встречи их стали более редкими, пусть она иногда в самые нежные и счастливые минуты их встреч обдает его холодом, но – казалось ему – она только и ждет от него тех слов, которые когда-то сама не дала сказать. Он был уверен, что победа над нею зависит только от него, что он сам выжидает первого слова, радовался твердости своего характера и втайне мучился.
– Пусть она первая…
К трибуне протискался мужичек, низкорослый, с серой бородой и лукавыми карими глазками. Мужичек топтался около трибуны, стараясь обратить на себя внимание Боброва – Бобров не замечал его. Мужичек громко кашлянул.
– Да это Михалок, кажется.
– Наше вам, здравствуйте, – обрадовался Михалок. – Вот и я приехал, только-что с вашим архитектором говорил. Наша слуховщина вся тут.
– Вот и прекрасно.
– Мне-то прекрасно, – возразил Михалок, мое дело маленькое. Только… Не знаю, как вам и сказать…
– Что такое?
– Я говорю – великое дело затеяли, большое. Это ораторы очень хорошо говорят. Сколько народу вас благодарить потом будут.
Бобров видел, что Михалок собирался сказать не об этом.
– Знаю, что не плохое, – ответил он.
– Только вот место-то выбрали… Эх!
– Место обыкновенное.
– Какое ж обыкновенное-то? Чортово Займище. Слава-то какая! Нечистое это место, вот что. Я уж и архитектору говорил.
– Вычистим, – отшутился Бобров.
– То-то же, что вычистим. Вы бы не смеялись над мужиком. Тут уж строились прежде, да ничего не выходило. Не стоять здесь городу!
– Вы бы архитектору сказали, – это по его части.
– Говорил. Только он чудной больно. Ты, говорит, знай строй, а там время все за тебя достроит. Правда, что время все правит.
– А вы бы не каркали, – остановил его Бобров.
Михалок сконфузился и исчез в толпе.
– Кто это? – спросила Муся.
– Так называемый Михалок. Со Слуховщины – вроде колдуна, что ли.
– Так у нас есть и колдуны, – обрадовалась Муся. – Как это мило. Сегодня ты у меня будешь? – спросила она и еще крепче прижалась к нему своей шубкой.
А на трибуну один за другим поднимались ораторы и все говорили и говорили… Следствие ли это векового молчания, следствие ли это вечно жившей, но не вырывавшейся наружу нашей потребности, следствие ли необходимости упорно просвещать наш покамест еще достаточно темный народ, но, несомненно, одно, что с первых же дней революции обрушилась на нас вместе с революционной стихией – стихия словоговорения. Разлившись по необъятным просторам, стихия эта захлестнула буквально всех – говорили на митингах, говорили на улицах и площадях, говорили в вагонах, говорили дома за обеденным столом, везде и всюду оказались свои Мирабэ, расточавшие и весьма обильно ораторские таланты. Но постепенно, вместе с организацией революционных сил, организовывалась и ораторская стихия: теперь говорят не все и не всегда, а только специально назначенные к тому лица и в специальные дни и часы.
А зато в эти специальные дни и часы, когда разрешено развязать языки, стихия полностью берет свое, стремясь наверстать потерянное время – и нет меры ораторскому потоку, и нет конца речам, и нет конца выступлениям…
Уже колонны собравшихся на торжество поредели, уже уехал товарищ Лукьянов, а вместе с ним и Муся, а поток красноречия, как бы подтверждая опасения архитектора и Михалка, стремился затопить Чортово Займище и новый, еще пока не построенный, город, все его будущие улицы и переулки и рабочих, собравшихся посмотреть место своего будущего жительства. Толпы и колонны редели, только знаменосцы не решались бросить свои стяги, да скованные дисциплиной отряды красноармейцев поддерживали приходящие в дезорганизацию ряды: надо ведь и то принять во внимание, что если у нас все любят говорить, то никто уж не любит слушать.
И поэтому пусть не покажется странным, что даже виновник, казалось бы, торжества не выдержал ораторского потока.
Юрий Степанович потихоньку, чтобы это не заметно было другим, сошел с возвышения, сделал два-три стратегических обхода и, оказавшись вне поля зрения товарища Метчикова, которому было передано председательское место, направился к шоссе, где его ждал автомобиль.
* * *
Вечером он был у Муси. Она сама открыла дверь и при этом сказала, как бы оправдываясь:
– Сегодня праздник – никого нет.
Но улыбнулась так таинственно и вместе с тем так лукаво и почему-то – это бросилось в глаза Юрию Степановичу – была в том самом белом платье, которое было на ней почти год тому назад при первой их встрече.
В квартире был полумрак, лампа, накрытая тёмнокрасным абажуром, создавала освещение, при котором можно было лишь слабо различать очертания предметов – зато белое платье тем более выделялось и, где бы ни была Муся, оно бросалось в глаза. И что еще более усиливало впечатление необычности – она говорила шёпотом, словно самая встреча была тайной и кто-то невидимый за стеной мог их подслушать.
Она вспоминала.
– Помнишь, когда ты пришел ко мне в первый раз. Ведь ты боялся меня, не правда ли? А теперь ты такой важный, а я рядом с тобой маленькая, маленькая…
Она изобразила, какая она маленькая, и ее платье нечаянно прикоснулось к нему.
– Ты очень много сделала для меня, – возразил Юрий – я перед тобой в долгу.
– Старые долги, – лукаво погрозила она – когда-нибудь придется расплачиваться… Помни!
– Я всегда буду твоим должником.
– Всегда? – с неожиданной страстностью повторила она – ты говоришь – всегда?
Этому «всегда» она тоже придала таинственный смысл.
– Да, всегда, – шёпотом ответил он, и, как когда-то, опять положил руку на спинку дивана, чтобы она, не прикасаясь, обнимала ее плечи. Но на этот раз Муся не отстранилась и продолжала начатый разговор, бессмысленный для других и в то же время полный для них обоих глубокого и тайного смысла.
– А ты думал тогда… давно, давно, когда маленьким мальчиком и девочкой мы сидели на скамейке в саду, такие глупые, что ты будешь моим… должником? Почему ты перестал со мной встречаться? Как я тогда плакала…
Боброву было стыдно сознаться, почему. Он чувствовал, что Муся сама отлично понимает это и только нарочно хочет увеличить список его долгов.
– Зато теперь… – ответил он, – и не окончил фразы. Рука, лежавшая на спинке дивана, словно нечаянно опустилась на ее плечи, она вздрогнула, но как-будто не заметила ничего и продолжала тот же бессмысленный разговор.
– Теперь мы большие… и не такие…
Он в этот момент привлек ее легким и незаметным движением ближе к себе. Она не сопротивлялась.
– И не такие… глупые, – докончила она фразу и рассмеялась сухим взрывчатым смехом, таким тихим, что его мог слышать только он.
– Ну что еще? Что? – проговорила она – и он видел совсем близко сделавшиеся большими и глубокими глаза.
Она была в его руках – горячая, легкая и почему-то очень большая. Он дрожал – губы шептали что-то невнятное и, может быть, смешное, потому что в ушах стоял тихий сухой взрывчатый смех.
И как раз в эту минуту продребезжал звонок – требовательный, настойчивый, властный. Почему именно в эту минуту, спросите вы. Трудно объяснить, почему. Но этот неумолимый звонок, когда вы одни во всей квартире с любимой и любящей, может быть, женщиной, когда вы наполнены только ею и знать ничего не хотите, что делается за четырьмя стенами – он всегда раздается именно в эту минуту, не являясь ли простым напоминанием о том мире, про который забыли вы, о той жизни, что бьется и неумолимо и дребезжащее требует там – за стеной.
Муся спокойно встала, прошла в прихожую, оправляя на ходу чуть-чуть помятое платье, спокойно открыла дверь. В дверь просунулась широкая борода товарища Ерофеева.
– Я кажется первым пришел… Извините, только по чрезмерной аккуратности… Товарищ Лукьянов тоже сейчас будет, я только-что от него. А вот видите – и не первым, – обрадовался он, заметив Юрия Степановича – Где ж нам старикам за молодежью…
– Юрий Степанович минут десять как здесь, – сказала Муся, – остальные, по обыкновению запаздывают.
XVIIIПридется некогда изведать и тебе
Любви безумство роковое.
Е. Баратынский.
Каждое наше общественное празднество имеет, как известно, две части – одну официальную, с речами, митингами, выступлениями – и другую неофициальную – без митинга, без выступлений, но тоже с речами, а главное – с некоторым количеством спиртных напитков. Ужин у Муси, устроенный сюрпризом для Юрий Степановича, был именно неофициальной частью торжества закладки рабочего поселка.
Вслед за Ерофеевым пришел Лукьянов и, увидев Боброву, подошел к нему той размашистой походкой, которой подходят только к близким приятелям и друзьям, и, ударив его по ладони, сказал:
– Поздравляю. А ведь ты – молодец.
– Что ж я, – в тон ему ответил Бобров, – мы тут все одинаково поработали.
– Ну, а все-таки, если бы не ты… Только смотри – напоследок не подкачай. Мне ведь за всем следить некогда – на тебя полагаюсь.
– Поможешь, так не подкачаем, – ответил Бобров, первый раз за все время подхватывая «ты», чтобы тец более укрепить дружеские отношения с главой губернии.
Пришли еще старые наши знакомые – Ратцель угловато, но уверенно, как физическое тело, преодолевающее сопротивление среды, продвинулся к хозяйке и поцеловал ее руку; Метчиков, чувствовавший в присутствии Муси некоторую неловкость и тотчас же спрятавшийся в угол; архитектор, одевшийся, вероятно, для оригинальности, в синюю косоворотку и высокие сапоги.
– Давно о вас наслышан, – сказал он Мусе, – оглядывая всю ее с ног до головы очень внимательным взглядом. Муся невольно опустила глаза:
– И я вас тоже очень хорошо знаю, хоть мы и незнакомы. Юрий Степанович не раз говорил.
– Ругал, наверное? Вздорный, отсталый старик? А вы недурненько живете, право, недурненько, – вслух выразил он свои впечатления от обстановки и расселся в одном из кресел, подняв вверх бороду и улыбаясь, похожий на большого лукавого мурлычащего кота.
Пришли еще какие-то молодые люди, пришли люди и немолодые, но нам незнакомые и не стоящие того, чтобы с ними сейчас знакомить, пришел безусый паж, некогда провожавший Мусю в ее путешествиях, – словом, пришли все те, кто так или иначе принимал участие в подготовке торжества, и их ближайшие знакомые. Последним прилетел Алафертов, франтоватый, улыбающийся, показывающий крупные белые зубы. На правах старого знакомого он говорил Мусе «ты» и старался держаться поближе к Лукьянову, вероятно, для того, чтобы тот раз навсегда запомнил его улыбающуюся физиономию.
Когда гости основательно познакомились со вкусом стоявших на столе явств и питий, при чем отдавали перед всеми другими напитками явное предпочтение отечественной горькой, вспомнили и о том, ради чего собрались. Товарищ Лукьянов произнес нечто вроде тоста.
– Товарищи, – сказал он – мы должны почтить виновника торжества нашего уважаемого, – он наклонился в сторону Боброва. – Когда он в первый раз пришел ко мне со своим проектом, я, признаться, подумал – Сволочь какая-нибудь, сорвать хочет – уж ты извини меня, Бобров, из песни слова не выкинешь. А потом вижу…
– Когда же это он увидел-то-а? – шепнул через стол архитектор.
– А потом вижу – парень настоящий, увлекается. Я и сам увлекся: так уж это все замечательно вышло. Выпьем за товарища Боброва, за инициативу, за революционное строительство.
Все смотрели на Боброва. Муся улыбалась ему многообещающей улыбкой, архитектор подмигивал – «Скажи! Ну-ка-скажи».
Бобров сумел ответить так, что, не умаляя своей роли, поставил на первый план заслуги Лукьянова – при чем тот не смог скрыть торжествующей улыбки.
– А впрочем, – закончил он – никто из нас, товарищи, не может присвоить себе этой чести. Нас выдвинули и нам поручили дело и нас толкали они – настоящие хозяева нашей жизни. За строителей социализма – за пролетариат.
Дальше, как водится, говорили все и обо всех, не забыли даже об Алафертове и скромном Метчикове, которые имели если не такие очевидные, то все же и неоспоримые заслуги. Муся во время ужина заботилась о том, чтобы никто не был обойден ее вниманием, как хозяйки дома. Она поговорила и с Ратцелем, и с архитектором, и даже с Ерофеевым, который, подвыпив, не прочь был подурачиться и несколько раз пытался обнять ее, но она каждый раз умела ускользнуть от объятий. Бобров следил за Мусей и чувствовал, что все улыбки, все слова, с которыми она обращается к другим, принадлежат только ему одному, как ему одному принадлежит ее белое платье и открытые этим платьем плечи и несколько полные белые руки. Она старалась сама поддержать в нем это чувство, то и дело взглядывая на него через плечи других с особенной многообещающей улыбкой.
После ужина начались неофициальные разговоры. Лукьянов громко рассказывал о своих военных подвигах и удивительных случаях фронтовой и революционной жизни. Ерофеев – о своих похождениях в молодости, когда ему вздумалось почудить и он ушел из богатого родительского дома бурлачить на Волгу. Ратцель – о каких-то планах, которые позволят безошибочно предусматривать самые неожиданные конъектуры. Архитектор в углу уламывал Метчикова, стараясь, вероятно, внушить ему одну из своих теорий, которыми он так любил удивлять свежих людей и которым сам никогда не следовал в жизни.
Ерофеев подошел к Боброву и сказал:
– А ведь все-таки сознайся, что авантюра.
– Что авантюра?
– А вот все это ваше дельце, а? Ведь это вы Плешки ну слободу спалили.
Бобров отшатнулся и удивленно посмотрел на бородача.
– И не стыдно вам.
– Что ты, что ты. Я ведь сам это люблю. Размах-то какой. Широта! А ведь я тоже, признаться, сначала подумывал, что ты просто сорвать хочешь. А ты ведь строишь. Молодец!
* * *
Весь последовавший за закладкой городка день Юрий Степанович только и жил одной мыслью – как можно скорее, сейчас, немедленно видеть Мусю. Может быть, вам это покажется невероятным, но директор грандиозной постройки, автор необыкновенного по смелости проекта, в тот самый день, когда осуществление началось, когда он получил возможность вдоволь насытить и чувство тщеславия и чувство власти, которые глубоко коренятся в существе каждого человека, а такого человека, как Бобров, коренятся в особенности глубоко, следил больше за стрелками своих часов, чем за работой вверенного ему и гораздо более сложного, чем часы, аппарата.
Но напрасно следил он за стрелками – аппарат постройки так крепко взял нашего героя, включив его в размеренно быстрый ход свой, что даже движение стрелки часов вовсе не приблизило для него минуту долго ожидаемого им свидания. Надо сказать, что Юрий Степанович в этом аппарате играл ту же роль, что стрелка в часовом механизме, а именно – был наиболее видной и в то же время наиболее подчиненной частью. Он должен был находиться в движении до тех пор, пока будто бы подвластный ему аппарат не прекращал своего движения.
Контора постройки помещалась теперь не в квартирке из двух небольших комнат, а временно заняла здание городского театра, закрытого на летний сезон. В зрительном зале, в ложах, на галерке и в амфитеатре стрекотали машинки, выстукивая ведомости, сметы, проекты, отчеты и счета, толпились пришедшие наниматься строители – плотники, каменщики, маляры, поставщики и подрядчики осаждали кабинет Юрия Степановича, соблазняя его выгоднейшими предложениями, конторщики и делопроизводители и счетоводы стремились здесь же найти применение своим силам и тоже осаждали кабинет Юрия Степановича – и, наконец, безвестные изобретатели тут надеялись получить возможность осуществить кажущиеся им такими необыкновенными изобретения.
Совершенно напрасно некоторые из наших сограждан обвиняют нас в отсутствии духа изобретательности и инициативы: в чем другом – в изобретателях у нас никогда не было недостатка. Стоило только первому плотнику ударить топором по бревну, и вот уже несколько человек принесли изобретенные ими топоры, которые, по словам изобретателей, могут работать без всякой затраты сил, единственно с помощью остроумия заложенной в них идеи. Стоило только первому землекопу появиться на территории рабочего городка – и вот уже десяток механических лопат ждут признания и применения в жизни. А проекты замены дерева соломой и глиной, а комбинированная мебель, объединяющая в одно очень громоздкое и неудобное целое и кровать, и стол, и керосиновую кухню. А сколько еще таких изобретений и проектов, о самой возможности которых трудно и додуматься – самодвижущаяся повозка, оказывающаяся обыкновенным, по очень первобытной конструкции велосипедом, самогонный аппарат, который, но словам изобретателя, может заменить в иных случаях более дорогостоящие двигатели, и, наконец, взрывчатое вещество, которое можно приготовить по идее изобретателя из угля и двух других предметов, продающихся без особого разрешения в каждой аптеке губмедторга.
Все хотели помочь такому необыкновенному делу, как постройка рабочего городка, все хотели приложить, а при случае и погреть свои руки около этого необыкновенного и симпатичного дела, используя все доступные им средства – и страсть руководителя ко всему новому, и его преклонение перед наукой, и лозунг «лицом к деревне», и пролетарское происхождение, и инвалидность как физическую, так равно и духовную.
Юрий Степанович должен был разбираться в качествах людей и их предложений, в ценности принадлежавших им проектов, должен был, чтобы окончательно не потерять свою репутацию, каждого принять, с каждым поговорить, каждого обнадежить.
А как откажешь в приеме тем многочисленным лицам, которые приходили с письмами, записками и записочками от всех и тоже многочисленных лиц, которые так или иначе содействовали постройке. Подрядчики от товарища Ерофеева, за которых тот ручался, бухгалтера и статистики от товарища Ратцеля, молодые люди от профсоюза и комсомола, более или менее ответственные товарищи, направляемые на постройку губкомом – и барышни, наконец, направляемые отовсюду и ото всех. Эта разнообразная толпа отняла у Юрия Степановича весь день и захватила даже часть вечера, а там настоящие дела – разговор с архитектором о постройке, с Метчиковым об условиях найма рабочих и о жилищах для нанятых на работу строителей.
Только часам к семи Юрий Степанович чувствовал себя свободным от дел. Первым его движением было взяться за телефонную трубку.
– Марья Николаевна дома?
– Они с утра ушедчи. Кто спрашивает?
– Когда же она будет?
– Ничего не сказали.
Этого Юрий Степанович не ожидал.
Ему казалось, что и она должна весь день думать только о нем, ждать его, следить за стрелкой часов с таким же напряжением, с каким следил он – и вдруг ее с утра нет дома.
Только в десять часов звонок и слабый голос Муси.
– Мне нездоровится. Если вам не будет скучно с больной – приходите.
Радость Юрия Степановича была так велика, что он не заметил даже столь очевидных противоречий в двух показаниях одного и того же телефона: ему нужно было видеть ее. То чувство, которое она так недвусмысленно проявила вчера, – не исчезло ли оно: вот какая мысль тревожит всегда влюбленных. Странно применять этот эпитет к Юрию Степановичу, – но каким другим именем назовем его после всего, что о нем сказали?
Была ли в тот вечер Муся больна, или болезнь была только одним из многочисленных капризов ее – но только Муся действительно лежала в постели. На белой подушке в художественном беспорядке разбросаны золотые волосы, белое кружево рубашки, сквозь которую просвечивает грудь, обнаженные руки, будто бы в бессилии упавшие на одеяло – все это делало Мусю такой желанной и такой привлекательной.
– Дайте мне воды, – потребовала она. – Поправьте подушку.
Он дал ей воды, поправил пахнущую духами теплую подушку. Она без устали болтала о вчерашнем вечере, смеялась, а потом вдруг как бы вспоминала о болезни, и лицо ее принимало усталое, страдальческое выражение.
– А этот ваш архитектор – я и не думала, что он такой… В синей рубахе, с бородой…
– Для оригинальности. Хочет быть интересным, – ответил Бобров, почувствовав за словами Муси нескрываемое любопытство к личности архитектора.
– Нет, он и верно ни на кого не похож. Сидит и мурлычет, как кот. А говорит сладенько, сладенько, словно… целует.
Муся засмеялась сухим взрывчатым смехом, показывающим особенное ее возбуждение. Этот смех показался Боброву неприятным, – как ни странно, он начинал ревновать Мусю к архитектору.
– Что же – он незаурядный человек, – ответил Бобров, – только слишком много притворяется, говорит всякие глупости и заставляет им верить.
– Что ты – глупости. Он умные вещи говорил. Знаешь о чем он вчера говорил? О любви…
Бобров тревожно взглянул на Мусю.
– Что ж тут удивительного? Говорил. Собственно не о любви даже, а о вине. Вино, говорит, как и любовь… маленькими глотками пить надо…
Муся опять засмеялась. Тревожное настроение нарастало и нарастало. Бобров попытался поближе подвинуть стул, чтобы касаться кровати, и даже положил руку на одеяло, чтобы незаметно прикоснуться к Мусе – но Муся заметила это и отняла его руку. Не было сказано ни слова – но Бобров чувствовал, что сегодня он неизмеримо дальше от Муси, чем вчера, и что сегодня она неизмеримо желаннее, чем вчера. Кто виноват в этом? Он сам? Архитектор?
* * *
Большое дело, как и большую тяжесть, трудно лишь сдвинуть с места, но зато, раз приведенное в движение, оно идет силой инерции, разрушая все препятствия, стоящие на пути. Но зато маленькое дело, которое так легко начать, тем больше и больше затруднений представляет в дальнейшем своем движении. Оно постоянно тревожит, постоянно волнует, требует постоянных забот и усилий. Такое маленькое и неважное и вдобавок личного характера дело стало отнимать у Боброва больше усилий, чем огромное дело постройки рабочего городка.
– Сказать ей все сразу, – и конец, – думал он возвращаясь домой: – Что же это на самом деле – она играть со мной вздумала.
Но такое, казалось бы, простое задание – прямо сказать, прямо спросить и получить ответ – оказалось невыполнимым. Она не понимала намеков, она не понимала даже прямых вопросов. Началась длинная и мучительная борьба, полная неожиданностей, волнений и тревог, о которых прежде герой наш не мог и догадываться. Казалось, что с ним повторяется один из забытых детских романов, с цветами, скамейками, свиданиями, глупыми мечтами и глупыми слезами. Если раньше он мог видеть Мусю в любое время, мог засиживаться у нее до поздней ночи, – то теперь это оказывалось почему-то неудобным. Всегда выходило так, что он встречался с нею в официальных местах, в присутствии посторонних, вдруг облепивших ее со всех сторон. То она обедает вместе с Лукьяновым, то едет на прогулку с одним из безусых пажей, появившихся вдруг в довольно-таки большом количестве, то она идет в театр, а из театра ее провожает не он, а кто-то другой.
И вот – тоже по внезапному капризу – она нежно пожимает ему руку, взгляды ее наполнены любовью, она стремится быть ближе к нему, всячески подчеркивает его преимущественное среди всех остальных поклонников положение.
И вот – опять по внезапному же капризу – она дает ему каждым движением своим понять, что он только один из многих и что предпочтение, оказываемое ему, отнюдь не есть предпочтение перед этими многими.








