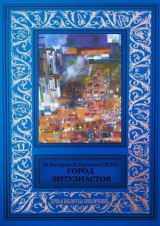
Текст книги "Город энтузиастов (сборник)"
Автор книги: Илья Кремлев
Соавторы: Михаил Козырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Именины
«Дорогой товарищ Локшин, мы, рабочие и служащие пятого околотка службы пути, – писал неведомый доброжелатель из села Аягуз, заброшенного пункта Туркестано-Сибирской железной дороги. – приветствуем вас, как борца за новую идею, которая перевернет мир, и все люди будут как братья. Дорогой товарищ, мы, рабочие и служащие пятого участка постановили организовать ячейку ОДС и просим прислать нам подробные указания, а также членские книжки и так называемый устав…»
Локшин представил себе неведомую станцию Аягуз, затерянную в степях на берегу случайной речонки, временные, из досок сколоченные бараки, позванивающий колокольцами караван верблюдов, шагающих с тяжелыми вьюками хлопка и шелка-сырца из безвестных провинций Западного Китая, потных дымящихся лошадей, вечерами нестройной толпой бродящих у речки, выбеленные по-украински мазанки, – Локшин представил себя на этой станции фантастическую ячейку ОДС и ему стало весело.
«Товарищ корреспонденты, – заняло его новое письмо, – мы, комсомольцы села Ремонтного, просим сообщить нам. Ячейка ОДС организована у нас еще в марте и не работает по причине отсутствия циркуляра, а также секретарь уехал в декретный отпуск по болезни и почему-то до сих пор не вернулся. Просим сообщить, могут ли члены ОДС курить и в отношении вина, который есть отрава для республики…»
Письма эти – а их ежедневно был добрый десяток – шли из самых неведомых, ни на одной, казалось бы, карте не обозначенных мест. Из Ханской ставки, из Вишеры, из Элисты, из аулов Зуванды, из Хакасских селений, из Канока, из Вышнего Волочка, с Амура и из Казани, из Мурманска, из Фастова, из Сватовой Лучки шли эти письма. Написанные на вырванных страницах записной книжки, на разодранных наспех листках блокнотов, на графленых листах с надписью «дебет» в левом углу, на оборотной стороне прошений, некогда подававшихся в духовную консисторию города Гжатска, они всегда волновали Локшина. И хотя стекла были туманны от инея, Локшин чувствовал себя по-весеннему молодо и совсем некстати крикнул Жене:
– Погода-то какая замечательная, это нарочно для твоих именин!
Женя только-что вернулась со Смоленского рынка. Вислоухая плетенка, опрокинувшись, вывалила на стол уродливое туловище барана, неказистую пирамиду картофеля, бутылку столового вина, бутылку портвейна и еще какие-то соблазнительные склянки.
– А газеты?
– Принесла, принесла…
Шелестящая груда газет и еженедельников обрушилась на Локшина. Он мог быть доволен. Весь этот крикливый выводок наперебой кричал о диефикации. Тут был и «Красный Журнал», и неизменный «Крокодил», уныло жующий унылого бюрократа, «Прожектор» и непогасающий «Огонек», «Красная Нива» и «Экран», издаваемый «Голосом Рабочего», и еще один точно такой же «Экран», издаваемый «Рабочим Голосом», и, наконец, просто «Экран», никем не издаваемый, по зато издающий серию популярных открыток вождей и дешевую универсальную библиотечку – «Изобретатель-самоучки».
Локшин торопливо перелистывал журналы, бегло просматривал интересующие его статьи и очерки – и везде и под статьями и под очерками стояла хорошо знакомая подпись Буглай-Бугаевского, – то одинокая скотоводческая – Буглай, то панская – Бугаевский, то интимная – Леонид, то условная – Викторов, то интригующая – «Б-ий». Неиссякаемое красноречие Бугаевского обволакивало заманчивым флером авантюрной увлекательности сухую идею диефикации.
«До чего убедительно врет», – без злобы, скорее с одобрением, думал Локшин.
Буглай-Бугаевский, действительно, врал или, вернее, прикрашивал артистически. Обыкновенное конторское помещение ОДС превратилось под его пером, по крайней мере, в нью-йоркскую, биржу, которая была электрифицирована, картографирована, рационализирована и превращена – не то в госплан, не то в табачный синдикат, не то в управление сберегательными кассами. Сам Локшин из скромного заместителя председателя был преображен в редкостного гения со счетной смекалкой Араго, с красноречием Демосфена и наружностью солиста Большого академического театра.
Общество проделывало совершенно несуразные вещи, диефицировало однолошадное крестьянское хозяйство, вводило трехсменную работу в забытых кочевьях Киргиз-Кайсацкой орды – и все это делалось так беззастенчиво, так уверенно, так увлекательно, что Локшин готов был простить Бугаевскому и чудовищную техническую безграмотность и вопиющую небрежность.
Прекрасное настроение заставило его отнестись добродушно даже к пресловутому специальному номеру, являвшему смесь самой беспринципной халтуры с умопомрачительной американской рекламой. Озадаченный Локшин смущенно, но не без тайной радости узнавал себя и в великолепном иностранце, играющем в баскетбол на фоне полутропического Парка культуры и отдыха, и к этом довольно-таки похожем на Луначарского лекторе, и в этом директоре департамента, восседающем за трехметровым письменным столом.
– Господину диефикатору с супругой почтение, – пропел с порога тщедушный старик в люстриновом, несмотря на зимнее время, пиджаке и в старомодных ботинках не на привычных шнурках, а на толстых, удобно растягивающихся резниках.
– Алексей Иванычу почтение, – в тон ему ответил Локшин, отрываясь от журналов.
– Почтение, сынок, почтение, – неторопливой скороговоркой продолжал Алексей Иваныч, – нынче насчет почтения не густо. Что масло, что почтение – в очереди надо постоять. Ты бы, сынок, – голос Алексея Ивановича прозвучал скрытым раздражением, – поскорее свою диефикацию развернул, тогда бы на родителей и вовсе плевали, какой он, дескать, родитель, когда не в ту смену работает?
Подшучивание над любимой идеей Локшина было постоянной темой иногда добродушных, а в последнее время злобных шуток Алексея Иваныча. Но сейчас Локшину было приятно, когда этот плюгавый старикашка, не договаривая, многозначительно поджимая сухие губы, не то шутя, не то всерьез, допекал его.
– Может быть, перцовочки, папаша, хватим? – предложил Локшин.
– А отчего-же?..
Старик выпил, крякнул, пошарил вилкой в банке с огурчиками:
– С именинницей, – вспомнит он и сам уже налил по второй.
Сияющая, довольная Женя перестала, наконец, возиться с закусками, придвинула к столу высокий стул с маленьким Лесей, усадила пятилетнюю Елку рядом с собой и пригубила рюмку.
И оттого, что у детей были чисто вымытые личики, и от радушного вида жены, и даже от ворчливого, как самовар, и такого же уютного, как самовар, тестя Локшин чувствовал себя по-особому тепло и спокойно. И только когда задребезжал звонок, ему почудилось, что звонит Ольга, а звонил вежливый Лопухин, не преминувший поздравить Евгению Алексеевну, – только на миг вспомнилось далекое сейчас лицо Ольги, ее округленные брови, и тотчас же забылись.
– А я к вам…
Локшин приподнял голову и с удивлением и вместе с тем с радостью увидел на пороге плотную фигуру Константина Степановича.
– Шел мимо, думаю, почему бы не проведать. А у вас праздник никак?
– Мы очень рады, – конфузясь, ответила Женя. – Праздник не праздник, а так…
– Именины, – сурово поправил ее Алексей Иваныч. – Вот молодежь – единственный день в году, а она – так… Стесняется… Вовсе не так – не угодно ли перцовочки за здоровье дорогой именинницы…
– Отчего же, перцовочки можно…
Константин Степанович любовно взял рюмку, понюхал, залпом опрокинул ее и долго целясь, попал, наконец, в плавающую зажиревшую шпроту.
– Хорошо? – спросил тесть.
– Отчего же, – в тон ему ответил Сибиряков.
– А я, – говорил Алексей Иваныч, – признаться, давно зятя прошу – познакомь. Приятно все-таки – человек с таким стажем, а со мной перцовку пьет.
Константин Степанович налил словоохотливому старику и себе еще по рюмке, выпил и с лукавыми искорками в глазах продолжал:
– В нашем столярном деле иначе никак невозможно.
– Как это в столярном? – удивился тесть.
– А как же, – подтвердил Сибиряков, – я ведь фуганком до сих пор получше чем пером орудую.
Локишна удивляло, что совершенно разные люди – старый подпольщик, твердокаменный большевик, и бывший приказчик, увлекающийся апокалипсисом старик, ненавидящий все современное – столь дружелюбно пьют перцовку и столь дружелюбно разговаривают.
Алексей Иванович держался вполне независимо и, несмотря на предостерегающие знаки Жени и недовольное лицо Локшина, ругательски ругал «нынешние порядки».
– Строители тоже, – выкрикивал он, – достроились, нечего сказать. Квартиры и той нет. Человек, можно сказать, полупартийный, – Алексей Иванович показал на зятя и с особенно язвительной интонацией произнес последнее слово, – полупартийный человек, пост министерский, а живет в одной комнатушке. А у меня – целая квартира была. Четыре комнаты, кухня и все за восемнадцать рублей…
– Да, – сочувственно поддакивал Константин Степанович, – разве теперь кто живет в четырех комнатах?
– Вы бы, Алексей Иваныч, – явно желая перенести разговор на другую тему, вмешался Локшин, – рассказали, как в Москве на конке ездили, а теперь – метрополитен.
– А что мне твой метрополитен, только зря улицы разворотили. Строители! Чай взять – и то настоящего не достанешь. Веник сушеный, а не чай…
Старик попал на свою любимую тему. Тридцать лет прослужив и чайной фирме «Высоцкий и Сыновья», он часами мог говорить о высоких качествах «чаев нашей фирмы».
– А как вам, Алексей Иваныч, работается? – остановил его Локшин.
– Много у вас наработаешься. Гуталин и тот варить запретили. Говорят, вредное производство. Небось при старом режиме все было можно. Вот тебе и свобода…
– Да, – неопределенно ответил Сибиряков.
– А все вы! Вы, – ткнул Алексей Иваныч костлявым пальцем в грудь Сибирякова и, вытащив из кармана небольшую ветхую книжку, назидательно сказал:
– А почему? Понятия настоящего нет. Вот, скажем, настоящая книга. Читали откровения святого Иоанна Богослова?..
– Да, серьезная книга, – без тени иронии ответил Сибиряков.
– Да ну, – удивился Алексей Иваныч, – Разве вам такие книги читать положено? Видите ли что тут об вас…
Он одел очки и с чувством начал читать:
– И один сильный ангел взял камень – камень, говорю, взял – и поверг его в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон. А камень этот, – подняв глаза от книги, продолжал он, – ваша революция.
– А я это совсем по-другому понимаю, – серьезно возразил Сибиряков, – да и что апокалипсис – я вот в талмуде читал…
Конца фразы Локшин не слышал. Женя отозвала его в коридор и тревожным шёпотом начала доказывать, что на столе ничего нет, что нельзя так принимать в первый раз редкого и нужного гостя, что необходимо срочно попросить соседнюю прислугу сбегать в угловой «коммунар».
Глава двенадцатаяБессонная жизнь
Настойчивый телефонный звонок разбудил Локшина в половине третьего ночи. Звонила Ольга.
– Вы просили меня разбудить вас. Вы не забыли?
– Конечно, нет.
Сегодня ночью Локшин должен был выехать в Люберцы. В порядке социалистического соревнования Люберцы производили первый опыт диефикации и давно уже звали Локшина «приехать и посмотреть, как здорово получилось». Так, во всяком случае, объяснял, подмигивая единственным глазом, изуродованный оспой председатель люберецкого горисполкома.
– Хорошо, хорошо, – отделался ничего не значащей фразой Локшин, но Женя уже проснулась.
– Кто это тебе звонил? Среди ночи звонит! А все она – я уж знаю…
В последнее время Женя измучила Локшина своей ревностью.
– Да право, оставь меня в покое. Ну звонили, звонили по делу. Сама знаешь, что я должен ехать.
Он быстро одевался, стараясь не слушать упреков, жалоб, обвинений, истерических всхлипываний. Все это давно надоело ему.
– Боже мой! – вырвалось у него, – когда же, наконец, ты оставишь меня в покое!
Он быстро оделся и выбежал на улицу.
Черная зимняя ночь мохнатым огромным зверем навалилась на сонную Москву. Автомобиль, зарываясь крыльями в снег, покачиваясь на сугробах, дрожащим светом прожектора едва рассеивал сгустившуюся на окраинах мглу. От необычности этой ночной поездки, от того, что рядом, словно нечаянно прижавшись к нему, сидела Ольга, и от запаха привычной трубки Сибирякова Локшину было особенно хорошо.
– Смотрите, – говорил он, – мы под самой Москвой, а нам никто не попался навстречу, словно вымерло все.
Вдали несмелыми угольками вспыхивали и таяли огни железной дороги, за темным силуэтом оторвавшегося от городских улиц одинокого строения отчетливо залаяла собака Как-будто не было ни Москвы, ни бессонных впереди Люберец, ни общества по диефикации, казалось, что он, Локшин, студент-первокурсник, едет на святки в глухое, затерянное в снегах имение.
Встряхнувшись в очередном сугробе и резко качнув на повороте, автомобиль вылетел на освещенное пространство и затормозил ход. Первое, что бросилось в глаза – разнообразные, то прикрытые матовыми колпаками, то привинченные прямо к фасаду, то гирляндой свисающие по проволоке электрические лампы. Как-будто для какого-нибудь торжества городок спешно и неумело иллюминировал улицы.
На углу, словно это не был четвертый час ночи, а обычный зимний морозный день, стоял моссельпромщик. Из переулка доносились звуки оркестра, горящий транспарант кино вспыхивающими чередующимися буквами утверждал, что на удешевленные ночные сеансы вход беспрерывный.
У входа в кино стояла небольшая очередь.
Автомобиль медленно пробирался к исполкому. В лавках Люберецкого ЕПО у прилавков толпились покупатели, на улице ребятишки катались на санках с импровизированных гор, в центральной столовой подавали обед, в городском исполкоме были ярко освещены все окна.
– Видали? – подмигнул единственным глазом председатель, – это вам не Москва! У вас небось сейчас и ночные сторожа дрыхнут. А у нас тут – живут и день и ночь. Я сам на ночь свои приемы перенес…
Исполком бодрствовал. Машинистки как ни в чем ни бывало стучали по клавишам ундервудов, у столика Загса толпились посетители, человек в валенках с подвязанной ситцевым платком щекой настойчиво требовал справки и жаловался на волокиту, молодые люди с разбухшими папками бегали взад и вперед.
– А раньше у нас по ночам только собаки не спали. Десять часов – на улице хоть глаз выколи, – рассказывал председатель, пока они полуосвещенными улицами и переулками проходили на завод, – а теперь, смотрите… Красота!
– Как же это вам удалось? – спросил Сибиряков. – Неужели и бабы не ругались?
Председатель махнул рукой:
– Было всего! Скандал! Лампочки нарочно вывертывали. Некоторые на зло по вечерам на улицу и до сих пор не выходят. Кино открыли – ночью в кино никого. А ведь у нас одних членов общества тысяч пять. Все объявили себя ударниками…
– Значит и на улице, и в кино, и в магазинах – одни ударники? – любопытствовала Ольга.
– Вы и очереди в ударном порядке создаете? – посмеялся Сибиряков.
– Одно время так и было, а что? Ну а теперь сами видите, – народ попривык. Теперь, не хвастаясь скажу, добились того, что новый порядок всем нравится. Сами понимаете – кто в дневной смене работает, того ведь никто в кино ходить не неволит, а сейчас вторая смена живет вовсю. Кончила работу в двенадцать и всю ночь свободна.
Решение горисполкома, в связи с переходом Люберецкого машиностроительного завода на трехсменную работу, произвести пробную диефикацию поселка вызвало на первых порах сопротивление не только в обывательской среде. Нескончаемые жалобы в центр, упреки в экспериментаторстве и в левом загибе, конфликты с профсоюзными органами, разговоры о повысившемся травматизме, о профессиональных заболеваниях, о низкой рентабельности ночных смен, о бессмысленности трехсменной работы учреждений – все это обрушилось на небольшую вначале группу ударников-диефикаторов.
Но массовый энтузиазм в конце концов пересилил все. Группа ударников с трехсот человек дошла до двух-трех тысяч, рабочие ночных смен втягивали свою семью, служащие исполкома мало-по-малу раскачивали обывателей, и сейчас даже кустари-сапожники, конкурируя с «Коопремонтом», ночью принимали в починку износившиеся сапоги.
– А знаете что, – хитро подмигивая одним глазом, говорил председатель, – рядом в селе поп ночные службы устраивает, я было хотел ему запретить – чего в самом деле рабочих дурманом обволакивает, да из центра не разрешили.
– Конечно, – продолжал он, – не все еще у нас так гладко, неполадок много, но главное…
Весь залитый светом из-за поворота вынырнул Люберецкий завод. Светящиеся корпуса правильными рядами уходили к исчерченному гирляндами фонарей горизонту.
– Как это замечательно, – сказала Ольга. – бессонная жизнь!..
Если бы Локшин хоть на минуту тогда мог подумать, что ее искренняя восторженность, ее неподдельный энтузиазм, ее внимание к нему и назревающее как-будто чувство – только нехитрая шаблонная стратегия. Неужели каждый ее жест, каждая фраза, каждое движение – только результат десятка тщательных репетиций?
Но тогда Локшин не мог думать об этом. Он благодарно посмотрел на Ольгу, а она ответила ему особенно теплой, особенно много говорящей улыбкой.
– Ты взгляни на диаграмму, – объяснил Лакшину в фабкоме закопченный в литейном цехе председатель фабкома, вот эта кривая брак, вот эта – травматизм, вот эта производительность труда. Посмотрите, что они тут у нас выделывают. А? Смотри, как производительность, лезет наверх. Смотри!.. А эти и хотели бы, да им не дается…
Для этого закопченного в литейном цехе, с красным от печной жары лицом рабочего скучные кривые не менее скучной диаграммы жили своей собственной, напряженной жизнью. Они избирались наверх, падали вниз, и в бессильной злобе напрягаясь изо всех сил, могли только змеей извиваться в нижнем правом углу диаграммы.
Локшин вспомнил, что сейчас к сонной Москве еле-еле начинается скучный белесый рассвет, вспомнил ночные улицы и черную мохнатую ночь:
– А ведь можно бы и у нас… Попробовать. – сказал он.
– Гм, – неопределенно промычал Сибиряков, – на одном опыте далеко не уедешь.
– С каких пор вы сделались скептиком, Константин Степанович? – спросила Ольга – А мне кажется, что этот замечательный городок…
Внезапное беспокойство овладею Локшиным. Он инстинктивно обернулся. За его спиной, напрягая оттопыренные уши, кутаясь в заношенную шубенку, стоял Паша.
– Ты зачем здесь? – удивился Локшин.
И внезапность появления и самый вид Паши и его ищущие уши, вызвали в Локшине чувство, похожее на испуг.
– А я, Александр Сергеевич, по делу! Товарищ Лопухин приказал получить цифровой материал. А в этих знаменитых Люберцах днем никого на своем месте не застанешь – они ведь по ночам живут. Диесификаторы. – закончил Паша, особенно напирая на лишнее вставленное им в слово «си», и засмеялся нехорошим смешком, в котором совмещались и ирония, и угодливость, и злоба.
Глава тринадцатаяПервый цех
Блестящие весело отсвечивающие ножницы быстро перерезали широкую, кумачовую ленту. Автоматическая вагонетка, вся в сложных никелированных переплетах, отливающая хрустальным блеском огромных листов толстого стекла, прокатилась по подвесному пути и скрылась за углом.
Официальный момент открытия первого в мире завода по массовому изготовлению стекла «вите-гляс» наступил. Впрочем, говоря откровенно, открытие завода не совпадало с его фактическим пуском. Единственный достроенный корпус еще не был вполне оборудован, остальные стояли в лесах, раскинувшись на огромном участке, отведенном где-то на шоссе Энтузиастов: Лакшин намеренно торопил открытие.
Вместе с успехами ОДС, вместе с явными и значительными победами идеи диефикации нарастало и сопротивление. Мелкие, незначительные неудачи, затяжки в выдаче ассигновок, отдельные, пока редкие, выпады некоторых лиц и учреждений против ОДС, – все это заставляло Локшина постоянно быть начеку. Открытие завода должно было лишний раз напомнить об ОДС, открытие завода, по расчетам Локшина, должно было ускорить проведение некоторых предложенных им проектов, и, наконец, оно должно было ускорить выдачу необходимых для дальнейших работ средств, почему-то задерживаемых госбанком.
Отстроенный под руководством академика Загородного корпус завода напоминал диковинную конструкцию Татлина. Железо, бетон и стекло, взятые в непривычных пропорциях, сочетались вопреки представлениям о тяжести и архитектурных нормах. Не было ни законченных, ржавых от дыма и непогод стеклянных перекрытий, ни жадных печей, ни запаренных суетливых мастеров, ни обнаженных, тяжело дышащих стеклодувов. Завод был скорее похож на увеличенный во сто раз стол ученого, перегруженный ретортами, колбами, дисками сложных приборов.
Но самым характерным был нежный и яркий свет, который, несмотря на январь и на пасмурный полдень, мягкими волнами заливал просторное помещение: по настоянию Загородного, выдержавшего ряд жестоких боев с Локшиным и Сибиряковым, возражавшим против увеличения сметы, завод был оборудован стеклами «вите-гляс».
– Товарищи, – говорил Локшин, – завод, который мы открываем сегодня, – первый в мире не только по продукции своего производства. – Он показал на наполненные дрожащим светом искрящиеся стены и потолки здания: – все это сделано из изумительного стекла жизни, лишний раз говорит нам о новой победе… Мы берем у солнца его живительные лучи, заряжаем ими мощные конденсаторы и взрываем и взрываем ночь…
Он внимательно оглядел, аудиторию. Рядом с рабочими и работницами, напоминающими белыми халатами прозодежды студентов, собравшихся в клинике на операцию, группа гостей в обычном темном платье казалась толпой родственников оперируемого, мешающих и несколько смешных. Вот Миловидов яростно швыряет раздраженные мячи, что-то доказывая корректному, улыбающемуся Лопухину.
Маленький Паша юрко ощупывает глазами машины, подобострастно втягивая утлую голову в плечи и всем своим видом изображая благоговейный восторг. Рядом с Андреем Михайловичем редактор «Голоса». Иван Николаевич, осторожно ощупывает синий карниз прозрачного сооружения. Два фотографа – оба одинаковы, оба известны, – расставив ноги, жадно схватились за розовый каучук, готовые ежеминутно запечатлеть на пластинке любой из моментов торжества. Щеголеватый кинооператор со скоростью маленького мотора яростно вертит ручку.
– Я предлагаю, – продолжал Локшин. – приветствовать главного виновника сегодняшнего торжества – Павла Елисеевича Загородного… Мы, люди труда, я бы сказал чернорабочие индустрии, приветствуем в его лице освобождающий и созидающий гений науки…
Академик неловко поднялся, бычья шея его налилась кровью, он неуклюже поклонился и бессвязно пробормотал:
– Что ж, конечно, сделали… Для начала ничего…
За год прошедший со дня первого инициативного собрания у Сибирякова, Локшин научился любить этого чудаковатого старика. Академик человек с мировым именем, был способен, как конторщик, подсчитывать копейки, выторговывая лишние гроши для своего любимого детища. И сейчас, только-что кончив речь, он который уже раз спросил у Локшина:
– А как же ассигновки? Скоро?
Локшину было не до ассигновок. Он заметит в толпе Ольгу, увидел ее обращенную к Загородному улыбку: так улыбалась она ему Локшину, в те редкие счастливые минуты, когда они оставались вдвоем. Ревнивая досада, легкая, как дым, так же легко рассеялась.
А с трибуны, привычно отчеканивая слова, говорил представитель московского комитета партии.
– Товарищи, коммунистическая партия, при всем ее материалистическом миросозерцании, верит в чудеса. Да, товарищи, мы верим в чудеса, которые произведет наука в союзе с рабочими массами. Сегодняшнее торжество – очередная наша будничная победа…
Оратор долго говорил о трудностях борьбы, о победах и поражениях, о массовом подъёме, о близящемся индустриальном расцвете страны. Академик Загородный, по-детски склонив голову набок, старательно писал что-то на лоскутке бумаги и, написав, старательно сложил записку и передал Локшину. В записке снова говорилось об ассигновках и смете. Кивнув профессору, Локшин спрятал записку в карман и снова оглядел аудиторию.
Рядом с фотографом, с напряженным, подчеркнуто торжественным лицом стояла Женя, держа за руку нарядную, с большим красным бантом в волосах Елку. Напыщенность, заметная в лице Жени, уродовала и старила ее, и даже миловидное личико Елки благодаря нелепому банту и туго накрахмаленному воротнику вызвало у Локшина легкую досаду. Он отыскал глазами Ольгу и заметил на ее лице нежную, обращенную только к нему теплую улыбку…
– Товарищи, позвольте мне от имени люберецкого горисполкома, – сказал, выходя вперед невзрачный человек, с единственным на изуродованном оспой лице глазом, – позвольте мне также и от имени люберецкого отделения ОДО приветствовать открытие завода…
Он сделал паузу и, дружелюбно кивнув Локшину и Сибирякову, продолжал:
– А чтобы, товарищи, это приветствие не было только фразой, позвольте мне от имени горисполкома и завода законтрактовать первые же четыреста тонн стекла «вите-гляс». И электрические лампочки, – под аплодисменты закончил он.
Заглушенные звуки оркестра в последний раз донеслись с завода. Локшин подсадил Сибирякова в автомобиль и захлопнул дверку. В тусклом оконце мелькнули бетонные силуэты недавно отстроенных кварталов рабочего городка, фантастическим призраком вырос центральный универмаг.
Город. Кренящиеся, словно корабли, настигнутые циклоном, дома, скачущие фигурки постовых милиционеров, раздутые и искривленные словно на зеркальной поверхности аптекарского шара, вывески, растянувшиеся глянцевитой гармоникой трамваи, с внезапно оторвавшейся и стремглав летящей площадкой – вся эта беснующаяся от быстрого хода автомобиля Москва внезапно остановилась и четким самоуверенным диском уличного семафора придвинулась к распахнувшейся дверке автомобиля.
– Вечерняя, вечерняя, – надрывались световые рекламы «Голоса Рабочего». Открытие завода «Вите-гляс». Беседа с товарищем Енукидзе… Проект академика Загородного. Искусственное солнце над Моссоветом…
– Радуешься? – посмеиваясь, спросил Сибиряков. В его тоне Локшин почувствовал неприятные скептические нотки.
– Разве в прошлом году мы могли думать об этом? А сейчас – правительственный комитет по диефикации СССР Приказ ВСНХ…
Приказ, о котором говорил Локшин, был категорическим распоряжением ввести ночные смены на целом ряде предприятии.
– Я приказов читать не мастер, – с подчеркнутой флегмой ответил Сибиряков.
Локшин взглянул на его тучную неподвижную фигуру, на его равнодушную трубку и пожалел о том, что рядом с ним сейчас этот флегматичный, по-стариковски равнодушный ко всему человек, а не чуткая, так хорошо отвечающая на каждое его движение, на каждый его порыв Ольга.








