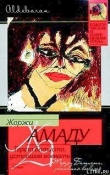Текст книги "По обе стороны экватора"
Автор книги: Игорь Фесуненко
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
Возникает, во-первых, вопрос; что это за «Деревце» («Арболито»)? Оказывается, в давние времена действительно росло в какой-то точке города красивое деревце, служившее надежной и всеми признанной точкой привязки. Несколько десятилетий назад, повинуясь грустному, но непреложному закону конечности всего живущего и сущего, упомянутое «Арболито» высохло, было срублено и ушло в область воспоминании и легенд. Но… адресные ссылки на него по-прежнему действительны для доброй сотни находящихся в том районе жилых домов, магазинов, учреждений. И даже печатаются в телефонной книге!
Идем дальше: « 70 варасвверх»… Что такое это «варас»?
«Вара» – это мера длины, которая существовала в Испании во времена не то Торквемады, не то Сервантеса. С тех пор о ней забыли во всем мире, кроме… Никарагуа. Но и в Никарагуа нет ни одного гражданина этой страны, который мог бы сказать вам, что такое «вара»: полметра, метр, сажень или десяток метров.
Дальше: «70 варас вверх» и «20 – вниз». Как понять эти «вверх» и «вниз»? Тут тоже существуют различные толкования. Некоторые считают, что «вверх» означает «на восток», ибо именно на восток от Манагуа находится аэропорт, то есть место, где поднимаются «вверх» самолеты. Другие, однако, резонно утверждают, что понятия «вверх» и «вниз» существовали в Манагуа и в стародавние времена, когда ни братья Райт, ни Александр Федорович Можайский, ни Сантос-Дюмон еще не осчастливили человечество своими гениальными изобретениями и свершениями. Поэтому направление «вверх» еще со времен обитавших в этих краях индейцев действительно относилось к востоку, где подымается солнце, а когда говорят «вниз», то имеют в виду ту сторону земли, где солнце заходит, то есть «опускается».
Можно представить себе теперь, сколько усилий пришлось потратить Эрнесто и Росарио, когда они обходили в квартале Санта Роса дом за домом и спрашивали молодую женщину по имени Кларибел, тем более что имя это – одно из самых распространенных в Никарагуа… Эти поиски могли бы затянуться до бесконечности и, возможно, никогда не увенчались бы успехом, если бы Росарио не осенила счастливая идея: расспрашивая людей о Кларибел, упоминать об ожогах и шрамах на лице ее мужа. Вот по этой примете они вышли на Кларибел довольно быстро: увечья Байардо прямо-таки врезались сердобольным соседкам в память. И вот, спустя несколько дней, появляемся в этом квартале и мы – спецкоры Советского телевидения.
Миниатюрная, совсем молоденькая и до невероятия застенчивая женщина с крохотной малюткой на руках сидит, покачиваясь, в кресле-качалке у двери своего дома. Впрочем, «домом» это сооружение можно назвать лишь при достаточно богатом воображении. Поэтому Кларибел смущается и краснеет, когда, представившись, мы просим разрешения посмотреть ее жилище, чтобы выбрать место для съемки интервью, или, как говорят операторы, «точку».
С видимой неохотой Кларибел открывает дверь, и с первого же взгляда становится ясно, что с «точкой» здесь у нас возникнут нешуточные сложности. Ругая себя за настойчивость, входим в этот сколоченный из разнокалиберных досок сарай. Одна дверь, одно окно, без стекол, разумеется, но с примитивной ставней, которая закрывается, когда хозяйка уходит. Я знаю, что в такой же бедности живут еще очень многие люди в этой многострадальной стране, разоренной полувековым диктаторским режимом, а сейчас, спустя шесть лет после победы революции, вынужденной затрачивать до сорока процентов своих средств на нужды обороны, на защиту от банд контрас, от таких, как бывший муж Кларибел.
Интерьер жилища соответствует его фасаду: маленький стол, вместо кровати – гамак, ящик-комод – для одежды и уже упомянутое кресло-качалка. Кстати, такие кресла являются самым распространенным элементом никарагуанской меблировки. В доме, бараке или крестьянской хижине может не оказаться кровати или шкафа, роль стульев выполнят колченогие табуретки или наспех сколоченная скамья, но кресло-качалка обязательно будет присутствовать практически в каждом, даже самом скромном никарагуанском жилище.
В лачуге Кларибел темно. Сквозь единственное окно света внутрь проникает очень мало, снимать интервью придется на улице. Выходим из барака и оказываемся в плотном кольце любопытствующих мальчишек всех возрастов и оттенков кожи. Объясняю Кларибел, что через пару минут, когда оператор приготовит камеру, мы попросим ее рассказать о Байардо и объяснить, кто его изуродовал так жестоко и где он получил свои страшные ожоги.
Она вздыхает и переминается с ноги на ногу. Чувствую, что все это ей совсем не по душе. Есть такие люди, стеснительные и робкие. Их угнетает объектив кинокамеры и микрофон. Смущает внимание окружающих. На мою беду, ситуация осложняется, вокруг нас собираются женщины из соседних бараков. Среди них – несколько весьма говорливых, социально активных особ. Не разобравшись толком, в чем дело, не спросив, кто мы и откуда, они дружно набрасываются на меня с возмущенными упреками:
– Зачем сеньор беспокоит бедную Кларибел?! Оставьте ее в покое! Разве мало перестрадала эта святая женщина-мученица?
Вижу, что Кларибел колеблется. На глазах у нее наворачиваются слезы. На щеках появляется румянец. Ей жалко саму себя. И спящая у нее на руках малютка вдруг так некстати зашевелилась. Сейчас проснется, начнется плач, ребенка нужно будет успокаивать и кормить, и наша затея с интервью рухнет под напором этих галдящих, размахивающих руками сердобольных соседок.
– Вы знаете, может быть, они правду говорят? – шепчет испуганно Кларибел. – Может быть, не нужно ничего этого? Я ведь уже все ему рассказала, – она кивает головой в сторону Эрнесто, который, не скрывая сочувствия и вместе с тем какого-то профессионального интереса, следит, как я выпутаюсь из этой сложной ситуации.
– Давай быстрее, – говорю Молчанову, который слишком долго копается со своими кассетами, экспонометром и аккумулятором.
– Нет, нет, я не хочу фотографироваться! – испуганно шепчет Кларибел, шарахаясь от нацелившегося на нее черного объектива кинокамеры. – Меня уже фотографировал этот компаньеро, – она снова показывает на Эрнесто. – Разве этого недостаточно?..
– Но мы и не собираемся фотографировать тебя, – говорю я, беру в руки микрофон. – Мы снимаем тебя для телевидения.
– Но зачем же это? – сопротивляется она.
Чувствую, что еще мгновение, и съемка сорвется, если немедленно, сию секунду я не найду какие-то безошибочные аргументы, если не успокою, не смогу убедить ее…
– Послушай, Кларибел. Как тебе не стыдно? Разве ты хочешь, чтобы с какой-нибудь другой женщиной случилось то же, что с тобой? Ты считаешь, что то, что он сделал, можно оставить безнаказанным?
– Нет, но…
– Кларибел! Твой бывший муж помогает Рейгану достать новые деньги для контрас. На эти деньги будут куплены пулеметы, из которых станут стрелять в твоих братьев, и бомбы, которые контрас захотят сбросить на Манагуа, на Леон и на другие города.
– Ну, хорошо, я согласна, но, может, быть, мы это сделаем завтра?
– Завтра уйдет самолет, на котором я хотел бы отправить пленку с твоим рассказом…
Соседки за моей спиной по-прежнему гудят, как осы: «Оставьте бедняжку в покое! Девочка и так перестрадала». Молчанов кивает мне головой: он готов, можно начинать.
Включаю магнитофон, подношу микрофон к лицу Кларибел. Это всегда оказывает мобилизующий эффект: вы можете сколько угодно сопротивляться, отказываться от интервью, но как только увидите, что завертелись кассеты магнитофона, как только услышите легкое жужжание мотора кинокамеры и у вашего лица окажется микрофон, ваше сопротивление – хотите вы этого или нет – сломлено, сомнения уходят. И вы начинаете неестественно высоким голосом говорить неестественно красивые фразы. Вы улыбаетесь и стремитесь выглядеть молодцом.
Кларибел не исключение. Завидев, как шарахнулись от кинокамеры ее соседки, она покорно вздыхает и начинает отвечать на мои вопросы. Говорит она односложно, с трудом, стесняется камеры, побаивается сердобольных соседок, которые хотя и глазеют на меня с нескрываемой злостью, но вынуждены отступить.
Виновато поглядывая на них, словно извиняясь за то, что уступила моему нажиму, Кларибел рассказывает, что познакомилась с Байардо, когда он уже лежал в госпитале. И хотя знала, что он – контрас, но ей стало жалко его. Так сильно мучился, бедный, от этих страшных ожогов…
– Откуда же взялись ожоги? – спрашиваю я.
– Получил он их по собственной неосторожности, чтобы не сказать глупости: когда революция уже побеждала, когда всем стало ясно, что Сомосе пришел конец, фашисты принялись зверствовать особенно беспощадно. Байардо то ли приказ получил от своих начальников, то ли сам по своей воле решил поджечь убежище, в котором скрывались от пуль, снарядов, и бомб мирные жители. В основном женщины и дети. Байардо и еще несколько сомосовцев облили стены убежища бензином, потом он бросил спичку…
Многие из тех, кто находился там, сгорели заживо. Ужасная смерть… Но Байардо не повезло, – говорит она и разводит руками. – Словно бог там, на небе, завидев его за этим страшным делом, решил наказать: когда Байардо обливал бензином стены дома, в подвале которого сидели беженцы, бензин попал и на его собственную одежду. Казалось, совсем немного, несколько капель, но… как только загорелся дом, полетели во все стороны искры, одна из них попала на Байардо, и одежда его вдруг вспыхнула.
Он побежал, потом бросился на землю, начал кататься по траве, пытаясь погасить это пламя, но ничего из этого не получилось. Он превратился в живой факел. Кричал страшным голосом, потом затих…
А друзья его, те, кто помогал ему и обливал вместе с ним этот дом бензином, бросили его. Решили, что сандинисты уже вот они, уже близко, и нужно спасаться. А Байардо, он уже – в лучшем из миров, где никого не надо спасать и ни о ком не надо беспокоиться, где нет революций и возмездий, где перед ликом всевышнего все равны.
…Так бы оно и получилось, если бы не сандинисты. Они подобрали его, обнаружили, что он жив, что еще дышит, что хотя и с трудом, но все же прослушивается у него пульс. И он тут же был отправлен в госпиталь имени Антонио Ленина Фонсеки.
Три имени одного госпиталя
…Тут я позволю себе сделать еще одно отступление от истории поисков, чтобы рассказать историю названия госпиталя. «Ленин Фонсека…» Этими двумя именами один никарагуанец назвал еще задолго до революции своего сына в честь двух самых великих с точки зрения отца мальчика людей Земли: самого выдающегося революционера всех времен и основателя Сандинистского фронта национального освобождения.
Но ведь это было в годы диктатуры, и попробуй-ка назови свое имя, если оно звучит: Ленин Фонсека! Мальчишка не мог бы ни с кем общаться. Его нельзя было бы даже записать в школу. Достигнув совершеннолетия, он не смог бы получить документов. И вот, чтобы избежать этих сложностей, чтобы ребенок мог общаться с друзьями на улице, с соседями или учителями в школе, отец дал ему и третье, «легальное» имя Антонио. В результате и получилось: Антонио Ленин Фонсека.
Мальчик с этим чудесным именем подрос и вслед за отцом вступил в ряды сандинистов, стал сражаться против диктатуры. Разве мог поступить иначе парень, носящий имена Ленина и Фонсеки?..
Он сражался геройски и погиб от пули сомосовцев всего за несколько дней до окончательной победы революции. Такая вот получилась печальная и героическая история… Таким славным именем назван госпиталь, самый крупный в никарагуанской столице, находящийся на западной окраине Манагуа, близ небольшого озера Асососка.
Мы едем туда на следующий день после разговора с Кларибел. Едем в надежде, что нам повезет, что сможем разыскать там кого-нибудь, кто помнит пациента Байардо Сантаэлиса Селайа с тяжелыми ожогами лица и тела.
Директор госпиталя доктор Хулио Брисеньо разводит руками: сам он назначен сюда всего полгода назад, естественно, ничего не знает. И хочет предупредить нас, что за последние пять лет медицинский персонал сменился почти полностью. Впрочем, может, быть, нам сможет помочь его секретарь – Марта Агирре Гомес?
Он вызывает Марту, поручает ей оказать нам содействие. Сразу же чувствуется, что Марта – женщина энергичная и расторопная.
Минут через десять она находит сразу двоих, кто работал в госпитале в семьдесят девятом году: лаборантку Алму Патрисию де Моралес и администратора Гладис Родригес. Обе они прекрасно помнят Байардо. Именно Гладис дежурила в приемном покое в тот вечер, когда его доставили сюда. Именно она зарегистрировала этого обгоревшего пациента в книге поступивших больных.
– Боже мой! Это был самый тяжелый случай в моей практике. Тот больной был похож на головешку: сгорел почти начисто! Лишь ноги у него, и то лишь ниже колен, где они были защищены сапогами, сохранились невредимыми. Все остальное… Это был какой-то кошмар!
Гладис и Алма Патрисия ведут нас по длинным коридорам в хирургическое отделение и находят палату, где лежал Байардо. Показывают его кровать. Сейчас здесь женское отделение. В «той самой» палате лежат две женщины средних лет. Извиняемся перед ними за беспокойство, просим разрешения снять комнату и кровать, на которой сейчас лежит весьма симпатичная и словоохотливая пациентка. Пожалуйста, ради бога! Почему бы и нет? Узнав, что их снимают для Советского телевидения, женщины наспех поправляют прически и устраиваются поудобнее на своих матрацах и подушках. Мне кажется, они даже благодарны нам за то, что в унылую монотонность их больничного быта мы внесли эту сумятицу и беспокойство.
Вспыхивают лампы, чуть слышно жужжит камера. Снимаем палату, увековечиваем на пленке вывеску над дверью: «Хиругическое отделение».
– А нас тоже будут снимать? – слышатся заинтересованные голоса из соседних палат.
– Это сейчас здесь так шумно и многолюдно, – говорит Алма Патрисия. – А тогда Байардо лежал в палате один. Так распорядился главный врач, учитывая тяжесть его состояния. Да и охранять его было проще: ведь он тогда еще ожидал суда. Боже, это был какой-то кошмар, а не лечение! Невозможно описать, каких трудов нам это стоило. Хорошо помню все это, поскольку именно я выполняла многие процедуры, смазывала ему раны пенициллином, ассистировала на операциях по пересадке кожи, делала анестезирующие уколы.
– А медсестру Марию Брисеньо помните? – спрашиваю я.
– Конечно! Она работала вместе со мной. Сейчас перешла в другое место, не помню куда…
– В детскую больницу в Санта Хулии.
– Точно! Она тоже помнит его?
– Да. И именно она помогла нам разыскать жену этого Байардо!
– Правильно! Я помню, как приходила его навещать совсем юная девушка. Мы прямо-таки восхищались ее упорством: как заботливо она ухаживала за ним!.. Часто оставалась ночевать на скамье в коридоре, чтобы утром, когда он откроет глаза, первой увидел бы ее. Мы удивлялись: такая красивая, молодая и вдруг решила связать свою судьбу с этим калекой. Из жалости, что ли?.. Интересно, где она сейчас?
– Живет в квартале Санта Роса.
– Как? Стало быть, она не уехала с ним в Америку?
– Нет, – отвечает Эрнесто. – Она, наоборот, стала милисиано. Именно из-за этого Байардо и бросил ее.
– Подождите насчет «бросил», – говорю я. – Мне еще непонятно, когда они успели пожениться.
– Вскоре после того, как он вышел из тюрьмы.
– Так он что: и в тюрьме успел отсидеть?
– Совсем немного: всего несколько недель, – объясняет Росарио. – Когда его вылечили и выписали из госпиталя, началось следствие. Его судили и дали тридцать лет тюрьмы, учитывая тяжесть совершенных преступлений. Это максимальная мера по нашим законам. Учитывались и его предреволюционные «подвиги», участие в арестах и пытках сандинистов. И, конечно, поджог убежища, когда столько людей сгорели по его вине.
А через некоторое время его выпустили на свободу.
Сам команданте Борхе увидел его однажды и говорит:
«Этот уже получил сполна за свои преступления, отпустите его, пускай живет и благодарит революцию за милосердие».
«И благослови их за это бог!..»
– Вот он и отблагодарил, – говорит Мария Брисеньо.
Она тоже подъехала сюда, в госпиталь имени Ленина Фонсеки, чтобы помочь нам разыскать врачей и сестер, которые лечили Байардо, и завершить, так сказать, «реконструкцию» его извилистого жизненного пути. – Правда, когда его выпускали, – продолжает Мария, – он радовался, говорил, что раскаялся, что встал на правильный путь. Тем более молодая жена у него, семья. Новая жизнь начинается. И все такое…
– Чем же он жил? – интересуюсь я.
– Сначала ему помогали соседи. Кто чем мог. Да и Кларибел работала за двоих.
– Где работала? – спрашивает Росарио.
– Домработницей, где же она может еще работать: молодая девушка без всякого образования, без специальности… Я чувствовала, как ей, бедняжке, трудно, – вздыхает Мария Брисеньо, – и предложила ей помогать мне по дому. Она приходила почти каждый день. И вскоре я заметила, что у них с Байардо жизнь не складывается.
Он буквально взбеленился, когда узнал, что Кларибел вступила в народную милицию. Несколько раз даже бил ее.
– Вот мерзавец! – возмущается Гладис.
– А сам он что: совсем не работал? – опрашивает Алма Патрисия.
– Его вполне устраивала роль несчастненького и беспомощного. Ему нравилось бездельничать. Он всегда с готовностью и как должное принимал подачки от соседей, – говорит Мария. – Несколько раз приходил ко мне домой: «Отдохну у тебя на диване». И валяется часами. Не знала, как его и выпроводить. Некоторое время пытался он подрабатывать как «амбуланте»: бродячий торговец. А потом вдруг исчез. Честно говоря, я даже обрадовалась за Кларибел: наконец-то она освободилась от этого тунеядца. Конечно, мы не знали тогда, что он сбежал в Гондурас. И уж тем более не могли предположить, что объявится в Белом доме рядом с Рейганом…
– А ведь сколько сил на него извели, сколько нервов, – говорит Алма Патрисия. – Сколько операций, процедур, сколько крови в него перелили, сколько сделали пересадок кожи и сколько… – она развела руками, – грех, конечно, об этом говорить, шла бы речь о любом другом, так не упомянула бы такое, но тут не могу не сказать… – она вздохнула. – Сколько дорогих и редких лекарств на этого подонка израсходовали! А ведь у нас лежали и женщины, и дети. Пенициллин, который ему отдавали, пригодился бы раненым революционерам, да что говорить!..
Она махнула рукой и в сердцах бросила на тумбочку уже изрядно помятый и растрепанный номер «Ньюсуика» с фотографией, которая вызвала все эти воспоминания. С фотографии смотрел на разгоряченных медсестер улыбающийся Байардо. И Рейган заслонял его от ужасов сандинистской диктатуры своей старческой, но все еще импозантной, сохраняющей голливудскую выправку фигурой. «Все в порядке, дорогой друг! – читалось в отеческом взоре президента. – Теперь ты находишься под сенью великой американской демократии, теперь ты, слава всемогущему богу, оказался в самой свободной стране».
* * *
Так сказал или подумал Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов Америки, страны, которую он не постеснялся назвать «сияющим городом на холме». И о которой другой американец, куда более великий и мудрый, – его имя Эрнест Хемингуэй – еще полвека назад сказал так: «Америка была хорошая страна, а мы превратили ее черт знает во что…»
И словно отвечая на горящий, начертанный у подножия статуи Свободы призыв-приглашение, обращенное к «усталым», «нищим», «мятущимся», «жаждущим дышать свободно», Хемингуэй продолжил свою мысль так:
«Пусть в Америку переезжают те, кому неведомо, что они задержались с переездом. Наши предки увидели эту страну в лучшую ее пору, и они сражались за нее, когда она стоила того, чтобы за нее сражаться. А я поеду теперь в другое место».
…К сказанному остается добавить еще одну, но весьма существенную деталь: через несколько недель после того, как «жертва сандинистов» Байардо Сантаэлис Селайа был представлен Рейганом на банкете в Вашингтоне, конгресс одобрил запрос президента о выделении 27 миллионов долларов на оказание помощи контрас, сражающимся против «сандинистской диктатуры». Видно, растрогала конгрессменов история Байардо, рассказанная президентом.
А на следующий год Рейган запросил у конгресса на помощь контрас уже 100 миллионов долларов. Аппетит, видать, и впрямь приходит во время еды…
Мотивируя свои просьбы, свои ходатайства по делам контрас, президент не жалел красноречия. Сначала он воспел высокие нравственные достоинства своих протеже: «Рождаются движения за свободу, которые утверждают свои права. Они возникают почти на всех континентах, населенных людьми: в горах Афганистана, в Анголе, в Кампучии, в Центральной Америке.
Эти борцы за свободу – наши братья, и мы обязаны им помочь. Я говорил недавно о борцах за свободу в Никарагуа… Вы знаете правду о них, вы знаете, с кем они борются и почему». (Далее, обратите внимание, следует самый вдохновенный и блистательный всплеск президентского красноречия.) «По своему нравственному духу они стоят вровень с нашими отцами-основателями и мужественными борцами французского Сопротивления. Мы не можем отвернуться от них, ибо это борьба не между правыми и левыми, а между правыми и неправыми».
Сравнения с Джорджем Вашингтоном и Томасом Джефферсоном – самыми святыми именами американской истории Рейгану показалось мало. Спустя несколько месяцев он пошел еще дальше: «Многие люди, поддерживающие силы контрас, никогда не называют их контрас, потому что „контра“ – это сокращение от „контрреволюционер“. А термин „контрреволюционер“ использовался там, в Никарагуа, как „сторонник Сомосы“. Это считалось оскорблением для сандиниста. Но, как вы знаете, Сомосы уже давным-давно нет. Революция, которая его свергла, затем переросла в коммунистический переворот, и так называемые силы контрас выступают против переворота. Поэтому в определенном смысле они действительно контрреволюционеры, и благослови их за это бог! И, как я полагаю, именно это и делает их контрас. И тем самым делает контра и меня».
…Никарагуанскую главу книжки я позволю себе закончить этой самой, пожалуй, удачной и самой красноречивой цитатой из еще, к сожалению, не изданного Полного собрания сочинений и речей 40-го президента Соединенных Штатов Америки Рональда Уилсона Рейгана. Первого президента этой великой страны, родившейся в огне великой революции, который открыто и во всеуслышание причислили себя к сонмищу контрреволюционеров.
Браво, сеньор президент! Спасибо за откровенность.