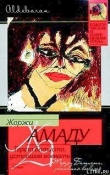Текст книги "По обе стороны экватора"
Автор книги: Игорь Фесуненко
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Долина доволен. Он вновь повторяет, что даже на «Мосфильме» не сняли бы эту волнующую драму лучше, чем это сделал он, скромный труженик советского телевидения. Аккуратно сняв камеру со штатива, он укладывает ее в кофр бережно, как мать кладет в колыбель пресыщенное дитя, оторвав его от груди. И сразу же мы отправляемся обедать, пригласив, естественно, и Аду-Ирис.
Обед превращается в испытание нервной системы Долины. Он надеялся проглотить свою порцию в две минуты, чтобы выскочить из-за стола и продолжать съемку. Он нервничает: солнце то скрывается за тучами, то вновь сияет во всю свою тропическую мощь. Если оно уйдет окончательно, пейзажные съемки, считай, пропали.
А кубинцы относятся к обеду, как к священнодействию. Тем более, когда трапеза проходит вместе с дорогими советскими друзьями, когда хочется поговорить о житье-бытье, расспросить о Москве и рассказать об Эскамбрае. Учитывая эту особенность национального характера, официанты на Кубе – самые неторопливые официанты в мире. Поэтому застольная пытка вместо получаса, как мы надеялись, продолжается около двух часов и наконец завершается монументальными порциями мороженого и неизбежным «кафесито». Проглотив его, Долина вскакивает и первым мчится к машине.
Я напоминаю Рафаэлю, что для полного успеха нашего репортажа об Эскамбрае необходим крестьянин с рассказом о тяжелой доле в предреволюционные времена. Рафаэль отвечает, что крестьянин уже ждет. И прямо из столовой нас везут на самую дальнюю окраину Топеса в небольшой уютный домик престарелого Бартоломео Наранхо Гонсалеса, потомственного земледельца.
Мы устанавливаем камеру в маленьком саду перед домом. Приглашаю Бартоломео присесть рядом со мной на скамейку, он с готовностью садится, берет микрофон, откашливается, и тут выясняется, что он так добросовестно «заинструктирован» местными товарищами и столь тщательно «подготовлен» к выступлению по Советскому телевидению, что интервью у нас с ним никак не получается: Бартоломео неудержимо стремится к глобальным обобщениям, он вдохновенно говорит о нерушимости кубино-советской дружбы, о величии братского советского народа. Все это правильно, все это очень хорошо. Но мне-то хочется, чтобы с экрана прозвучал рассказ крестьянина о себе самом, о своей семье, о своей доле. Бартоломео говорит о революции и Фиделе, а я, покачав согласно головой, переспрашиваю: «Ну а сам-то ты, Бартоломео, что ты получил от революции?..» Он внимательно слушает меня, кивает головой и все тем же хорошо поставленным голосом отвечает, что в крае была проведена аграрная реформа, построено несколько десятков животноводческих ферм, созданы школы, ликвидирована неграмотность, страна успешно строит новую жизнь…
Где-то с четвертой или пятой попытки, когда Долина уже близок к истерике и кричит, что он так работать не может, пленка кончается, и нельзя на каждую «говорящую голову» расходовать по километру ленты, мне наконец удается «приземлить» Бартоломео: вместо «мы» он говорит «я».
Вот ведь в чем иногда оказывается секрет успеха! Кажется, ерунда, кажется, мелочь, но в этом-то все и дело: суметь заставить человека вместо «мы» сказать «я».
Спущенный с трибуны на землю и переставший ощущать на своих плечах ответственность за правильное изложение революционного пути всего своего народа, старый крестьянин успокаивается и начинает говорить тихим и спокойным, нормальным человеческим голосом.
Он говорит, а у меня перехватывает дыхание и в горле вдруг появляется комок: я чувствую, что его бесхитростный рассказ становится самым интересным из всех, какие я снимал до сих пор на Кубе. Тут не нужно будет придумывать «оживляж», изобретать дополнительные иллюстративные планы. Чувствую, что это тот редкий случай, когда вопреки всем традициям и учебникам долгое интервью будет воспринято телезрителями так же, как его воспринимаю сейчас я: не переводя дыхания и с комком в горле.
Всю свою жизнь влачил Бартоломео жалкое существование. Перебивался кое-как. Рубил тростник, работал на табачных плантациях, делал все, что подвернется под руку, никогда не имел постоянной работы и не ощущал уверенности в завтрашнем дне. Шил, никогда не наедаясь досыта, никогда не высыпаясь и никогда не чувствуя себя спокойным и беззаботным. «Ты понимаешь, сынок, что это за жизнь, когда год, другой и десять лет подряд ты ни разу не можешь поесть досыта?.. Ну сам-то ты – это еще не так страшно. Но ведь ты видишь, что и дети твои тоже год, другой и третий ни разу не ложатся спать сытыми…» Поэтому Бартоломео воспринял революцию очень просто и ясно: как избавление от каторги. И ушел добровольцем в колонну Повстанческой армии, которой командовал Че Гевара, а после победы вернулся сюда же, в Топес де Кольянтес.
Чем занимается сейчас? Да все тем же: плантации, огород. Ведь он понимает толк в сельском хозяйстве, вот и служит революции, как умеет.
В чем разница его жизни сейчас по сравнению с тем, что было раньше?.. Разница простая: раньше он работал на хозяев-латифундистов, которые платили ему ровно столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду. А сейчас он работает на приусадебном участке педагогической школы, получает гарантированный заработок. Революция дала ему новый дом. С холодильником. Не говоря уже о приемнике и электропатефоне. «Ты можешь себе представить, сынок, крестьянина на Кубе до революции с электропатефоном?.. То-то и оно». Нет, сейчас совсем другое дело! Он, Бартоломео, стал человеком не только сытым, но и уважаемым. Он знает, что его труд нужен революции, и он работает, не жалея сил, работает для себя, для своих детей, для учащихся школы, которые ему – как дети, потому что все они – дети крестьян и рабочих.
Спрашиваю, сколько у него у самого детей.
– Семеро. Да, семеро. Раньше прокормить столько ртов было невозможно. Сейчас – другое дело. Правда, почти все дети стали взрослыми и сами кормятся. Кем они стали? Пожалуйста, – и он перечисляет, загибая черные, заскорузлые пальцы с навечно въевшейся в кожу землей: старший сын – офицер, военный переводчик. Переводчик с русского, между прочим. Другой сын – инженер-гидравлик, работает здесь, в Эскамбрае. Третий сын – механик, учится на инженера. Четвертый – токарь, работает на фабрике, построенной после революции. Есть еще взрослая дочь. Она заведует промтоварным магазином в Топес де Кольянтес. Двое младших ходят еще в школу.
– А если бы не революция, кем были бы ваши дети?
Бартоломео машет рукой и смеется:
– Рубили бы тростник, помирали бы с голоду вместе со мной. И уж наверняка не ходили бы в школу. У нас тут, в Эскамбрае, никогда никаких школ не было. Не то, что теперь.
Бартоломео вздыхает, вытирает мокрый лоб тыльной стороной руки. Вопросительно смотрит на меня. Чувствую, что в кассете у Долины пленка уже на самом конце, и потому прекращаю интервью. «Спасибо, отец, – говорю. – Все получилось хорошо». Виталий снимает камеру со штатива, тоже вытирает лоб усталым движением руки и шепчет мне, что еще одно такое интервью – и у нас не останется пленки. Отвечаю ему, что даже если мы больше ничего не снимем в этой поездке, рассказ Бартоломео полностью оправдал ее.
Старик приглашает нас в дом и с гордостью показывает телевизор, холодильник, приемник. Потом достает семейные альбомы, рассказывает о каждом из детей. Кто болел коклюшем, кто – дизентерией. Этого, непослушного, частенько приходилось наказывать. А вот – надежда и опора семьи. С десяти лет – это было еще до революции – пошел работать. Приносил в дом какие-то, хотя и скудные, но нужные песо.
Жена Бартоломео, молчаливая старушка, приносит кофе. Пьем, вдыхая его терпкий аромат. Толстая черная кошка разлеглась на стопке грампластинок, недоверчиво поглядывая на заполнивших маленькую «залу» гостей. А со стены глядят на нас фамильные портреты всей династии Бартоломео Наранхо Гонсалес: дедушки, бабушки, тетушки, племянники и племянницы.
Уютно и прохладно в этом чистеньком доме, и совсем не хочется покидать его. Посидеть бы часок-другой, отдохнуть от суматохи. Но Виталий озабоченно шепчет, что солнце уже почти ушло, а у него еще нет перебивок, чтобы положить их на интервью со стариком. Нужно доснять внешний вид дома и окрестный антураж: огороды, шоссе, по которому бредут задумчивые ослики и урчат, поднимаясь в гору, грузовики, наполненные бананами и сахарным тростником.
Прощаемся и выходим. Машины наши стоят перед домом в тени. Виталий просит отогнать их подальше, чтобы не лезли в кадр, и принимается жужжать «арифлексом», снимая детишек, огороды, грузовики, горы, дорогу.
Не проходит, впрочем, и десяти минут, как он подходит ко мне и со вздохом говорит:
– Все. Больше сегодня не снимаю ни кадра: руки дрожат, и ошибся сейчас сразу на две диафрагмы. Видать, пришел конец моим силам.
Влезаем в машины и отправляемся в Тринидад, где нам надлежит заночевать.
Тишина. Рокот моторов. Серым серпантином спускается к океану дорога. Хорошая дорога… Лишь изредка вздрогнет «альфа-ромео» на чуть заметной выбоине асфальта. И снова размеренный шелест шин и пение ветра в открытых окнах машины. Мы молчим. Каждый думает о своем.
Странное дело: после окончания работы, которая кажется тебе удавшейся, после интересной съемки или хорошего интервью, особенно такого, каким получился разговор с Бартоломео, настроение обычно бывает приподнятым, чувствуешь удовлетворение. А тут ловлю вдруг себя на странном и необъяснимом ощущении опустошенности и недовольства.
Может быть, устал? Третьи сутки не вылезаем из машины, колесим по жаре, гонимся за солнцем, за временем, за погодой. Может быть, именно поэтому в голову лезут всякие черные мысли и сомнения. Появляется неуверенность и раздражение: разве можно вот так, на лету, в лихорадочной спешке сделать что-нибудь интересное и глубокое? В конце концов, что человек может успеть сказать в коротком интервью, которое делается чуть ли не на бегу? Виталий крикнет: «Мотор!» Зажужжит устрашающе камера, в глаза ударит свет ламп или этих дурацких подносов, человек выпалит заранее отрепетированные фразы и вздохнет с облегчением. Разве это работа?..
Остаться бы здесь на недельку, побродить по улочкам этого Топес де Кольянтес, посидеть в его сквериках, прислушиваясь к негромкому говору старичков, вышедших перед сном подышать воздухом, понаблюдать за воркованием парочек, за щебетанием детишек.
Чтобы толково писать о людях, нужно сначала присмотреться к ним, суметь понять их. А что узнал я о жизни старика Бартоломео? Или этой девочки Ады-Ирис? Что я увидел, что понял об этом городке, кроме того, что раньше люди здесь жили плохо, а теперь живут хорошо? В конце концов вся Куба раньше жила плохо, а сейчас живет хорошо, а завтра будет жить еще лучше. Но чтобы узнать только это, достаточно было почитать газету там, в Гаване, и совсем не стоило приезжать сюда.
Чем отличается жизнь этих людей, затерянных в горах Эскамбрая, от жизни рыбаков Кохимара, табаководов Пинар дель Рио или мачетеро Матансаса? Есть же все-таки что-то такое, что отличает этих людей от соотечественников в других провинциях острова?
Вспоминаю, насколько проще было работать в Бразилии, где не висел надо мной как дамоклов меч такой жесткий график, никто не требовал от меня передавать материал в Москву не реже трех раз в неделю, как это приходится делать сейчас в Гаване, где можно было уехать на неделю, а то и на месяц в какой-нибудь Манаус и спокойно понаблюдать там за людьми, за их жизнью. Беседовать, не думая о блокноте и магнитофоне, не пугая собеседников торжественной церемонией установки света и замерами экспозиции. Присматриваться и прислушиваться… Как это было однажды, когда я прожил около двух недель в амазонской сельве вместе с братьями Виллас-Боас среди индейцев. И эти две недели дали мне возможность написать книгу. По-моему, лучшую из моих книг. Да, пожалуй, только в такой атмосфере и можно сделать что-то такое, что способно оставить след в памяти людей… Что может тронуть, взволновать или хотя бы заинтересовать их. Если поверить, что журналистика – это тоже творчество, то разве можно творить на бегу? «Служенье муз не терпит суеты». Не терпит погони за солнцем, не выносит графиков и расписаний, не укладывается в смету командировки, в предусмотренный инструкцией метраж пленки.
Но, с другой стороны, разве за тем посылают тебя за тридевять земель, чтобы ты терпеливо поджидал, когда тебя осенит вдохновение? Чтобы не торопясь погружался в «местную жизнь», «изучал материал», неделями и месяцами вынашивал свои гениальные опусы, которые должны будут «глаголом жечь» сердца твоих современников и потомков?..
Может быть, следует искать какую-то золотую середину? Или тебе просто не хватает опыта, профессионализма, и ты пытаешься замаскировать свою бездарность жалкими оправданиями и ссылками на несовместимость спешки и творчества?
– …Ну а вот это вы не можете не снять, если хотите, чтобы ваш репортаж об Эскамбрае получился интересным, – прерывает мои размышления Габриэль. Машина останавливается у невысокой серой пирамиды над могилой, обнесенной оградой. Точно такие могилки разбросаны у нас вдоль подмосковных, белорусских и украинских дорог, точно такие же высятся над ними пирамидки с именами солдат, покоящихся там со времен войны.
Вылезаем из машин. Подзываю Виталия, объясняю ему задачу, и он берет камеру, забыв о клятве не прикасаться к ней сегодня больше ни разу.
Это действительно нельзя не снять: мы стоим перед могилой того самого знаменитого команданте Мануэля Фахардо, погибшего здесь, в Эскамбрае, в борьбе с бандитами, о котором сегодня утром вспомнил Мигель Пухоль Вальдивия.
Я хорошо знаю историю его жизни, драматической, ставшей легендой. Слышал об этом человеке от многих кубинцев. Он был врачом-хирургом в городке Мансанильо на западе провинции Ориенте. Когда началась революция, Мануэль без колебаний примкнул к ней и занялся опаснейшим делом: лечением раненых бойцов Фиделя. Почему опаснейшим? Потому что, помещая партизан в госпиталь – обычный госпиталь, где на соседней койке может оказаться чиновник диктаторского режима или полицейский – приходилось выдавать их за больных, за крестьян, ставших жертвами несчастного случая или автомобильной катастрофы.
А ведь и в городе, и в самом госпитале среди медицинского персонала немало было соглядатаев. Попробуй объясни, что пациент с пулевым ранением в голову – всего-навсего неосторожный автомобилист! Короче говоря, батистовская полиция заинтересовалась Мануэлем и его пациентами, и ему пришлось уйти в горы к Фиделю.
После победы революции Фахардо остался в Ориенте и был назначен начальником военного госпиталя в Сантьяго, затем руководил сельским хозяйством в одной из зон Ориенте, потом возглавил строительство школьного городка имени Камило Сьенфуэгоса. Можно, конечно, удивляться тому, что квалифицированнейший врач стал вдруг командовать кооперативами и строить школы. Разве после революции не стало больных? И разве народу уже не нужны были руки хирурга? Видимо, дело было в том, что революции очень не хватало тогда руководящих кадров и нужно было уметь делать все. И Мануэль умел делать все, что требовала революция. В 60-м году она его послала в Эскамбрай и поставила руководителем ЛКБ.
А 30 ноября того же года вражеская пуля подстерегла его на одной из горных дорог Эскамбрая. В этот день ему исполнилось ровно тридцать лет.
Молча стоим мы у памятника. Молчит Диосдадо, молчат Феликс и Габриэль. Только Виталий не стоит рядом с нами: оператор никогда не имеет права на эмоции, не относящиеся к процессу съемки. Багровое солнце уже коснулось горизонта, нельзя терять ни минуты, и он снимает обелиск и чуть увядшие цветы на сером граните. А фон у этого плана неожиданно получается жизнерадостный: детишки, беззаботно гоняющиеся друг за другом вдоль серой могильной ограды.
Долина вопрошающе смотрит на меня: не разогнать ли ребят, чтобы они не ломали само собой напрашивающуюся патетику этого кадра? Нет, не стоит, отвечаю я взглядом. Наоборот… Разве не ради счастья этих детей погиб Мануэль Фахардо? Поэтому «и пусть у гробового входа младая будет жизнь играть».
Ребята, еще не заметившие, что их снимают, прибежали из находящейся неподалеку, метрах в двухстах, школы. Маленький серый барак на один, максимум два класса, словно одинокий корабль, застыл посреди степного моря.
И как это делается на кораблях с заходом солнца, в школе этой тоже только что опустили с флагштока красно-бело-голубой кубинский стяг. Сверкнул и угас последний солнечный лучик. Ночная тень укрыла стоящий перед бараком бюст борца за независимость Кубы Хосе Марти. На западе небо еще светится багрянцем, а на востоке уже замигали первые звезды. День кончился. Съемки тоже. На этот раз окончательно.
Мы снова забираемся в машины и едем в Тринидад, до которого отсюда рукой подать. С гор, оставшихся за спиной, сползают на ночлег в долину черные бархатные облака.
«…или солнечный луч»
Зовут его Бенито Ортис. Встречает он нас на пороге крошечного деревянного домика. Протягивает руку и улыбается широко и открыто, как улыбаются только дети или старики. У него черное морщинистое лицо, короткие курчавые волосы, которые когда-то очень давно тоже были черными, а теперь ослепительно белы. У него высокий огромный лоб. Лоб философа или поэта. Люди с таким лбом должны быть величаво-рассудительными. А Бенито возбужден, экспансивен и беспокоен. С поразительной для его возраста стремительностью мечется он по комнате, размахивает руками, восклицает, встает со стула, снова садится. Не дослушав вопроса, начинает говорить, не докурив одну сигарету, бросает ее и закуривает следующую. Потом тянется к длинной черной сигаре и с каким-то веселым ожесточением принимается грызть и сосать ее, не замечая, что она давно потухла.
Я осторожно присаживаюсь на край топчана, заваленного листами рисунков и коробками акварельных красок. Магнитофон поставить некуда. Мы отправляем его под угрожающе скрипящий стол. Три ноги штатива шагнули от стены до стены, и теперь ни войти в каморку, ни выйти из нее невозможно.
Долина озабоченно качает головой, рассматривая гнилую проводку под плохо оштукатуренным потолком и пытаясь представить себе, что произойдет, если в едва держащуюся розетку включить наши тысячеваттные лампы. Взлетит на воздух не только этот домик, но, по крайней мере, половина Тринидада. Наш осветитель выходит на улицу, расталкивает с помощью Габриэля и Феликса толпу мальчишек и женщин, сгрудившихся у дверей домика Бенито, и пытается подключиться прямо к уличной сети. Черная камера уставилась на нас равнодушным оком объектива. В комнатке плавает сизый дым сигар, Бенито испуганно смеется и зажмуривается, когда лампы вспыхивают, ослепляя его нестерпимым светом.
Бесполезно репетировать, бесполезно объяснять, чего мы хотим. Остается только одно: включить микрофон и погрузиться в этот странный и сбивчивый монолог, напоминающий непрерывный каскад восклицаний, междометий, сопровождаемый жестикуляцией и возгласами беспричинного изумления.
Сколько ему лет? Много, очень много. Он снова смеется, рассказывает о больной руке, перебирает крючковатыми, узловатыми пальцами, потом считает что-то про себя и сообщает, что родился, смешно сказать, в девяносто шестом году. Ого! Стало быть, сейчас, в семьдесят четвертом, ему же семьдесят восемь! Нет, мальчик, не семьдесят восемь, а семьдесят семь! Семьдесят восемь будет только в апреле. А сейчас у нас январь… Да, да! «Стало быть, я еще не старый, я еще поживу, вот увидишь, амиго».
Его отец был фельдшером, мать – повитухой. Принимала роды. Благодарили ее кто чем мог, чаще всего работала мать «за спасибо». Но жили они не так чтобы очень уж бедно. Бенито смог даже учиться в школе. До пятого класса. А что? Пятый класс – это по тем временам была академия, да, да! Правда, в эту академию он бегал босиком, но это не беда, зато научился читать и писать. Да и считать тоже! Что делал потом? Все делал. Тростник рубил, как все тринидадцы. С двенадцати, кажется, лет. А может, и раньше. Сейчас он уже этого точно не помнит. Помнит, что в период между сафрами учился на сапожника. Что значит «учился»? Ну, бегал мастеру за пивом. Разносил по домам исполненную работу. Зарабатывал, между прочим, шесть песо в месяц. Не каждый мальчишка умел столько зарабатывать!
Немножко подрос и пошел на сентраль – так на Кубе зовутся сахарные фабрики – «Санта-Изабель», оттуда на сентраль «Тринидад». На этой сентрали его ошпарило кипятком. Сильно ошпарило. Кожа на всей спине слезла, а потом наросла заново.
Ну а с двадцать пятого года подался он в картейро – почтальоны. Хорошая работа! Ходишь по улицам, стучишь в двери. «Вам письмо! Из Гаваны. От сына. А вам – от отца, который уехал на заработки в Ориенте». Прекрасная работа – быть картейро! Все тебя знают, все уважают. Каждый рассказывает о новостях, что в письмах написаны. Многие, кто читать не умеет, просят почитать. Помнится, однажды случилась эпидемия, и все картейро в городе заболели. Четырнадцать дней подряд, смешно сказать, он был единственным почтальоном на весь Тринидад. Четырнадцать дней и ночей без отдыха ходил по всему городу. Стук-стук, вам письмо! – «Дона Амелия, как живете? Что пишет сын из Гаваны? Пишет, что устроился на железной дороге: путевым обходчиком». – «А у вас как дела, дона Хосефина? Как поживает ваша дочка? Вышла замуж? За лейтенанта? Значит, ей повезло! Поздравляю! К рождеству будут в гости? Ого, уже с внуком? Молодец девочка! Зайду навестить и выпить за ее здоровье».
…Я слушаю его, закрываю глаза и представляю себе, как это было. Как шел он по городу, молодой, стремительный негр, поигрывая тяжелой кожаной сумкой, стуча каблуками по отполированным булыжникам и постукивая палочкой по чугунным решеткам скверов. Как ловко огибал стоящие посреди тротуара фонарные столбы и оглядывался на коренастых мулаток с корзинами белья на голове и на бледнолицых барышень под кружевными зонтиками. Как уверенно открывал калитку каждой усадьбы и приветливо свистел собакам, которые сначала, не узнав, встречали его заливистым лаем, а потом замолкали и смущенно, в знак извинения помахивали хвостами и прыгали ему на грудь. И в каждом доме его ждали, в каждом доме ему были рады.
Так он работал 39 лет. Да, да, 39! Хотите – верьте, хотите – нет, но во всем Тринидаде не было почтальона, который бы так долго работал. Да что там в Тринидаде! Наверное, на всей Кубе второго такого почтальона не было. Тридцать девять лет, как один день, по улицам Тринидада. Даже сейчас, закрыв глаза, он – смешно сказать, но это так – назовет вам по порядку все номера домов на всех улицах города и скажет, кто живет в любом доме. Тридцать девять лет подряд – по улочкам, мощенным круглым булыжником, по земляным мостовым, по узким тротуарам. Ведь город – его друзья, за каждой дверью – чашечка кофе и ласковая улыбка.
– Какие новости, сеньор Бенито? – Да, да, его называли сеньором!..
– Вы спрашиваете, сеньора, какие новости? В Европе опять война…
– Это же прекрасно! – восклицает сеньора. – Значит, наш сахар опять подорожает, и мы заработаем хорошие деньги! Может быть, эта война продлится подольше?
– К несчастью, сеньора, это именно так может и случиться. Ведь война не только в Европе: воюют японцы с американцами, немцы напали на Россию.
– Ну и пускай себе воюют, главное, чтобы покупали наш сахар! – заключает сеньора, нетерпеливо разрывая конверт и одаривая Бенито монеткой.
А время идет. Идет и уходит под стук башмаков о гладкие булыжники мостовых.
– Что нового, сеньор Бенито? Говорят, американцы сбросили на Японию какую-то страшную бомбу? Уже заключили мир?.. Бенито, вы не слышали: скоро ли снова начнется там, в Европе, война? Цены на сахар падают так быстро, что если не будет войны, мы все обанкротимся.
– Послушайте, уважаемый Бенито! Что это за история там, в Ориенте? Говорят, война началась у нас, в Сьерра-Маэстре? Боже, чем все это кончится?..
Он носил письма и телеграммы, в которых появлялись новые слова, новые имена и названия: Фидель, Монкада, Сьерра-Маэстра. Мир менялся, страна менялась, и даже Тринидад начал меняться, хотя поначалу отцы города надеялись, что горы Эскамбрая защитят их от бушующего в стране шторма.
Не защитили… Многие из «отцов города» – Бенито помнит и таких – оказались в Майами в надежде на то, что вскоре все утрясется.
Не утряслось… Вместо сбежавших чиновников и толстосумов в городе и округе появились студенты с зелеными лампами, обучавшие грамоте стариков, детей и всех, кто не умел читать и писать. Бенито и им носил письма от родителей из Гаваны и Сантьяго. И прислушивался к их рассказам о том, что происходит в стране. А потом рассказывал все это остальным тринидадцам.
Потом, в шестьдесят четвертом, ему вышла положенная пенсия! Ого, пенсия! А что, разве он ее не заслужил? Попробуй-ка отмахать без малого сорок лет по булыжнику!
Да, назначили ему пенсию. Сколько ему тогда было? Шестьдесят восемь. Разнес он в последний раз письма. Выпил чашечку кофе в каждом доме. Пожал тысячи рук. Вытер слезу. Все? А что теперь? Смешно сказать, но нечего делать. Только ждать перевода из банка.
Ждать, правда, пришлось поначалу довольно долго. Месяц, другой. Не наладилось еще тогда это дело с пенсиями.
Подождал он, подождал и пошел сам за деньгами. Почему бы и нет, раз все равно делать нечего? Пришел в банк, на Аламеду. Народу – видимо-невидимо. Вышел на улицу, решил подождать на скамейке. Сидел, сидел. День был солнечный, тихий. Девочки играют маленькие. Матери сидят с малышами на руках. Старички с газетами. Жизнь идет. А ему, Бенито, хотите – верьте, хотите – нет, нечего делать… И ведь действительно нечего!
Почему-то оказалось у него в тот день с собой старая тетрадка и карандаш. Раскрыл он ее, да и начал рисовать.
Рисовал, рисовал, да так увлекся, что забыл про деньги. Именно забыл: ушел домой без денег. Просто смешно сказать!
– А раньше, Бенито, ты рисовал когда-нибудь?
– Раньше? Конечно, нет! Как же это картейро может рисовать? А кто тогда будет письма носить, а?.. То-то. Еще бы: целый день ведь с сумкой по городу. С утра до вечера. Нет, раньше не рисовал. И в голову такое не приходило. А тут вдруг понравилось. Да, да, очень понравилось: пришел домой, сел за стол, достал бумагу, стал рисовать дальше.
«Стал рисовать дальше…» Видно, что-то в нем проснулось: с того похода в банк, а было это, напоминаю, в шестьдесят четвертом, не прошло и дня, чтобы Бенито не рисовал. Каждый день, с утра до часу, двух, а то и трех ночи. Потом ложится спать, утром встает, читает газету и снова берется за краски.
Не было нужды спрашивать, что он рисует. Все стены его каморки увешаны акварелями. И на всех – Тринидад. Сказочный, похожий и непохожий на город, который мы только что видели. Город, утопающий в садах. Яркий, солнечный город, который может привидеться в радостных снах мальчишке, вернувшемуся с первого свидания. Город, о котором мечтаешь, когда уезжаешь на чужбину. Город – песня.
…Город, по улицам которого он ходил 39 лет, словно выплеснулся на его акварельках в буйстве красок, в причудливости композиций. Тридцать девять лет Бенито, сам того не ведая, копил день за днем в своей душе образы своего Тринидада. Черепичные крыши, красные, словно раскаленные солнцем. Строгие колонны кафедрального собора. Желтые стены дворца Брунет. Решетки. Фонари. Ослики, покорно несущие свою поклажу. Пересохшие фонтаны в скверах, где шумит детвора и судачат черные няньки в белых передниках.
– А почему ты, Бенито, рисуешь только Тринидад?
– Почему? А я не знаю почему. Рисую, что вижу. И что видел раньше. Мне это нравится.
Да, конечно, он прав; человек рисует то, что видит, то, что знает, то, что любит. Я ведь тоже пишу сейчас о Кубе, а не о Японии и не о Новой Зеландии.
Продолжая перебирать акварели, вдруг вижу на его шатком столе среди бесчисленных видов Тринидада что-то необычное.
– А это что такое?
– Где? А, это Фидель. В горах Сьерра Маэстры.
Горные вершины на этой акварели не впечатляют высотой: они примерно до пояса Фиделю. Но, видно, таким и должен быть, по мнению Бенито, Фидель: выше гор, головой – почти до солнца, подпирающий плечами небо.
– А вот еще Фидель: на суде после Монкады.
Этот Фидель уже не парит над горами. Он стоит на трибуне лицом к лицу с батистовскими судьями и произносит свою знаменитую речь «История меня оправдает». За портретным сходством Бенито, очевидно, не гнался: без подписи было бы просто невозможно предположить в этом ораторе Фиделя. Хотя замах руки был, бесспорно, его: широкий, неудержимый, словно пригвождающий продажных прислужников диктатора. Пытаясь задержать этот порыв, на первом плане – охранник: тупая физиономия, черная винтовка, перечеркнувшая, как злая тень, фигуру Фиделя.
…Очень трудно рассказывать об акварелях Бенито. Удивление, недоверие, ирония – таковы чувства, которые охватывают тебя, когда видишь их впервые. Неуемное буйство красок, полное попрание академических законов перспективы. Если присмотреться, можно обнаружить, что человек у него вдруг оказывается ростом с колокольню, три девицы в двухколесном китрине кажутся крошечными куколками. Кстати, о китрине. Таких колясок давно уже нет в Тринидаде. Почему же Бенито все еще рисует их? Почему бы не изобразить вместо них какой-нибудь «мерседес» или «Волгу»?
– Нет, автомобиль – это вещь новая, современная, а город наш старинный. Ему больше идет коляска.
Вот оно что: стало быть, Бенито – ревнитель традиций, охранитель святой старины? Ну а Фидель в Сьерра Маэстре? И на суде? А высадка с «Гранмы» на Плайа-де-лас-Колорадос?
– Это совсем другое дело, – лукаво улыбается Бенито. – Это не Тринидад. Это новая жизнь, революция. Да, да!.. И почему бы мне ее иногда не рисовать тоже? А Тринидад пускай останется Тринидадом: со своими фонарями, решетками, колясками и пальмами!
…Он опять прав, этот неугомонный и мудрый старик: именно так решило революционное правительство. Спустя некоторое время после нашей встречи с Бенито в Гаване был подписан декрет о превращении Тринидада в город-музей национальной архитектуры и культуры. И вместе с тем в один из главных туристских центров страны. Именно этим занимаются сейчас местные власти.
В городе запрещено воздвигать здания, ломающие архитектурный ансамбль, все реставрационные, восстановительные работы, не говоря уже о перестройках, могут выполняться только под контролем специалистов. Тщательно восстанавливаются памятники архитектуры.
С каждым годом обогащается коллекция «Романтического музея» во дворце Брунет. И вместе с предметами старого быта, мебелью, украшениями, старинными гобеленами в нем собраны акварели Бенито Ортиса, трогательные и наивные в своей безыскусности и чистоте.