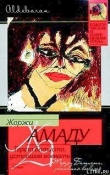Текст книги "По обе стороны экватора"
Автор книги: Игорь Фесуненко
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Итак, ситуация ясна. Ее легко можно представить себе. Француз, естественно, вне себя от счастья. Скачет взад-вперед по парку в ожидании, когда старца вывезут на свет божий. Ага! Вон, везут… Слуга медленно катит инвалидное кресло, Салазар дремлет, подставив полуживое лицо теплому солнышку. Коляску ставят в тени на краю бассейна. Слуга, почтительно поклонившись, удаляется. Салазар открывает свой единственный способный что-то видеть глаз, узнает Роланда Фора, который неоднократно интервьюировал его в доброе старое время (именно на правах «старого друга диктатора» Фор и был сейчас допущен в Сан-Бенту), и здоровается слабым кивком головы: «Как поживаете, месье Фор? Я с большим удовольствием побеседую с вами».
Первые несколько минут беседа идет вокруг французских проблем. Фору приходится наклоняться, чтобы услышать слова восхищения великим генералом де Голлем и его достойным преемником Помпиду.
Естественно, французскому репортеру не терпится поговорить о португальских делах. Он спрашивает, каковы сейчас основные направления политики Салазара в своей стране.
Старец шамкает, собирается с силами и говорит, что теперь никто уже не может отрицать, что он был в свое время прав, когда сказал, что нужно ждать, нужно уметь выжидать.
Француз согласно кивает головой. Он понимает, что речь идет о самой больной национальной проблеме, которую, как искренне и гордо убежден Салазар, он решил раз и навсегда. В то время, когда одно за другим рушились колониальные владения европейских капиталистических стран в Африке, Азии и других районах мира, лозунг Салазара был: «Подождем!» Этой формулой маскировался категорический отказ даже обсуждать возможность предоставления независимости Анголе, Мозамбику, Гвинее-Бисау и другим колониальным владениям Португалии, которые даже не именовались «колониями». Они по-прежнему считались «нашими заморскими территориями».
– Мы сохранили наши провинции «Ультрамар» в то время, как масса неразумных политиков отстаивала бездумное освобождение всей Африки. Даже сами американцы стремились изгнать европейские государства из Африки, подобно тому, как они в свое время решили изгнать французов из Индокитая. Хорошо известно, чем это для них кончилось и куда привело…
Старец тяжело дышит, теряет нить беседы и с трудом находит ее снова. Француз буквально трепещет от возбуждения. Того и гляди умрет вместо Салазара от разрыва сердца, вызванного этой неслыханной удачей: самое сенсационное интервью его жизни.
– Так вот, чтобы нас похвалила ООН, мы должны были бы покинуть Африканский континент, который совершенно не может сам собой управлять. Ведь для того, чтобы страна стала независимой, ей необходимы люди: опытные государственные деятели, административные и финансовые кадры. А у африканцев ничего такого нет, и поэтому они совершенно не способны к самоуправлению, – витийствовал немощный инвалид, давно уже потерявший способность управлять самим собой, своими собственными руками и ногами, но все еще преисполненный решимости осуществлять твердое руководство и своей нацией и еще добрым десятком стран и территорий, разбросанных по всему миру.
– И это умение Вашего Высокопревосходительства выжидать сыграло свою роль в конце концов? Пошло на пользу нации?
– А как же. – Салазар даже закашлялся от возбуждения, и струйка слюны, бежавшая из левого уголка рта, оборвалась, а потом побежала снова. – А как же? Весь мир, в том числе и американцы, сегодня полностью согласны с нашим пребыванием в Африке, где мы поддерживаем полный порядок и даже добились некоторого процветания, что особенно заметно в сравнении с такими странами, как Конго, где царит анархия и хаос. И заметьте: наши союзники, которые еще совсем недавно подвергали сомнениям нашу решимость не уходить из Африки, сегодня ликуют из-за того, что мы остались на «Черном континенте». Почему? Да потому, что советский флот бросает вызов свободному миру и в Средиземнорье и в южных морях, и те, кто раньше не соглашался с нами, сегодня весьма довольны, что мы сохранили для них, для всего свободного мира Гвинею, Анголу и Мозамбик, и таким образом наши африканские порты стали чуть ли не единственными, где может теперь найти прибежище судно из свободного мира.
Он закашлялся, закрыл глаза и тяжело задышал. Нелегко даются государственному деятелю заботы о судьбах планеты. Да что там планеты! Провалившаяся в полный маразм и с трудом выныривающая оттуда скользкая медуза салазаровской мысли вдруг неожиданно воспарила к космическим высям:
– Что меня особенно сильно беспокоит в последнее время, так это полеты спутников Земли. Кто может дать гарантию, что, освоив космос, русские не попробуют использовать его как базу агрессии против свободного мира?
Вот уж действительно: ирония судьбы. Вряд ли даже в горячечном бреду Салазар мог предположить, что спустя полтора десятилетия именно в Вашингтоне появится на свет стратегия «звездных войн», а ненавистная диктатору Москва будет выступать в защиту мирного космоса…
«Доктор Салазар, – пишет в своих воспоминаниях Роланд Фор, – говорил очень медленно, голос его был почти неразличим, но французский его был вполне понимаем вопреки тому, что говорили многие.
Его левая рука была полностью неподвижной, она лежала на одной из желтых подушечек. Но, формулируя свою точку зрения по международным проблемам, он изредка открывал правый глаз, и мы видели знаменитый „стальной взгляд“, всепроникающий, иногда иронический и покоряющий».
…Чувствуете, с каким благоговейным трепетом внимал откровениям своего собеседника французский репортер? Но он не был бы французским репортером, если бы удовольствовался только ролью слушателя. Если бы не попытался поинтриговать, понаслаждаться двусмысленностью ситуации и абсурдностью этой беседы. Именно этим неудержимым желанием был продиктован его следующий вопрос, в котором таилась незримая ловушка для интервьюируемого, ибо любой ответ, каким бы он ни был, наверняка давал благодатные возможности для будущих фельетонов, анекдотов или просто похвальбы своей репортерской удачливостью и ловкостью. Фор спросил Салазара:
– А сейчас, во время этой тяжелой болезни, сколь активное участие принимает Ваше Высокопревосходительство в управлении делами государства?
Превосходительство покряхтело и чуть слышно прошамкало, что, мол, приходится пока смириться с тем, что силы еще до конца не восстановлены, поэтому «главной моей заботой сейчас остается стремление обрести прежнюю форму», чтобы полностью вернуться к несению государственной службы во всем ее объеме.
Француз был настырен и находчив. Он спросил:
– Вы принимаете министров прямо здесь?
– Да, здесь. Причем в саду я люблю беседовать с ними даже больше, чем в кабинете.
– Министры регулярно информируют Ваше Высокопревосходительство о проблемах своих министерств? – бил в одну и ту же точку неугомонный корреспондент.
– Да, они являются ко мне с докладами.
– И вы даете им свои директивы?
– Я не отдаю приказов. Решения, которые мы обсуждаем здесь, утверждаются на заседаниях совета министров, возглавляемого пока президентом республики.
– Но все министры нынешнего кабинета были выбраны вами и пользуются вашим безусловным и полным доверием?
– Конечно.
– А если кто-нибудь из них не станет выполнять ваши политические указания, вы отправите его в отставку и назначите на его место кого-либо другого?
– Естественно, – чуть слышно говорит старый диктатор. Глаза его закрыты, но для большей убедительности он делает правой рукой, бессильно лежащей на мягкой ручке кресла, легкое движение. Жест, означающий нечто вроде: «Прочь!»
«Теперь я окончательно убедился, – вспоминал впоследствии Роланд Фор, – что доктор Салазар ни на один момент не допускал и мысли о том, что власть давным-давно уже отобрана у него его другом Америко Томашем, который из деликатности так ничего ему об этом и не сказал».
В этот момент в саду появляется дона Мария – бессменная экономка, домоправительница, горничная, нянька и сиделка Салазара. Она озабоченно глядит на часы: вместо запланированных пятнадцати минут беседа продолжается уже около часа, И тут француз, чувствуя, что его сейчас пригласят закругляться, решает поставить еще один психологический эксперимент. Спокойным, вполне естественным тоном он спрашивает, ничем не выделяя этот вопрос из серии тех, что были заданы до сих пор:
– Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение об одном из ваших прежних министров, докторе Марсело Каэтану. О нем так много говорится в обществе в последнее время?..
– Я хорошо знаю доктора Каэтану, – устало ответствует Салазар. – Он неоднократно входил в мой кабинет, и я весьма ценю его… Он весьма способен, обладает авторитетом, но, к сожалению, в последнее время он не испытывал желания сотрудничать со мной и поэтому сейчас не включен в мое правительство. Он продолжает преподавать в университете, часто пишет мне, высказывая свое мнение о моих инициативах. Не всегда их одобряет. Мне нравится его мужество. Но он не понимает, что для того, чтобы наши идеи обрели жизнь, необходимо участвовать в работе правительства.
– Но ведь я слышал, – иезуитски спрашивает француз, – что это именно вы не пожелали, чтобы он оставался в составе вашего кабинета.
– Может быть, может быть… – устало шепчет выдохшийся старец и снова погружается в беспросветный маразм. Дона Мария прерывает это ставшее последним в жизни Салазара интервью. Через восемь месяцев он умирает, так и не узнав правды.
Мир, в котором нет «порядка»
…А теперь, в июле семьдесят пятого, мы с Бабаджаном молча созерцаем его могилу. Сколько ни суетись человек, как ни цепляйся за власть, как ни уверуй в свое всемогущество, а конец все равно известен: серая плита и шуршащие по ней сухие дубовые листья.
Мысли ушли куда-то далеко в сторону, но в этот момент Алексей толкает меня локтем в бок, возвращая с выцветших небес на пересохшую землю. Я оборачиваюсь и вижу подходящего к нам человека. Судя по всему, это крестьянин из какой-нибудь окрестной деревни. Суровое, морщинистое лицо. На левой щеке глубокий шрам. Черные руки с навечно въевшейся в кожу и под ногти землей. Тяжелые башмаки – «боты», как их называют в Португалии, затертые и застиранные шаровары, пятнистая, сшитая из маскировочной ткани солдатская гимнастерка, войлочная пастушья шапчонка и японский самораскрывающийся зонтик-трость в руках. Алексей отворачивается, пряча улыбку, которая может обидеть незнакомца да и вообще неуместна в таком месте, а я стараюсь придать своему лицу максимально благочестивое выражение.
Незнакомец подходит, снимает шапчонку и вежливо кланяется нам. Мы в ответ тоже склоняем головы и, памятуя, что местный люд не любит лишних расспросов со стороны чужеземцев, вновь переводим взгляд на серую могильную плиту.
– Все там будем, – со вздохом говорит крестьянин и крестится, сплюнув на пальцы.
– Да, – соглашаюсь я. – Только каждый хочет, чтобы это случилось как можно позже.
– Вот и он тоже хотел, – вздыхает незнакомец и, надев шапку, опирается двумя руками на зонтик-трость, словно пастух, наблюдающий за мирно пасущимся стадом.
– Сеньоры издалека будут?..
– Издалека, – отвечаю я и неопределенно киваю головой в сторону мрачнеющих на востоке гор Эстрела, за которыми лежит Испания, потом Средиземное море, Европа и Азия. Незнакомец понимающе качает головой и, демонстрируя традиционную португальскую деликатность, не настаивает на дополнительных разъяснениях. Мы молчим. Тягуче звенят пчелы. Жаркий ветер лениво шелестит сухой травой.
– Пришли поклониться нашему земляку, стало быть? – Он не спрашивает нас, он говорит это с утверждением, и в голосе его слышится нечто, напоминающее гордость старожила, в любую минуту готового вместе с очередным заезжим путником в тысячу первый раз насладиться любимой достопримечательностью родных мест, выслушать вопросы и дать надлежащие разъяснения.
Я изрекаю в ответ нечто нечленораздельное, и он, расценив мою реакцию как само собой разумеющееся замешательство перед суровым ликом Вечности, глядящим на нас из-под серой плиты, не дожидаясь расспросов, неторопливо, степенно, с сознанием важности сообщаемой нам информации начинает рассказывать о том, что мы и без него хорошо знали: как долго жил и как много сделал этот человек, чей прах покоится теперь под серой плитой… Как он трудно и медленно – почти два года! – умирал, не желая уйти в мир, где нет уже земных страстей и страданий, радостей и слез. Где все равны перед суровым оком Всезнающего Судии.
– Скажите, а много людей приходит к нему на могилу? – бестактно прерываю я философские размышления незнакомца. Мне не нужна лирика. Я хочу спустить его с небес на землю, чтобы почерпнуть хотя бы что-нибудь полезное из этой беседы. Отношение местных жителей к скончавшемуся ровно пять лет назад диктатору – это интересная информация. Она может пригодиться в работе, проиллюстрировать дополнительным штрихом сумбурную сюрреалистическую картину жаркого португальского лета семьдесят пятого года.
Словоохотливый собеседник отлично справляется с возложенной на него задачей. Он с готовностью рассказывает, что людей приходит сюда довольно много. Правда, «сразу после этой прошлогодней революции» кладбище на несколько месяцев опустело: «народ присматривался». Побаивались… Мало ли что… Но в последнее время все начинает становиться на свои места: с каждой неделей идут все больше и больше. Теперь могила опять никогда не бывает без цветов. И чем хуже дела в этом «красном Лиссабоне», где коммунисты, похоже, уже совсем прибрали власть к рукам, тем больше народу появляется здесь, чтобы воздать должное великому сыну своей земли.
…Он так и сказал: «великому».
– Дня три назад был здесь даже один «тениенте» – лейтенант. Он принес на могилу большой букет белых роз и сказал: «Прости!.. Я против тебя пошел, но теперь вижу: просчитался. Видно, прав ты был: нам, португальцам, нужна твердая рука. А все эти хунты, коммуны, революционные советы – это все не для нас».
Земляк Салазара мрачно сплюнул и, посмотрев на небо, испросил у господа прощения за это святотатство: плеваться здесь, на этой, можно сказать, священной земле. Шрам на щеке его покраснел от прилива крови. Видимо, и впрямь крестьянин возмущен был непонятными ему «лиссабонскими делами».
Слушая его, я с какой-то пронзительной силой впервые ощутил, сколь бездонна пропасть, разделяющая мятежный и революционный португальский Юг с его аграрной реформой, рабочими комиссиями, кооперативами, национализацией банков и словно противостоящий ему, настороженно затаившийся, напряженно ожидающий, «что там еще выкинут эти коммуны?» Север, готовый в любой момент выпустить когти. Конечно, это деление страны на Юг и Север было в значительной мере упрощенным. Конечно, и на Юге далеко не все было тогда в порядке с точки зрения ревностных активистов апрельской «революции гвоздик». С другой стороны, и на Севере и тогда и теперь немало тех, кто готов биться за революцию, не щадя жизни своей. Но все же, чем больше накалялась революционная ситуация, тем обнаженнее возникало национальное противостояние: Север – Юг. Побудившие его причины уходили корнями в национальную историю: на юге, где в деревнях испокон веков преобладало батрацкое, разоренное, обездоленное нещадной эксплуатацией безземельное крестьянство, коммунисты издавна имели прочные позиции, мощный авторитет и влияние. Север же с давних пор, чуть ли не со средневековья, был краем мелкого землевладения и землепользования, где лепящиеся по склонам и уступам гор небольшие поместья и плантации дробились на арендуемые исполу еще более мелкие участки. У владельцев этих средних, мелких и совсем микроскопических клочков земли издревле складывалась психологическая иллюзия: «хоть маленькое, да мое». Именно иллюзия, ибо для подавляющего большинства «тразмонтануш», «бейроэш» или «миньотуш», как зовут себя жители этих провинций, земля, будучи действительно «маленькой», как правило, не была «своей». Однако сохранявшаяся десятилетиями, а иногда чуть ли не веками система наследственной аренды этих крохотных плантаций, переходивших от отца к сыну, внуку или правнуку, от дядьев к племянникам, от тестей к зятьям, создавала этот мираж, это обманчивое впечатление: «маленькое, да мое»…
– Да, тот тениенте с розами был прав: никакие демократии нам не нужны, – категорически пояснил свою мысль незнакомец. – От них, от демократий, честным мирным людям – один лишь беспорядок, беспокойство и убытки. Нам это не нужно. Нам нужна твердая рука.
Он помолчал, отставил зонтик к ограде кладбища, достал кисет и крохотную вересковую трубку, набил ее табаком и с наслаждением раскурил. В жарком воздухе вкусно пахнуло дымком. Снова опершись на зонтик, как на посох, он назидательно продолжал:
– Что бы там ни говорили в Лиссабоне про нашего его превосходительство, – он кивнул головой в сторону серой плиты, – а в одном отказать ему никак нельзя: при нем в стране были порядок и тишина. И страна была богатая, и войн не было, и коммунистов…
– А что же они вам плохого сделали, коммунисты? – спросил я.
– Как что? – удивленно поднял он брови. – Они же землю у нас отбирают, в коммуны всех загоняют. Хотят, чтобы у нас тут стало так же, как в России, которая до сих пор, вот уже шестьдесят лет после своей революции, не может сама себя прокормить!
Он смотрел на меня с искренним удивлением человека, отказывающегося поверить, что кому-то нужно разъяснять такие элементарные вещи. Чувствовалось, что ему даже жаль меня.
Я уже знал, как это трудно: убедить португальца в чем-либо, что противоречит представлениям и убеждениям, выкованным в его сознании на протяжении десятилетий.
В Санта Комба Дао мы приехали с севера, из Траз оз Монтеш. Не далее, как два дня назад мы снимали сюжет для программы «Время» в маленькой горной до удивления убогой и безнадежно отставшей от бега цивилизации деревушке, где еще даже не знали о существовании телевидения и кино. Ветхая старушка, вся в черном – платок на голове, платье, чулки, башмаки, – долго и сосредоточенно наблюдала за совершенно не понятными для нее манипуляциями Алексея, который, изнемогая от творческого экстаза, суетился, бегал, в поисках лучшей точки припадал к земле и вспрыгивал на каменную ограду, снимая эту крохотную бабусю и ее таких же черных подруг, примостившихся на каменных «завалинках» у своих убогих хибар.
– А ты знаешь, мать, кто эти люди? – спросил ее сопровождавший нас лейтенант Мендонса, славный парень, с которым за два дня совместной работы мы успели проникнуться взаимными и весьма крепкими симпатиями.
– Откуда же мне знать, сынок? – прошамкала старушка и воззрилась на нас слезящимися глазами.
– Так ведь это же русские, бабушка, первые русские люди в вашей деревне…
Он не успел договорить эту фразу: с неожиданным для ее ветхого возраста проворством бабуся перекрестилась и бросилась бежать.
Мы остолбенели. Алексей чуть не выронил камеру. Мендонса растерянно глянул на нас и в три прыжка, как коршун, настиг семенящую по пыли беглянку. Следом за ним подбежал и я, и это вызвало у старушки новый приступ паники. С округлившимися от ужаса глазами она пытается спрятаться за спину лейтенанта.
– Ты что, с ума сошла? – кричит ей Мендонса.
– Нет, нет, – шепчет она, цепляясь за офицерскую гимнастерку.
– Да что с тобой стряслось?
Не понимая, что происходит, но чувствуя, что именно я служу причиной этого необъяснимого возбуждения, делаю несколько шагов назад.
Старушка заметно успокаивается. Лейтенант встряхивает легонько ее за плечи:
– Так в чем же все-таки дело?
– Они… Они… – шепчет старушка, показывая глазами в нашу сторону.
– Ну что они?
– Они… правда русские?
– Да, конечно, а что? – спрашивает лейтенант.
– Да, да, мы – русские, – подтверждаю с самой искренней и доброй улыбкой, на которую только способен. И делаю шаг вперед, пытаясь восстановить атмосферу дружелюбия и мирного сосуществования. Увы, бабуся вновь вцепляется в рукав лейтенанта и опять пытается спрятаться за его спину. Я останавливаюсь. Она успокаивается.
– Черт знает что! – горячится Мендонса. – Ты объяснишь мне наконец, мать, что с тобой происходит?
– Так ведь… – Старушка встает на цыпочки и что-то шепчет в лейтенантское ухо. Шепчет истово и жестикулирует рукой. Мендонса слушает ее и вдруг разражается хохотом.
– Ну, мать…
Я вопросительно смотрю на него. Он нежно обнимает старушку за плечи и говорит ей:
– Не бойся, я точно знаю, что они не привезли с собой шприц.
Потом объясняет мне:
– Видишь ли, местный священник говорил им, что в России введен закон: «Кто не работает, тот не ест».
– Все правильно, – говорю.
– Правильно-то правильно, – говорит Мендонса, – но святой отец пояснил им, что в соответствии с этим законом в Советской России каждому человеку, когда ему исполняется шестьдесят лет и он перестает быть трудоспособным, врачи делают укол за ухо, чтобы он, раз уж не может работать, безболезненно отправлялся в лучший мир и не мешал трудящимся, не висел у них на шее. Вот так…
Поскольку я не проявляю видимых признаков агрессивности, бабушка успокаивается, отпускает руку Мендонсы и отряхивает с подола пыль. Потом внимательно глядит на меня, на стоящего поодаль Алексея с камерой и на мою жену, соображая что-то про себя. И говорит лейтенанту уже не на ухо, а осмелев, во весь голос:
– Пожалуй, однако, ты меня обманул, сынок: они – не русские.
– Это почему же ты так думаешь?
– А как же? Ты посмотри на них: одеты они очень прилично и каждый по-разному. У этого рубаха синяя, а у того, что там, сзади, серая.
– Ну и что?
– А то, – назидательно ответствует окончательно пришедшая в себя бабуся, – что падре наш рассказывал, как в России государство выдает каждому из людей одинаковую одежду раз в год: рубаху, штаны и пиджак. Одного цвета. А та сеньора, – она кивнула головой в сторону жены, – так она вообще одета, как наши городские. Разве так бывает в России?
И она глядит на лейтенанта чистым, незамутненным взором, словно отказываясь принимать его неуместную шутку о русских, вдруг появившихся на этой мирной, богобоязненной земле.
…Не буду рассказывать о том, каких трудов стоило нам убедить старушку в том, что хотя мы и впрямь являемся русскими, но никакой опасности для нее самой и ее земляков не представляем. Вспомнилась она мне, когда слушал я спокойную, рассудительную речь крестьянина с японским зонтиком у могилы Салазара. И подумалось: сколько же таких гадостей и мерзостей ежедневно и ежечасно рассказывается о нас во всем мире! Сколько нетерпимости и ненависти к русским прививают темным людям батюшки с амвонов и ораторы с трибун, телевизионные комментаторы и кинематографические джеймсы бонды… И поэтому нет ничего удивительного в том, что когда в далеком Лиссабоне случилась шумная и непонятная «революция гвоздик», рухнул руководимый «твердой рукой» привычный мир, в котором «был порядок», эти вскармливаемые годами и десятилетиями чувства, эти дикости, засаживаемые в головы школьников и старух, ожили здесь, на португальском Севере – в Санта Комбе, в Брагансе, в Браге. Ожили и вскипели благородным гневом.
…Распрощавшись с крестьянином, оставшимся у кладбища в Санта Комбе, мы проехали через этот городок, задержавшись на несколько мгновений у оплетенного виноградными лозами маленького одноэтажного домика под красной черепицей. Домик скромный и простой: одна дверь, три или четыре окна. В нем родился и жил в юности человек, покоящийся теперь под уже знакомой нам серой плитой. Домик этот – не единственная в Санта Комбе память о знатном земляке, ухитрившемся побить все европейские рекорды по долголетию пребывания у власти. В центре города, рядом с высокой голубой пинией перед зданием Дворца правосудия стоит его статуя. Если говорить точнее, не «стоит», а «сидит»: диктатор высечен из гранита сидящим на широкой скамье-пьедестале без спинки. Уверенно, по-хозяйски расставил он ноги и оперся руками о пьедестал. Голова его была чуть наклонена вперед, и полуприкрытые веками глаза смотрели не на прохожих, а куда-то внутрь самого себя…
…Впрочем, о «наклоненной вперед» голове и о «полуприкрытых веками глазах» я рассуждаю чисто теоретически, вдохновляясь старой дореволюционной открыткой, запечатлевшей монумент. А в тот июльский день семьдесят пятого года, когда по пути в Коимбру мы задержались на минутку возле этого монумента, у задумчивого старика уже пять месяцев как не было головы: «Охваченные революционным восторгом массы», как писала об этом одна из лиссабонских газет, еще в феврале отколотили у статуи голову. Заметьте: в феврале семьдесят пятого! То есть спустя целых десять месяцев после апрельской революции семьдесят четвертого года. Десять месяцев творение скульптора Леопольда де Алмейды оставалось нетронутым. Сейчас уже трудно сказать, в чем причина такой многозначительной задержки. То ли местные люди ждали, как повернутся события, то ли отколотили голову вообще не местные люди, а пришлые с юга активисты «революции гвоздик». Теперь это не так уже и важно и не столь интересно. Важнее и интереснее тот факт, что между широко расставленными башмаками «хозяина» лежит букет цветов… Стало быть, даже сейчас, когда с точки зрения осторожных и рассудительных «бейроэш» дела в Лиссабоне идут «в сторону коммуны», даже сейчас здесь, в Санта Комбе, находятся люди, которые не боятся класть цветы к ногам «великого», хотя и обезглавленного, земляка.
Мы проехали Санта Комбу, продолжая движение по 234-й национальной дороге, и взяли курс на запад – на Бусако и Лузо, чтобы затем у Меальды выбраться на автостраду номер 1 Порту – Лиссабон. Крутые виражи, узкие каменные мосты через речки, постепенно удаляющиеся то слева, то за спиной суровые склоны Эстрелы. На горных террасах – вперемежку плантации кукурузы, огороды, виноградники, но не такие ухоженные, как в долине Доуру: лозы вьются по деревьям, окружающим кукурузные посадки. Кукуруза только начинает наливаться, и виноград еще совсем зеленый, и трудно поверить, что в это жаркое лето удастся спасти урожай.
Мелькнул указатель «Педрас Неграс». Останавливаемся, ослепленные раскинувшейся вокруг панорамой сразу трех горных хребтов: Эстрелы, Колкориньо и Лоузан, и двух речных долин: Дао и Крис. Шара… Внизу на склоне – небольшое пастбище. Пастух спрятался от палящего солнца за высоким камнем. А овцы пытаются искать спасения в тени друг друга. Упрямо и настойчиво лезут они одна другой под бок, образовав кучу-малу.
Приемник в машине настроен на волну «Радиоклуба Португеш». В международных новостях слышу знакомое имя «Людвиг»: корреспондент агентства ЭФЭ рассказывает об уже хорошо, хотя и заочно, знакомом мне американском миллиардере, скупившем по левому берегу Амазонки гигантскую территорию.
Людвиг… Неужели Амазония всю жизнь будет преследовать меня. Как немой укор, как вечное и острое сожаление: так и не добрался я до этого Людвига. А какой взрывчатый мог бы получиться материал.
Прислушиваюсь к «Радиоклубу Португеш»: оказывается, путь американского миллиардера к сокровищам амазонской сельвы отнюдь не усыпан розами. Правда, Людвиг сумел доставить на Амазонку гигантскую фабрику по переработке древесины в бумагу (фантастическая по смелости операция: фабрику буксировали вплавь через три океана!), но сейчас по всей Бразилии, – рассказывает корреспондент ЭФЭ, – нарастает волна общественного возмущения. «Общественность требует выставить Людвига и другие американские монополии вон из Амазонии».
Выпуск международных новостей заканчивается, начинается концерт португальского фадо, однако минут через пять он прерывается внеочередным сообщением: Революционный совет утвердил и направил для публикации в правительственном вестнике закон от 25 июля, устанавливающий сроки тюремного заключения для бывших чиновников ПИДЕ/ДЖС: от четырех до восьми лет следователям фашистской охранки, от двух до восьми лет – остальным ее сотрудникам. И от восьми до двенадцати лет тюрьмы – правительственным чиновникам, руководившим в годы диктатуры полицейским и репрессивным аппаратом. Хорошая новость! После наводящих на мрачные размышления наблюдений и встреч в Санта Комбе известие «Радиоклуба» поднимает настроение, и в приливе энергии жму на педаль акселератора с такой силой, что «кортина» откликается нервным визгом резины о разогретый асфальт. Мы летим в Коимбру.
…Мы еще немножко наивны в тот момент. Мы верим в торжество справедливости. Мы еще не знаем, что этот антифашистский закон так и останется на бумаге. И что сидящие пока в тюрьмах «пидес» через несколько месяцев начнут выходить на свободу, а в Санта Комбе появится «народная комиссия», которая начнет сбор средств на реставрацию обезглавленной статуи «отца нации». Ничего этого мы еще не знаем и не можем даже предположить, что буквально через несколько дней страна начнет клониться к такому невероятному виражу. Тогда мало кто еще мог предвидеть, сколь трагичными окажутся для революции последствия раскола между социалистической партией и коммунистами. Раскола, который вызревал подспудно и незаметно, а потом прорвался, как гнойник, неожиданным и драматическим решением руководства соцпартии о выводе своих представителей из правительства. Это случилось 10 июля, когда оно фактически объявило коммунистам войну и демонстративно предложило руководителям Движения вооруженных сил выбирать, с кем они намерены впредь управлять страной: с «коммунистическим меньшинством» или «большинством португальского народа»?
В обоснование этой фальшивой альтернативы были заложены результаты состоявшихся 25 апреля выборов в Конституционную ассамблею. Социалисты получили в ней 116 мест, коммунисты – 30, их союзники из Португальского демократического движения – еще 5. А правые партии – центристы и социал-демократы не набрали вместе и ста голосов. Казалось бы, вывод напрашивался сам собой: народ проголосовал за продолжение и углубление революционного курса, которое могло бы быть осуществлено только опиравшимся на прочное парламентское большинство правительством левых сил. Однако руководители соцпартии вместо того, чтобы протянуть руку коммунистам, оттолкнули их от себя, противопоставив абстрактное «большинство португальского народа» «коммунистическому меньшинству».
В этом непонимании социалистическими лидерами своей исторической роли и лежала основная причина последующих событий, повлекших торможение революции и постепенное увядание апрельских гвоздик. Но тогда, в июле семьдесят пятого, все это мало кто мог предвидеть и предсказать.
Коимбра: возраст любви и ненависти
В Коимбру мы въезжаем со стороны Порту по авениде Фердинанда Магеллана, чье имя в португальской интерпретации узнать невозможно: «Фернао де Магальяэш».