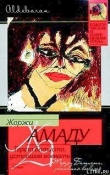Текст книги "По обе стороны экватора"
Автор книги: Игорь Фесуненко
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Речь идет о малоизвестном за пределами Бразилии храме в городке Конгоньяс-до-Кампо.
* * *
От Оуру-Прету до Конгоньяса – около 120 километров. Сначала, петляя километров 70 по уже знакомым бурым склонам, поросшим тростником, эвкалиптами и пинией, мы возвращаемся к 135-й национальной автостраде Рио-Белу-Оризонти. Затем, уже на автостраде, сворачиваем налево в направлении на Рио, проезжаем еще полсотни, или, если уж быть точным, 52 километра, поворачиваем направо у столбика, отмечающего 389-й километр, и вскоре после поворота видим на дороге невысокого человека в сером форменном мундире. Он властно поднял руку, приказывая остановиться. Что еще такое: на полицию это не похоже… Может быть, представитель какой-нибудь дорожной службы? Как бы то ни было, я ударяю по тормозам. Машина послушно останавливается. Человек подходит, мы видим, что это подросток лет пятнадцати.
– Хотите посетить Конгоньяс? – строго спрашивает он. В голосе его звучит металл, а на подбородке шевелится редкий, еще не тронутый бритвой пушок.
– Да, а что?
– Тогда разрешите представиться: я – из местной «гуарда мирим». Это детская организация. Вроде бойскаутов. Зовут меня Жозе Кейрос Фильо. Мы оказываем содействие туристам: показываем дорогу, объясняем, что непонятно. Если не возражаете – я к вашим услугам.
Я не возражаю. Решительно отодвинув мою сумку с фотоаппаратами, розовощекий лоцман усаживается на сиденье рядом со мной и командует: «Прямо».
Я послушно еду прямо. Тем более что ни вправо, ни влево дороги нет. Путь можно держать только «прямо».
Пока наша машина нервно вздрагивает на ухабах и опасливо перебирается через скрипучие мостки, Жозе приступает к исполнению своих общественных обязанностей: беглыми мазками рисует портрет Конгоньяса. «В нашем городе около двенадцати тысяч жителей, выходят две газеты, имеется госпиталь на девять коек, одна „синема“ и четыре телефонных аппарата. Основан Конгоньяс в 1700 году…»
Лавируя между выбоинами, я размышляю о том, не слишком ли много газет в этом очаге цивилизации и не слишком ли мало коек в госпитале и телефонных аппаратов? Впрочем, такова бразильская провинция: больной может отлежаться и у себя дома, а вот пресса – это вопрос престижа. Какой уважающий себя город не заведет себе собственное печатное издание? А если самоуважение достаточно велико, то меньше, чем двумя газетами, вообще не обойтись!
– Осторожно, яма! – кричит лоцман. Я принимаю вправо и едва не цепляю бампером лениво пощипывающую травку козу. Прямо по курсу – над черепичными крышами и фонарными столбами белеет на вершине холма между двумя высокими пальмами строгий фасад храма с двумя симметрично вознесшимися к голубому небу колокольнями.
– Бом Жезус де Матозиньос! – торжественно возвещает Жозе, словно объявляя появление на ринге боксера-тяжеловеса, претендующего на звание чемпиона мира. Машина петляет, взбираясь по узким улочкам все выше и все ближе к вершине холма, а лоцман вдохновенно продолжает блистать эрудицией: «Наш храм построен группой архитекторов, в их числе – Маноэль Родригес Коэльо, Жоао де Карвальо, Иеронимо Феликс. Но славой своей он обязан знаменитым и ни с чем не сравнимым чудом человеческого гения: статуям двенадцати пророков, установленным при входе. Их автор – великий Алейжадиньо».
Под этот монолог, вполне достойный гида-профессионала, мы выезжаем на площадь перед храмом, Жозе выскакивает, хлопотливо показывает место, где можно припарковаться, а потом, когда мы вылезаем и разминаем затекшие ноги, глядит на нас с необычайно довольным видом, будто это он, а не Алейжадиньо, высек специально для нас из серого «педра-сабао» – «мыльного камня», двенадцать скульптур, выстроившихся вдоль лестниц и террас у главного входа в храм.

Вот они – двенадцать самых знаменитых работ Алейжадиньо. Двенадцать пророков… Исайа: неистовый старец, бросающий в лицо каждому, кто проходит мимо, гневные и бранные слова. Молодой красавец Даниэль, погруженный в какую-то вечную думу. Абдиас, властный и гордый, предупреждающий о близости страшного суда. Страдающий Иеремия. Рассудительный и уверенный в себе Барух. И все остальные – усталые и грустные, гневные и мятежные – они словно ведут нескончаемый, длящийся веками спор друг с другом. О смысле жизни, о ее жестокости, о людской несправедливости, о неизбежности, неотвратимости конца и о том, что, несмотря на неправедность и жестокость этого мира, придет когда-то час справедливости. И пусть со страхом ждут этого мига дьявольские силы, живущие в душах людей и среди людей.
Двенадцать пророков. Кажется, что, собрав последние силы, больной художник отдал им гаснущее в собственной груди тепло. А может быть… Есть такое предположение, хотя никто еще не сумел его доказать, что каждому из двенадцати Алейжадиньо придал внешность и постарался вложить в него душу одного из героев разворачивавшейся тогда борьбы за освобождение Бразилии от гнета португальской короны…
Но это еще не все. По аллее, подымающейся к храму, стоят шесть маленьких часовен, напоминающих сараи для хранения дров или старого хлама. Внутри их, во влажном, пропахшем плесенью и гнилью полумраке – еще шестьдесят шесть деревянных, полихромных, вырезанных из кедра скульптур Алейжадиньо. Они объединены в семь сцен-композиций, изображающих «страсти Христовы»: весь печальный путь «Жезуса» (так по-португальски произносится имя Иисус) от тайной вечери с Иудой до распятия. Вот он – Иуда Искариот. На его деревянном теле – следы ножей и застрявшие пули: бразильские паломники уже 150 лет сводят с ним счеты, вымещая на безответном куске кедра древнюю, как мир, ненависть и презрение к предателям и шкурникам.
– Последний раз в него стреляли в прошлом году, – деловито информирует Жозе, о котором я, честно признаться, уже позабыл. – Это был разорившийся фазендейро. Он дал обет – наказать Иуду за страдания Жезуса Христа. В самого Иуду он не попал. Вон, видите: в стене правее и выше головы – след от пули.
След от пули на темной стене разглядеть не могу. И у меня нет никакого желания разыскивать его. Хочется помолчать. Но неугомонный экскурсовод суетится и теребит нас, пытаясь побыстрее протащить от одной часовенки к другой, чтобы, стремительно вывалив на нас свой интеллектуальный багаж и получив мзду, отправиться на поиски очередного «гринго». Поэтому я вынужден, не дожидаясь окончания экскурсии, поблагодарить и щедро вознаградить за пояснения, после чего он, как я и думал, стрелой бросается обратно к храму, куда подруливает необъятных размеров туристский «пульман».
А мы наконец-то остаемся в одиночестве. Пока прикатившие автобусом немцы или американцы будут осматривать собор, мы можем в тишине и покое пройти вместе с «Жезусом» весь его скорбный путь на Голгофу: антологию коварства, подлости, злобности и вместе с тем терпимости, веры в свою правоту, в силу добра и величие страдания, возвышающего, очищающего и искупляющего.
«Жезус»… Миллионы раз художники всех эпох, народов и цветов кожи воплощали эту библейскую фигуру в бронзе и гипсе, в масле и камне. Алейжадиньо стал одним из первых, если не первым, кто, сохранив страдальческое, скорбное, классически-покорное выражение лица Христа, наделил его мускулистым телом атлета. Зачем он это сделал? Почему он часто менял положение стоп у своих скульптур? Как это видно, например, у пророков Исайи и Иеремии. Правая нога у каждого из них неестественно вывернута вправо, а левая – влево, словно пророки спутали башмаки, надев правый – на левую ногу, а левый – на правую.
Почему Алейжадиньо, прекрасно знавший анатомию человека, во многих своих работах вдруг сознательно разрушал привычный рисунок кисти руки, так что все пять пальцев оказывались строго параллельными, не выделяя большой палец? Что это: своеобразная «подпись» мастера, желающего таким образом навечно удостоверить подлинность своих работ, или, как убежден один из бразильских критиков, «примеры первого в истории живописи экспрессионизма»? Или, может быть, страдающий художник умышленно наделял свои творения своими же собственными муками, болями, недугами?..
Впрочем, главная тайна его творчества и секрет его необычайной выразительности кроется не в деформации рук или ног у скульптур, а в удивительной мятежности всего того, что выходило из-под его резца. Его неистовое, почти еретически страстное искусство было бунтом. Бунтом против тысячелетних неприкасаемо-святых догм «красоты», «благолепия», «благочестия», прикрывавших розовыми облатками фресок и алтарей столь же древние, терзающие мир язвы фарисейства, жестокости и низости. Ведь он как мулат, потомок африканцев все это испытал на себе: и фарисейство святых отцов, и жестокость власть имущих, и низость друзей, отвернувшихся от него в трудную минуту.
…Все это можно пока только предполагать.
Потому что творчество Алейжадиньо остается до сих пор столь же плохо изученным, как и его жизнь. Академии Запада лишь совсем недавно открыли его для себя. А многие искусствоведы долгое время пребывали под воздействием суждений первых европейцев, столкнувшихся с этим феноменом. Один из них – немецкий барон Эшвег, посетивший Минас еще в 1811 году, то есть при жизни Алейжадиньо, писал о пророках Конгоньяса с хладнокровным высокомерием «стопроцентного арийца»: «Их одежды и фигуры иногда безвкусны и лишены пропорций. Но все же не следует игнорировать достоинств человека, который был самоучкой и никогда не видел по-настоящему великих произведений искусства».
Да что там иностранцы! Сами бразильцы лишь недавно начали осознавать истинное величие этого гения. Появились восторженные определения: «Микеланджело Тропиков», «Эль Греко-Мулат», «Новый Пракситель». И все же до сих пор большинство историков, журналистов и искусствоведов едва ли не основное внимание уделяют выяснению загадочной болезни Алейжадиньо, споря о том, что же это такое было: проказа, сифилис или что-нибудь еще? В то же время выявлена и учтена лишь небольшая часть его произведений, а масса неопознанных работ рассыпана по сотням церквушек, монастырей, часовен, богаделен и частных коллекций Минас-Жерайса. А те, что опознаны и внесены в каталоги, – шедевры, способные украсить лучшие залы Лувра или Эрмитажа, медленно, но верно гибнут, разрушаясь под воздействием губительных солнечных лучей, убийственной тропической влажности и истеричных богомольцев и зевак-туристов.
…В последние годы ему стало совсем плохо. Чувствуя приближение конца, он перебрался в дом к племяннице, престарелой повитухе Жоане. Вместе с ней за умирающим ухаживала соседская старушка Елена, заставлявшая его глотать новые и новые снадобья. Увы, ничего не помогало. Он все-таки ослеп.
После этого страдания его продолжались еще около двух лет. Все это время немощный, заброшенный и забытый всеми дряхлый старик пролежал на грубом топчане в темной каморке, моля бога о ниспослании смерти как избавления. Он погибал в муках, но разум не покидал изуродованное, парализованное тело до последней минуты. До 18 ноября 1814 года, когда в возрасте 84 лет, двух месяцев и двадцати дней он скончался.
…Здесь следовало бы поставить точку, но, перечитав написанное, подумалось, что жаль расставаться с Алейжадиньо на такой грустной ноте. Я порылся в досье и раскопал подходящую к случаю цитату – высказывание одного из директоров Лувра, приезжавшего в Бразилию договориться об издании во Франции альбома работ Алейжадиньо: «Перед нами достижение человеческого духа, которое еще ждет своего эпоса».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯЗакон гармонии

Сосед по дому владелец туристической фирмы «Рио-Мар» сеньор Перейра любил пофилософствовать со мной о секретах своего бизнеса. Мы рассуждали о преимуществах индивидуальных туров перед групповыми экскурсиями, намечали новые маршруты, выискивали еще не открытые конкурентами сеньора Перейры объекты и достопримечательности, способные заинтересовать высокомерных клиентов «Рио-Мар», приезжающих в Бразилию из США, Европы и даже Японии. С точки зрения сеньора Перейры Бразилия представляла собой неиссякаемую золотоносную жилу, основные богатства которой еще только предстоит открыть. Думаю, что он был прав: страна эта располагает поистине неисчерпаемым многообразием чудес, вызывающих восхищение и восторг туриста. Тут тебе и экзотические народные праздники, и природные ландшафты, каких нет больше нигде на земле, и уникальные памятники архитектуры. Тут тебе и амазонская сельва, и водопады Игуасу, древние храмы Оуру-Прету и фантастический пейзаж Понта-Гроссы, знаменитая «Маракана» и феерия карнавала, индейские хижины Шингу и небоскребы Сан-Паулу, байанское кандомбле и сафари Мату-Гросу. А ведь я еще не упомянул легендарную Копакабану!
Сеньор Перейра ценил мои суждения и называл меня «внештатным консультантом»: он знал, что я много ездил по стране, был профессионально любознателен и как иностранец обладал, как говорил Перейра, «незамутненностью взгляда». Все то, что интересует меня, должно было заинтересовать и клиентуру «Рио-Мар». И вот однажды он предложил мне не задумываясь назвать самый «ударный», самый с моей точки зрения интересный и привлекательный «туристический объект» страны. Я без колебаний сказал ему одно слово: «Бразилиа»… И пояснил, что с моей точки зрения для того, чтобы получить самое сильное эмоциональное потрясение, гостю этой страны совсем не обязательно спешить на Амазонку или Копакабану. Достаточно подняться на смотровую площадку столичной телевизионной башни и глянуть оттуда на юго-восток, в сторону площади Трех Властей.
Первый раз я проделал эту операцию в шестьдесят шестом году, потом повторял ее неоднократно, но до сих пор где-то у сердца дрожит тонкой стрункой воспоминание о том самом первом взгляде, брошенном с этой вышки. Я все это помню, словно это было вчера: за спиной – солнце, клонящееся к закату. У подножия башни, где рабочие покрывают бурую землю кусками свежего дерна, мозаика красно-зеленых пятен, которые по мере удаления выстраиваются в начертанные на земле стройные геометрические фигуры: голубой овал – бассейн, неправильная трапеция – фонтан, серые кольца и прямоугольники – прогулочные дорожки. Справа и слева – уходящие вдаль кварталы параллелепипедов – жилые дома, прямо – слегка приподнявшаяся над землей транспортная развязка, за ней слева – усеченная пирамида театра, а правее и дальше – конструкции тогда еще не достроенного кафедрального собора: взметнувшиеся вверх, тонкие и изломанные, как взывающие к всевышнему и не находящие утешения руки страждущих и жаждущих. А за ним, за собором, чуть левее – серые блоки министерств, между которыми – центральная точка, куда сходятся все линии этой перспективы: на фоне голубой полоски озера две стройные светлые колонны конгресса с чашами-полушариями по бокам. Правая чаша – срезом вверх, левая – вверх полусферой.
…Я перечитываю сейчас этот геометрический трактат и чувствую, что он дает о бразильской столице такое же представление, какое способна дать о сокровищах Ленинской библиотеки в Москве инвентарная опись ее мебели, пожарного инвентаря и канцелярских принадлежностей в читальных залах.
Я вспоминаю, как в стремительно проносящиеся минуты заката голубое небо вдруг вспыхивало оранжевым пламенем. Почему так быстротечен заход солнца в этом городе? Почему так быстро проваливается оно за горизонт, погружая город в ночь?
Я вспоминаю сюрреалистическую картину площади Трех Властей при лунном свете, когда полусферы конгресса становятся похожими на только что приземлившиеся корабли – посланцы других миров, а стоящий тут же, поблизости, черный скульптурный дуэт воинов – «геррейрос» с пиками в руках видится первым патрулем инопланетян, ступившим на Землю. В памяти оживают невесомые, слегка прикоснувшиеся к земле хрупкими углами колонны дворца Альворада; буйное пламя фламбоянтов, бросающих розовые тени на серые стены зданий; зеленое одеяло газонов на красной, словно пропитанной кровью земле. Я вспоминаю все это и чувствую, что бессилен передать восторг, который охватывает человека, оказавшегося в этом фантастическом городе, где экспрессия графики Пикассо помножена на ослепительно яркую палитру Матисса и погружена в тропическую атмосферу Гогена.
Впрочем, стоит ли мне еще раз браться за описание созданной гением Лусио Косты и Оскара Нимейера бразильской столицы? Ведь столько уже о ней написано, что нечего, кажется, к сказанному добавить. Все восторги излиты, восклицательные знаки расставлены и напрочь израсходован запас превосходных степеней и цветистых эпитетов. В бесчисленных журналистских опусах и научных монографиях скрупулезно зафиксирована и вдохновенно воспета долгая история борьбы идей и мнений вокруг давно уже ставшего очевидным и необходимым переноса столицы страны из Рио-де-Жанейро, с побережья, в центр Бразилии. Рассказано и о том, что лишь в конце 50-х годов нынешнего столетия энергичный и честолюбивый президент Жуселино Кубичек решил наконец воплотить эти замыслы в жизнь. Хорошо известно, что на конкурсе проектов новой столицы победил даже не проект, а черновой эскиз Лусио Косты, в основе которого лежала самая простая из самых простейших идей: крест! Ничего проще этого урбанисты до сих пор не придумали. И не придумали они ничего логичнее. Действительно, когда человек хочет пометить что-либо знаком: «Это – мое!», будь то участок земли, хижина в лесу или место, где будет вырыт колодец, он ставит крест. Как примету собственности, как знак утверждения своей воли. Именно таким крестом «Это – мое!» утвердила себя новая столица в географическом центре страны на безмолвном плато, откуда до ближайшего города было тогда несколько сот километров. Крест, правда, получился не совсем правильным: его поперечные линии слегка опустились вниз, и он превратился в схематическое изображение самолета.
И об этом уже сказано и написано достаточно: «Город-самолет! В крыльях – жилые кварталы, в фюзеляже – административные здания, на носу – площадь Трех Властей, которую окружают конгресс, дворец президента и верховный суд». Все это уже хорошо известно. Известно, что воплощал «план-пилото», или, как мы говорим, «город-самолет», друг и ученик Лусио Косты Оскар Нимейер. Именно в его воображении и родились все эти дворцы и здания Бразилиа, словно пришедшие на землю из другого мира или предвосхитившие XXI век. Ничего подобного до того времени ни история архитектуры, ни градостроительная практика не знали. И когда задумываешься и начинаешь осознавать уникальность и беспрецедентность этой урбанистической революции, возникают вопросы: почему это стало возможным именно в Бразилии? Почему не в Аргентине, не в Индонезии, не в Японии или не в какой-нибудь из африканских стран? И почему это случилось именно сейчас, а не полвека назад? Или не сто лет спустя?
Я начал думать об этом еще в начале 60-х годов, когда лишь понаслышке, по статьям в газетах и журналах, по фотографиям познакомился с новорожденной бразильской столицей. И хотя с тех пор прошло уже более четверти века и за это время я неоднократно побывал в Бразилии, не раз беседовал с Нимейером, прочитал горы литературы, собрал обширное досье на эту тему, а все равно и сейчас не могу сказать, что нашел ответы и расставил все точки над «i». Сегодня я по-прежнему продолжаю размышлять на эти темы. И поэтому откажусь от принятого в этой книге жанра воспоминаний или путевых дневников. А вместо этого порассуждаю вместе с вами, читатель, о бразильской архитектуре вообще, о ее вершине – Бразилиа. Попытаюсь понять, почему строителем столицы был избран именно Нимейер: человек, отношения которого с властями никогда не отличались гармонией или хотя бы терпимостью? И продолжу поиски ответа на самый главный вопрос, который, видимо, поглощает и обнимает все предыдущие: кто же он такой, этот Оскар Нимейер? Человек, шагнувший к нам из будущего? Наивный идеалист или революционер? Мечтатель или бунтарь? Поэт или ученый?
Вряд ли можно дать на эти вопросы точные и безапелляционные ответы: служенье муз не терпит не только суеты, но и категоричности. Да я и не берусь за такую непосильную задачу, сознавая, что это было бы донкихотством и вызвало бы справедливый гнев и насмешки специалистов. Поэтому все, что будет сказано ниже, следует рассматривать лишь как гипотезу, более или менее достоверную. Я не берусь писать портрет Нимейера, ограничусь лишь несколькими штрихами к портрету. Да, именно так: не «портрет», а «информация к размышлению» о том, каким мог бы быть портрет этого удивительного, не укладывающегося в рамки стандартных представлений человека.
* * *
Родился он в 1907 году в старинном доме, принадлежавшем его деду, который был генеральным прокурором республики и министром – членом высшего федерального трибунала, но в наследство своим пятерым сыновьям оставил только этот особняк. В Бразилии, где казна считалась в те времена естественным и неиссякаемым источником пополнения фамильных достояний, дед Оскара мог послужить образцом неподкупности и честности, доходящих до наивности. Отец будущего архитектора был владельцем небольшой типографии, мать умерла рано, но на всю жизнь сохранились у маленького Оскара воспоминания о мире и покое, о добрых отношениях и дружбе, царившей в этом громадном доме, где бабушка с ключами за поясом хлопотала по хозяйству, кроткая, вечно одинокая тетушка отправлялась по утрам в церковь собирать пожертвования на благотворительные нужды, старшая кузина тайком подкармливала сладостями Оскара, который был всеобщим любимцем большой и дружной семьи. Учиться мальчика отдали в духовную семинарию, богобоязненная тетушка усердно старалась водить его на воскресные мессы, но он не стал все же добропорядочным и смиренным католиком. Да и вообще не стал верующим.
И учеником он не был прилежным и благонамеренным, хотя именно таким должны представлять его в детстве те, кто сейчас общается с этим тихим, интеллигентным, воспитанным человеком, который, похоже, никогда не способен голоса повысить и мухи обидеть. Наоборот, в детстве и юности он был законченным «повесой», учебе частенько предпочитал футбол, а сидению над книгами – бильярд, кабачки и ночные вылазки в богемные кварталы знаменитой рио-де-жанейрской Лапы – района, знаменитого в те далекие 20-е годы своими увеселительными заведениями и бурной ночной жизнью. Да, человек соткан из противоречий, и многие из тех, кто сегодня слушает спокойную, всегда хорошо аргументированную, почти изысканную речь «сеньора Оскара», вряд ли способны поверить, что в кругу близких друзей этот человек может обронить острое, далеко не литературное словцо, что он любит перебирать струны гитары, безжалостно перевирая любимые мелодии своей юности. Злые языки утверждают, впрочем, что он вообще способен сносно проиграть одну только знаменитую «Амелию», но один из самых близких его друзей, поэт Винисиус де Мораес, снисходительно отвечал скептикам: «Зачем Оскару гитара? Он творит музыку в бетоне и стекле своих дворцов».
Как и у любого бразильского мальчишки, одной из самых сильных страстей его детства и юности был футбол. К счастью, на этом поприще Оскар не добился многого: дошел всего лишь до юношеской сборной Рио-де-Жанейро, цвета которой защищал в матче со сборной Сан-Пауло в 1925 году. Но известно, что и в этой области не был он бездарен, или, как говорят в Бразилии, не оказался «деревянной ногой»: его даже приглашали в знаменитый клуб «Фламенго». Но, слава богу, говорят друзья, футбольная карьера молодого Оскара быстро угасла, ибо в душе его взяла верх другая, еще более сильная страсть – рисование. Занятие, конечно же, малопочтенное, с точки зрения отца и прочих близких и дальних родственников. Но отдадим им должное: рисовать Оскару они не мешали, хотя и не поощряли это увлечение. И именно через рисование юноша пришел к архитектуре. Это было неожиданно, это получилось «противу правил» и против моды. Модно в то время было идти в адвокатуру. А у внука генерального прокурора республики никаких препятствий на этом пути, конечно же, не могло возникнуть, но вот, поди же ты, вопреки осторожным советам домашних и к невысказанному, но и нескрываемому ими разочарованию подался он в Национальную школу изящных искусств. А затем стал работать чертежником в маленьком архитектурном ателье молодого, но уже известного градостроителя Лусио Косты.
Уже первая самостоятельная работа Оскара Нимейера: небольшое здание детских ясель, показала, что в богатую яркими индивидуальностями бразильскую архитектуру уверенно вошел талантливый и самобытный мастер. В проекте этом, датированном тридцать седьмым годом, ощущается, правда, заметное влияние величайшего новатора архитектуры XX века Ле Корбюзье, которого и Нимейер, и Лусио Коста считают своим учителем и духовным наставником. В этом здании мы еще не разглядим пристрастия к пластическим решениям и криволинейным формам, которое вскоре стало наиболее характерной формальной приметой творческой палитры этого мастера, но заметим многие из тех идей, которые будут воплощены в последующих его работах: простоту и логику, четкость в делении помещений, стремление создать максимальный простор в интерьере даже небольшого здания, заботу об удобствах тех, кто будет в нем жить и работать. Уже в этом первом своем реализованном проекте он сделал и первое открытие: нашел оригинальное средство защиты помещения от солнечных лучей – поворачивающиеся вертикальные шторы – жалюзи. Впоследствии и сам он, и многие из его коллег будут неоднократно пользоваться этим приемом.
С того времени, когда это скромное невысокое здание появилось в Ботафого – одном из самых оживленных и энергично застраиваемых районов Рио-де-Жанейро, совсем, кстати сказать, неподалеку от моего дома «Сан-Жорже», – прошло уже полвека, а оно и сегодня на фоне окружающих его более молодых «соседей» выглядит не только вполне современным, но даже новаторским! Откуда у молодого Оскара уже тогда появилось это поразительное чутье? Это умение видеть на несколько десятилетий вперед, которое впоследствии с такой ошеломляющей силой проявилось в зданиях и дворцах Бразилиа?
Не буду подробно описывать историю строительства здания бывшего министерства просвещения и культуры, которое воздвигли в Рио-де-Жанейро в 1937–1943 годах по проекту большой группы архитекторов, где консультантом был Ле Корбюзье, руководителем – Лусио Коста, а одним из авторов – Нимейер. Напомню только, что это величественное сооружение стало символом, программным манифестом новой бразильской архитектуры, энциклопедией ее творческих приемов. Уже в те годы молодой Оскар пользовался в профессиональной среде таким уважением и авторитетом, что после ухода в 1939 году Лусио Косты именно он был избран руководителем группы проектировщиков и именно под его руководством было завершено строительство этого здания.
При всей своей уникальности и самобытности гений Нимейера не родился на голом месте: именно в годы его молодости в упорной борьбе с приверженцами так называемого «неоколониального» стиля, которые слепо копировали архитектурные идеи XVIII века, проходил процесс становления современной бразильской архитектурной школы, давшей миру такие имена, как Карлос Леао, Жоржи Морейра, Сержио Бернардес, братья Марсело и Милтон Роберто, Афонсо Эдуардо Рейди, не говоря уже о Лусио Коста. И чтобы зримо ощутить величие вклада, внесенного ими в мировую архитектуру, достаточно пройти по нескольким центральным кварталам Рио-де-Жанейро близ авениды Рио-Бранко: от аэропорта Сантос-Дюмон и Музея современного искусства до авениды президента Варгаса, обратив внимание на здания Бразильской ассоциации прессы, Института предпринимателей, банка Боависта, Дома страховых компаний на улице Сенадор Дантас. А затем – съездить в квартал Педрегульо, чтобы восхититься там восьмиэтажным зданием, причудливо извивающимся по склону холма, и в парк Гинле, где Лусио Коста с удивительной легкостью вписал в причудливый природный рельеф комплекс семиэтажных зданий. А завершить эту экскурсию можно на стадионе «Маракана», который и к 2000 году, когда исполнится его 50-летие, останется одним из самых элегантных и, видимо, самым крупным в мире футбольным дворцом.
Даже одна эта небольшая экскурсия может дать наглядное представление о том, «питательном бульоне», в котором «вскармливалась» творческая индивидуальность молодого Оскара. Ну а если говорить о более узкой группе его друзей, коллег и единомышленников, то это была созданная в конце 30-х годов Служба по охране памятников национальной истории и искусства, которая, пытаясь защитить шедевры старинной архитектуры от разбушевавшихся ветров стремительной урбанизации, привлекла в свои ряды таких выдающихся представителей бразильской творческой интеллигенции, как художник Кандидо Портинари, инженер Жоаким Кордозо, писатель Карлос Друммонд де Андраде. Жаркие споры о том, как спасти памятники прошлого, сыграли немалую роль в формировании творческих убеждений Нимейера. Тут я подхожу к одному из сложнейших и интереснейших вопросов: о преемственности в бразильской архитектуре вообще и о связи «школы Нимейера» с национальным архитектурным наследием.
На первый взгляд не может быть ничего общего между пышной и буйной декоративностью колониального барокко и абстрактно-геометрическими формами Бразилиа, которую современники сразу же и дружно стали ассоциировать не с прошлым, а с будущим. Чуть ли не все авторы, пишущие о молодой бразильской столице, называют ее «городом XXI века», и никому не придет в голову вспоминать в этой связи Алейжадиньо, Оуру-Прету, причудливую изысканность храмов Минас-Жерайса и вьющиеся по зеленым склонам гор тихие улочки Диамантины.
Но почему же тогда неукротимый революционер архитектуры Ле Корбюзье, познакомившись с эскизами и чертежами Оскара, сказал ему, как вспоминает сам Нимейер: «Ты создаешь барокко из железобетона, по делаешь это здорово!..»
Обратите внимание на конструкцию фразы, точнее говоря, на ход мысли: союз «но» подчеркивает оттенок то ли легкого осуждения, то ли удивления Ле Корбюзье тем фактом, что его ученик Нимейер позволил себе эту слабость: «делать барокко». И далее угадывается невысказанная, но читаемая между строк мысль: «Но раз уж ты делаешь это хорошо, то так и быть, простим тебе этот грешок…»
В той же книге, откуда взята эта цитата, Нимейер вспоминает: «Двадцать лет спустя, когда я однажды обедал в его доме в Париже, Ле Корбюзье, забыв о прежнем разговоре, признался мне: „Говорят, будто я строю в стиле барокко и весьма удовлетворен этим. Они не понимают, что архитектура подобна реке, которая постоянно меняет русло“».