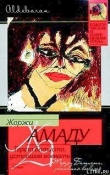Текст книги "По обе стороны экватора"
Автор книги: Игорь Фесуненко
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
…Он говорит долго и вдохновенно. Это, впрочем, уже не рассказ. Это гимн тавромахии. «Песнь песней» мужеству людей, выходящих на схватку с неукротимым и грозным животным, которое побеждает всех зверей, кроме, может быть, слона. Имена тореро, клички быков, названия «пласа де торос», факты, события, даты, подробности…
Если бы все это записать, получилось бы нечто вроде энциклопедии испанской корриды. Говорю «испанской» потому, что коррида практикуется еще и в ряде стран Латинской Америки, а также в Португалии, где она, впрочем, сильно трансформировалась: португальские тореро (в Португалии они называются «форкадуш») быка не убивают. Их задача – побороть животное, лишить его возможности двигаться. И выполняют они эту чисто спортивную функцию целой командой: полдюжины «форкадуш» дружно бросаются на быка с подпиленными рогами.
Когда, желая блеснуть эрудицией, я упоминаю об этом, сеньор Карлос возмущенно подымает брови и испепеляет меня негодующим взглядом. Да, конечно, он видел однажды это анекдотическое представление, недостойное ни настоящего мужчины, ни настоящего быка. Но разве эта португальская клоунада имеет что-то общее с темой сегодняшнего разговора: с благородной корридой бессмертных Домингина, Пако Камино или Кордобеса?!.
Я чувствую, что сеньор Карлос уязвлен в своих лучших чувствах. Но благородство и воспитанность, присущие ему как настоящему испанцу, помогают перебороть неприязнь, вспыхнувшую в его сердце после упоминания об «этих португальских паяцах». Он приглашает нас подняться на второй этаж в библиотеку. Мы послушно следуем за ним по скрипучей деревянной лестнице. В застекленных шкафах, на полках и стеллажах – энциклопедии и учебники, комплекты журналов, рекламные брошюры и научные труды. На одной из полок – портрет Хемингуэя.
– В России знакомы с корридой в основном по его книгам, – говорю я. Сеньор Карлос улыбается и пожимает плечами:
– Это, конечно, лучше, чем ничего, но все же маловато. Старик был гениальным писателем и очень любил корриду, но вряд ли будет справедливо полагать, что он хорошо разбирался в быках. Впрочем, а кто в них разбирается? Наверное, никто. Я занимаюсь быками уже пятьдесят шесть лет, а все равно не знаю о них все, что следовало бы и что хотелось бы знать.
Он берет со стола большой альбом с фотографиями быков, перелистывает его:
– Посмотрите, какой красавец? А этот?.. Разве есть что-нибудь в природе, сравнимое с такой красотой?
Мы дружно киваем головами и соглашаемся, что ничего подобного никогда не видели. Карлос удовлетворенно улыбается и закрывает альбом. Как стопроцентный андалузец, он великодушен и добр: чувствую, что он уже простил мне неудачную импровизацию на португальские темы.
– А почему бык не любит красный цвет? – спрашивает Ирина.
– А кто вам сказал, что он его не любит? – поднимает бровь сеньор Карлос.
– Все говорят, – смущенно улыбается Ирина. – Разве не потому плащ у тореро – красного цвета. Разве это сделано не для того, чтобы бык кидался именно на плащ?
Сеньор Карлос тяжело вздыхает. Он впервые осознал всю глубину нашего невежества:
– Бык ничего не имеет против красного цвета. И бросается он на мулету – или, как вы, дорогая сеньора, изволили выразиться, на «плащ» – отнюдь не потому, что она – красная, а потому, что она двигается перед ним, полощется из стороны в сторону. Бык бросается не на цвет, а на движение. Именно поэтому тореро может работать с быком, именно в этом – залог его безопасности: животное привлекает не цвет мулеты, а движение, не неподвижная фигура тореро или пеона, а трепещущая мулета.
– Бывают ли случаи, когда быка на корриде не убивают? – спрашиваю я.
– Очень редко. Один раз на тысячу. Так случается, когда публика требует пощадить животное в награду за его мужество и ловкость в поединке.
– А второй раз этого быка выпустят на арену?
– Ни в коем случае. Дело в том, что бык умней человека. Он быстро усваивает правила игры и, если его выпустить снова, пойдет не на мулету, а на тореро. И убьет.
Карлос Уркихо замолкает, любовно разглядывая нависший над лестницей муляж великолепной бычьей головы.
– Если позволите, я тоже хотел бы сказать, – обращается к нам Фернандо – помощник Карлоса, молчаливо сопровождавший нас в этой экскурсии. – Бык характером всегда похож на своего ганадеро – хозяина. Потому что ганадеро подбирает стадо по своему вкусу. Выбирает самок с особым характером, с психологией. И эта психология передается рождающимся бычкам. Вот у нас на финке – восемьсот быков. Это не обычные быки. Они преисполнены гордости. Они отличаются благородством и чувством собственного достоинства, они великодушны и умны.
– Вы это… что: серьезно? – спрашивает Дунаев, подняв правую бровь.
– Да, вполне! – с достоинством отвечает Фернандо, игнорируя иронию Владимира Павловича.
– Боже мой! – тихо шепчет потрясенная Ирина. Она – друг животных. Она начисто лишена англосаксонского дунаевского скепсиса. Она восхищена тем, что слышит.
– Приходите на корриду с участием наших быков, – говорит Фернандо, – и вы увидите, что они никогда не нападают на упавшего тореро или пеона. Наш был остановится и ждет, когда человек встанет. Только потом он продолжает схватку.
– Боже мой! – снова восклицает Ирина.
– Да, бык умнее человека, – задумчиво говорит сеньор Карлос. – А самое главное – бык благороднее нас. Он никогда не нападет без причины. Убеждением вы можете добиться от быка всего, чего пожелаете, насилием – ничего не добьетесь. Поэтому-то мы, испанцы, и считаем быка самым благородным животным. Нас, людей, можно согнуть, запугать, поработить, подчинить насилием или подкупить. Быка – никогда.
Я слушаю эту патетическую оду с громадным сожалением: все это, увы, не снято Алексеем, не записано на магнитофон и поэтому не войдет в фильм. Я слушаю взволнованный монолог Фернандо о самом благородном животном нашей планеты, вспоминаю Эренбурга, очень точно писавшего о быках и корриде: «Это смирные животные, и только такому зверю, как человек, удается их вывести из себя. На арене бык сперва недоумевает. Он похож на растерянную корову. Он ищет лазейки. Он явно вспоминает пастбище. Его колют стрелами. Он весь в крови. Тогда начинается якобы бой. Человек знает, что надо отбежать в сторону, бык этого не знает, бык кидается вперед. Исход ясен заранее. Может быть, именно эта обреченность быка, эта трагическая тупость и ненужное благородство пленяют испанцев, напоминая им и об их жестокой истории, и об их личной драме?..»
Между прошлым и будущим
«…Об их жестокой истории». Пожалуй, не подберешь более точного, чем слово «жестокая», определения испанской истории, драматической, поднимающейся иногда до трагедийно-эпических высот, а частенько – низвергающейся в суетливые водовороты мелодраматического фарса, граничащего с пошлым водевилем. Да, именно «жестокая» у этой страны история. Вспомним конкисту и реконкисту, нескончаемые междоусобные войны и драки королей, инквизицию, разгром «Непобедимой армады», захват страны Наполеоном. Вспомним, как на руинах монархии родилась в 30-е годы XX века республика. И как была затоплена она в крови фашистской фалангой.
Мне и моим современникам повезло. Мы еще помним, хотя бы по детским, может быть, недостаточно четким, но врезавшимся в наши души на всю жизнь впечатлениям атмосферу романтической солидарности с республиканской Испанией, которая в середине 30-х годов охватила нашу страну и наши сердца, как жаркое пламя. Мы пережили волнения и боль боев за республику, горечь поражения. А теперь, полвека спустя, мы стали свидетелями возрождения Испании на новом, послефранкистском этапе ее истории. Тем памятна и дорога мне наша поездка в Мадрид и Андалузию: она дала возможность лучше увидеть Испанию на переломе. Испанию, уже отвергшую свое черное прошлое и мучительно ищущую путь к будущему.
Как это всегда бывает в такие переломные моменты «жестокой» истории, путь к будущему и само будущее виделись испанцам в бесчисленном множестве вариантов, версий и гипотез. От подновленного и реставрированного франкизма до общества, строящего социалистический строй. И как это часто случается в таких ситуациях, в результате мучительных поисков, метаний, ожесточенной полемики и борьбы родилась на свет (к тому моменту, когда пишутся эти строки) совершенно неожиданная, принципиально новая и, как ни странно, неплохо функционирующая, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, модель, в которой с удивительной для пылких и бескомпромиссных испанцев гармонией уживаются монархия и социализм, в той его специфической интерпретации, которую предложила своему народу Испанская социалистическая рабочая партия и ее лидер Филиппе Гонсалес. Об этом интереснейшем политическом эксперименте можно было бы поразмышлять особо, но тема эта выходит за хронологические рамки моего рассказа. Ведь в этой главе речь идет об Испании второй половины 70-х, когда социалисты и Филиппе Гонсалес были еще в оппозиции, когда политическое будущее этой страны казалось зыбким и неопределенным, когда в военных штабах еще весьма активно вызревали семена будущих заговоров и путчей, а на подпольных сборищах правых и левых экстремистов планировались террористические акции.
Впрочем, не только «планировались»… За несколько дней до нашего приезда в Мадрид фашисты убили двух студентов столичного университета, которые участвовали в манифестациях за амнистию. Затем леваки из «Группы антифашистского и патриотического сопротивления» (ГРАПО) похитили председателя Высшего совета военной юстиции генерала Вильяэскусу (за несколько недель до этого был похищен председатель Государственного совета Испании Ориоль-и-Уркихо), в тот же день фашистские террористы совершили нападение на адвокатскую контору Рабочих комиссий, размещавшуюся в Мадриде на улице Аточа. Были расстреляны пять юристов-демократов, которые защищали интересы Рабочих комиссий. Именно там, в помещении на улице Аточа, где еще сохранились на стенах и на полу шрамы от пуль и следы крови фашистских жертв, снимали мы интервью с генеральным секретарем Рабочих комиссий Марселино Камачо. Невысокий, плотно сбитый, как все испанцы, темпераментный, он говорил о сложившейся в тот момент в стране ситуации:
– Наши Рабочие комиссии родились как историческая необходимость. Они помогли рабочему классу прийти в себя, оправиться после жестокого поражения от франкизма. И стать на ноги, да, да! Мы снова встали на ноги! Фашизм сейчас исчезает и в нашей стране. Но здесь это происходит не так, как это было в Италии, Германии или Португалии. В Италии и Германии фашизм был уничтожен в результате освобождения этих стран войсками союзников, в первую очередь – героической Красной Армией, а также благодаря борьбе народов самих этих стран. В Португалии конец фашизму положило восстание армии. А у нас, в Испании, все сложилось по-иному. Впервые в истории Европы страна преодолевает наследие фашизма под давлением широких народных масс, возглавляемых рабочим классом. Начались демократические преобразования, которые проходят в условиях тяжелого экономического кризиса в стране, но при благоприятной международной обстановке.
…В этом тщательно отредактированном переводе речь Камачо ничем не отличается от стандартного политического интервью. А на самом деле он говорит не так гладко и спокойно. Он жестикулирует, встает со стула, садится, опять встает. Подходит к большой карте на стене, резкими взмахами руки показывает Италию, Германию, Португалию. И при этом все равно заглядывает в наши лица, как бы удостоверяясь, все ли понятно нам, что он говорит.
– Рабочий класс сыграл решающую роль в предотвращении опасности реставрации франкизма. Но не смог сам возглавить переход от фашизма к демократии. Возглавили этот процесс люди, в прошлом связанные с французским режимом. Отсюда сложность и зигзаги пути Испании от франкизма к демократии.
Он снова вглядывается в наши лица: понятно ли нам?..
– Будете в Севилье, обязательно разыщите Эдуардо Саборидо. Вот его телефон. Скажете, что вы – от меня.
– Кто такой Саборидо? – спрашиваю я.
– Наш человек в Андалузии. Коммунист. Мы поручили ему организовать и наладить деятельность Рабочих комиссий в Андалузии. Он лучше всех знает проблемы этого края.
Встреча с Саборидо состоялась. Не без сомнений и споров. Дело в том, что, запросив у руководителей испанского телевидения разрешение на съемку фильма об Андалузии, мы деликатно обошли молчанием вопрос о содержании нашего будущего опуса. Испанцы, видимо, предполагали, что мы направим свой творческий порыв на отображение архитектурных памятников, природных красот этого края, чарующей магии национального танца фламенко и экзотических традиций тавромахии. Мы не разубеждали их, но, разумеется, решили отразить и политические бури, всколыхнувшие этот край, как и всю страну. Без упоминания о профсоюзах, без рассказа о классовых боях тут не обойтись. И Марселино Камачо прав: кто может рассказать об этом лучше, чем активист Рабочих комиссий, коммунист Эдуардо Саборидо? Но ведь в тот момент, когда мы оказались в Севилье, Рабочие комиссии, как и компартия, еще не легализованы. С точки зрения закона и властей они пока остаются, по меньшей мере, «предосудительными» организациями, занимающимися «антиправительственной» и «подрывной» деятельностью. А поскольку наша поездка по Испании находится под неусыпным и бдительным отеческим оком тех, кто дал на нее согласие, встреча советских журналистов с представителем Рабочих комиссий может вызвать там, «наверху», раздражение и повлечь против нас санкции.
Мы с Дунаевым обсуждаем сложившуюся коллизию, взвешиваем все «за» и «против». И в конце концов решаем рискнуть. Я созваниваюсь с Эдуардо. Мы договариваемся о том, что он приедет к нам в отель. Через час он звонит снизу от стойки администратора. Я приглашаю его подняться. Понимая, что друзьям нужно соблюдать максимум осторожности и сохранять бдительность, мы прежде всего показываем Эдуардо наши документы. Он улыбается, отшучивается. Потом мы приглашаем его поужинать с нами, поднимаемся в ресторан на самый верхний этаж отеля. За окном моросит нудный зимний дождик, омывающий оранжевые мандарины на Пласа Нуэва. Официант долго откупоривает бутылку «Риоха Алта», а потом еще дольше трет салфеткой идеально чистый стол. Мы молчим. Официант топчется вокруг нас, старательно глядя в сторону. Нам не нравится это слишком настойчивое усердие. Мы по-прежнему молчим, ждем, когда он оставит нас в покое. Наконец он отходит. Теперь можно поговорить. Но сначала – тост за дружбу, за успех испанских коммунистов, прошедших через без малого сорок лет подполья и продолжающих сейчас, в новых сложных условиях, борьбу за демократизацию страны.
Эдуардо Саборидо еще молод: ему всего тридцать шесть лет, на вид не дашь и тридцати, а позади у него уже несколько лет подполья, с десяток арестов, полдюжины судебных процессов, по одному из которых – приговор к двадцати годам тюремного заключения. Отсидел он из них четыре с половиной года. «Послужной список», как видите, впечатляет, но если учесть, что речь идет об испанском коммунисте и профсоюзном вожаке, такая биография не может считаться чем-то из ряда вон выходящем. А начал Эдуардо свою трудовую жизнь мальчиком на побегушках в небольшой адвокатской конторе в Севилье. В семнадцать – пошел работать на авиационный завод. Это была вторая половина 50-х годов, когда в Андалузии, как и во всей Испании, резко активизировалась классовая борьба, и именно в то время в недрах контролируемых правительством профсоюзов начали создаваться Рабочие комиссии. В двадцать три года Эдуардо избирается в руководящий орган «вертикального» профсоюза на своем заводе.
– Продвигая наших людей на официальные профессиональные посты, мы стремились, как учил в свое время товарищ Ленин, сочетать подпольную работу с максимальным использованием легальных форм борьбы, – объясняет Эдуардо. – Именно на нашем заводе была организована первая в Севилье Рабочая комиссия. Чтобы не дразнить властей, ее первые заседания проводились во время разрешенных трудовым законодательством коротких перерывов «на бутерброд».
Естественно, очень скоро имя Эдуардо попадает в полицейские картотеки, несколько раз ему «по-дружески» советуют не заниматься политикой, «не будоражить рабочих», иначе «будут приняты меры». В 1966 году Эдуардо избран вице-президентом профсоюза металлистов Севильи, и в том же году принимаются обещанные полицией «меры»: его арестовывают, затем заносят в черные списки, запрещая впредь заниматься профсоюзной деятельностью. Потом было еще много арестов и судебных процессов, в том числе один из самых нашумевших: так называемый «процесс по делу 1001» в 1973 году, когда франкизм пытался загнать за решетку всех вожаков Рабочих комиссий во главе с Марселино Камачо. И чем больше было репрессий и гонений, тем больше рос авторитет и влияние этих организаций, превращавшихся в боевой штаб испанских трудящихся.
– Сначала мне дали двадцать лет, потом скостили до шести, – рассказывает Эдуардо, – и я до сих пор сидел бы за решеткой, но пришедший к власти после смерти Франко король Хуан Карлос распорядился об амнистии для большинства политзаключенных, и я снова оказался на свободе.
Мы спрашиваем, как обстоят дела сейчас. Эдуардо допивает вино, закуривает, с улыбкой поглядывает на вновь суетящегося около нашего стола чрезмерно любопытного официанта и, дождавшись, когда тот отходит, говорит:
– Сейчас вся Испания словно бы оказалась между прошлым и будущим: в стране уже не диктатура, но еще и не демократия. Идет ожесточенная борьба между небольшой группировкой правых, пытающихся, заменив фасад, сохранить основу старого режима, и громадным большинством народа, требующего подлинных перемен. Нарастает движение за легализацию компартии и Рабочих комиссий, и есть все основания надеяться, что в самое ближайшее время мы этого добьемся.
Прежде чем распрощаться, Эдуардо приглашает нас побывать завтра утром на заседании местного комитета Рабочих комиссий. Мы с энтузиазмом соглашаемся. Потом спохватываемся. Опять та же проблема: Рабочие комиссии находятся на каком-то странном полулегальном положении, и не считает ли Эдуардо, что появление в их среде советских журналистов может вызвать отрицательные эмоции у местных властей?
Эдуардо улыбается и говорит, что для того, чтобы власти придрались к нам, уже достаточно одного этого вечера, который мы провели вместе с ним.
– Да-да, одного ужина, о котором, – он кивает головой в сторону описывающего вокруг нас круги официанта, – разумеется, будет доложено, кому следует.
Что касается завтрашнего заседания, то оно с точки зрения властей и их отношения к нам, является, конечно же, более суровым нарушением, чем наш сегодняшний ужин с коммунистом. И все же…
– Решайте сами, – говорит он. – За решетку вас, конечно, не посадят. Но какие-то неприятности могут, конечно, причинить. И все же, я думаю, ничего серьезного не случится. Все-таки времена франкизма уже прошли…
Может быть, нам стоило воздержаться от визита на это нелегальное или полулегальное заседание? Не знаю… Но никак не хотелось смалодушничать в глазах Эдуардо. И на следующее утро мы отправились по указанному им адресу.
Конечно, мы старались принять все меры предосторожности. Конечно, прежде чем приехать в пункт встречи, мы долго петляли по городу и, следуя рецептам героев Юлиана Семенова, старательно следили, нет ли за нами «хвоста». Видимо, в этом деле мы оказались полными профанами, ибо, как только вернулись с заседания комитета (оно было не очень долгим, но довольно шумным: обсуждалась политическая ситуация в стране и задачи борьбы за легализацию Рабочих комиссий), в холле отеля нас уже поджидали учтивые молодые люди. Вежливо, но твердо они потребовали снятую нами пленку и пригласили нас на беседу к «хефе», то есть шефу, начальнику местной полиции.
– Мне сообщили из Мадрида, – сказал «хефе», – что вы должны снимать фильм о народном искусстве, истории, памятниках культуры Андалузии. И вдруг мне докладывают, что вы оказались на подпольном собрании коммунистов.
Мы объяснили, что никакого уговора насчет содержания фильма у нас ни с кем не было. Памятники мы снимаем – это верно, но сеньор должен согласиться, что фильм об Андалузии был бы весьма скудным, если не показать в нем жизнь и заботы трудящихся.
На лице «хефе» – крайняя озабоченность. Он просит наши паспорта, переписывает их номера, прячет паспорта в сейф и говорит, что серьезность совершенного нами проступка ставит под вопрос возможность продолжения нашей работы и целесообразность нашего дальнейшего пребывания в этой стране, законы которой мы так безжалостно и бестактно нарушили.
– Я уже доложил в Мадрид о ваших похождениях. Жду инструкций. Мне очень не хотелось бы применить к вам крайние меры…
Мы говорим, что нам этого тоже не хотелось бы. И просим разрешения позвонить в Мадрид. «Хефе» великодушно соглашается, придвигает к нам телефон, ибо знает, что мы все равно сможем, выйдя от него, связаться со столицей из гостиницы или почтамта.
Мы говорим с нашим торгпредством (советского посольства в Мадриде пока нет), объясняем ситуацию. На том конце провода говорят, что сейчас же свяжутся с руководством мадридского телевидения.
Дунаев кладет трубку. «Хефе» вопросительно смотрит на нас. Мы – на него. Выражаясь языком шахматистов: сложилось нечто вроде патовой ситуации: и он, и мы ждем инструкций из Мадрида.
В ожидании решения наших судеб обмениваемся с «хефе» свежими анекдотами, и это помогает не только скоротать время, но и прийти к выводу, что мирное сосуществование двух противостоящих миров, которые в данную минуту в миниатюре как бы сошлись в единоборстве в этом кабинете, является, все-таки лучшим решением, чем эскалация враждебности и недоверия.
Словно подтверждая эту мысль, звонок из Мадрида решает проблему. Мы не знаем, о чем идет речь, ибо по телефону говорит хозяин кабинета, но чувствуем, что идеи мирного сосуществования одержали-таки верх: «хефе» возвращает нам паспорта и меняет свой помпезный гнев на тщательно инсценируемую милость.
– Снимали бы наш фламенко или, к примеру, карнавал в Кадисе. Или, коль уж вам нужны трудящиеся, съездили бы в какое-нибудь хозяйство. Сейчас повсюду идет уборка цитрусовых. Кстати, прихватили бы там и для себя ящичек апельсинов по себестоимости. Нигде в Европе нет таких дешевых и вкусных апельсинов, как у нас, в Андалузии, – советует он нам на прощание.
Спальня императрицы
Севильский «хефе» как в воду глядел: именно эта работа – съемка цитрусовых в сельском кооперативе была запланирована у нас на следующий день. Начинаем ее с визита в андалузскую провинциальную «делегасию» – то есть отделение министерства сельского хозяйства, где нам дают сопровождающего – невысокого, стремительно полнеющего и, видимо, очень страдающего от этого сеньора с темными усиками на пухлой губе. Он носит звание доктора агрикультуры и имя, которое могло бы украсить любого испанского гранда: Хесус-Фернандес Монтес-и-Диего.
Вместе с ним и его помощником молодым инженером Хоакином Домингесом мы направляемся в одно из образцово-показательных хозяйств, которое по замыслу севильских чиновников сможет наглядно продемонстрировать нам стремительный прогресс андалузского сельского хозяйства.
Из объяснений доктора Хесус-Фернандеса мы понимаем, что кооператив «Кофрутекс» – весьма специфический: он объединяет не крестьян, а землевладельцев.
«Это образец нашего, „андалузского социализма“, – смеется доктор Хесус-Феднандес, – и я уверен, что он ничуть не хуже вашего, советского».
Мы молчим, решив отложить идеологические споры до знакомства с этим социалистическим черенком, привитым на древе андалузского частного предпринимательства. Под размеренный монолог доктора агрикультуры мы пересекаем Гвадалквивир. Справа и слева тянутся оливковые рощи, мандариновые плантации, поблескивающие тяжелыми оранжевыми плодами, ровные грядки огородов с нежными, чуть показавшимися из сырой земли всходами, и, конечно же, виноградники, представляющие собой в эту пору года, в феврале, весьма безрадостное зрелище: короткие голые костлявые плети без каких бы то ни было признаков жизни.
Сеньор Хесус-Фернандес выражает по этому поводу сочувствие и начинает рассказывать нам о кардинальных переменах, происшедших в сельском хозяйстве Андалузии за последние годы, о стремительном развитии ирригации, позволяющей увеличивать урожаи, о механизации полевых работ, о прогрессе и процветании, приходящем в эти края благодаря мудрой политике министерства агрикультуры. Я слушаю его и вспоминаю, как Эдуардо Саборидо говорил о том, что за последнее десятилетие из Андалузии уехали в другие районы страны и эмигрировали за границу свыше миллиона крестьян. Если Андалузия – рай, то почему из рая бегут?
– В начале века здесь вообще не было ирригационных сооружений, – доктор агрикультуры продолжает свой ликующий гимн Андалузии, – а к шестидесятым годам искусственным орошением было охвачено уже свыше трехсот тысяч гектаров. Вон, посмотрите! – Широким жестом руки сеньор Хесус-Фернандес обращает наше внимание на тянущийся справа от шоссе канал, который подает воду Гвадалквивира на раскинувшиеся до горизонта плантации, и вдохновенно продолжает засыпать нас цифрами могучего роста урожаев. Мы восхищаемся каналом, но потом пытаемся объяснить ему, что нас интересуют не столько сводные показатели орошаемых плантаций, сколько индивидуальные судьбы людей, работающих на этих площадях, не столько валовые доходы провинции, сколько индивидуальные заработки крестьян, создающих своим трудом эти доходы.
– Нельзя ли побеседовать с рядовыми тружениками, – говорит Дунаев. – Вот с теми, например, крестьянами, что виднеются там, за рощицей?
– Да мы не доберемся туда по этой грязи, – говорит Хоакин, которому смертельно не хочется покидать уютный салон машины.
– А мы попробуем, – деликатно настаивает Дунаев. – Для фильма нам просто необходимы кадры работающих крестьян.
– Но они и не работают вовсе, – озабоченно говорит сеньор Хесус-Фернандес, вглядываясь из-под ладони и жмурясь от сильного солнца. – У них сейчас, кажется, перерыв на обед.
– Вот и прекрасно, значит, у нас будет возможность побеседовать с ними.
Доктор агрикультуры явно не в восторге от нашего настойчивого желания пообщаться с крестьянами. Он опасается, что они расскажут нам что-нибудь такое, что придет в противоречие с нарисованной им патетической картиной процветания Андалузии. Он говорит, что мы нарушаем программу и опаздываем в кооператив!
– И все-таки нам очень хотелось бы побеседовать с этими людьми, – обезоруживающе улыбается Владимир Павлович.
Скользя и спотыкаясь, мы с трудом добираемся до группы молодых парней, заканчивающих завтрак, представляемся, извиняемся, просим разрешения побеседовать с ними и снять их за работой.
– Подождать надо, – отвечает один из них. – Еще минут двадцать осталось. Сейчас придет капатас, и мы выйдем на работу.
«Капатас» – означает бригадир, то есть приставленный к ним хозяином надсмотрщик, который отвечает за качество работы.
В ожидании капатаса беседуем с ребятами, выясняем, что работают они по найму. Своей земли ни у кого, разумеется, нет, вот и приходится наниматься то на сев, то на прополку, то на уборку, то еще на какие-либо работы. Чем они занимаются сейчас? Пропалывают сахарную свеклу. Сколько зарабатывают? Семьсот песет в день. За семь часов работы. Много это или мало? Они улыбаются и разводят руками. Хозяин считает, что много, а они не отказались бы получать и побольше. Хотя, конечно, спасибо и за это: безработица тут очень большая, желающих занять твое место много, привередничать не приходится.
И все-таки, что такое семьсот песет?.. Я вспоминаю, что вчера вечером мы вчетвером пообедали в небольшом и весьма непритязательном кафе. Скромный ужин: бифштекс, салат и чашка кофе… На четверых это стоило восемьсот песет. На каждого – по двести. Вечером отправились в кино. Билет обошелся в сотню песет. Стало быть, за день тяжелейшего труда каждый из этих парней получил плату, равную семи билетам в кино…
На тропинке, идущей от шоссе, появляется капатас, выглядит он весьма представительно: высокий, статный мужчина средних лет. Судя по походке – суровый и знающий себе цену.
Без пяти два. Капатас подходит, вопросительно смотрит на нас. Мы представляемся, просим разрешения снять его парней за работой. Пожалуйста, он не возражает, если мы не будем мешать. Нет, мешать не будем.
Все встают, вытирают рот рукавами рубах, ставят кувшины с вином и водой в тень. Натягивают резиновые сапоги и выходят гуськом на размокшие грядки.
Ровно два часа. Жаркое солнце безуспешно пытается подсушить размокшую землю. Нежные зеленые стебельки чуть колышутся под легким ветром. Парни выстраиваются в цепочку и взмахивают маленькими тяпками с короткими, очень короткими ручками. Они укорочены не случайно: с такой ручкой работнику поневоле приходится нагибаться. А склонившись к самой земле, он гораздо лучше видит сорняки. И аккуратнее пропалывает их. А если и прозевает какой-нибудь нечаянно, то на этот случай сзади шеренги работников идет капатас, помахивая прутиком и покуривая. От его бдительного взгляда не ускользает ни один пропущенный сорняк. Именно за этот контроль качества прополки ему и платят деньги хозяин. Парни мерно взмахивают тяпками, капатас пускает дымок, Бабаджан снимает. Дунаев счастлив. Я знаю, почему он счастлив: эти кадры крестьян, склонившихся над черной влажной землей, смонтируются в фильме с безмятежной физиономией маркиза де Бонанса из Хереса. Получится сопоставление: владелец плантаций, винных заводов, земли и виноградников. И те, кто умножает его богатства…
Сломив явное недовольство сеньора Хесуса-Фернандеса, нам удалось еще несколько раз пробить брешь в строгой программе поездки в кооператив «Кофрутекс» и пообщаться с простыми крестьянами, с батраками и мелкими землевладельцами. Близ поселка Лос Паласиос мы познакомились с пожилым земледельцем Антонио, ковырявшимся на огороде вместе с шестнадцатилетним сыном и девятнадцатилетней дочерью. Семейство хлопотало на грядках, где зеленели молодые побеги тыквы. Для каждого стебелька сооружали они крошечный навес, предохранявший растение от прохладного северного ветра и открывавший его теплым лучам солнца.
– Если повезет, сможем собрать ранний урожай, – говорит, вытирая пот со лба, Антонио. – За раннюю тыкву сможем взять на рынке в Севилье пять, а то и шесть песет с килограмма. А потом, недели через полторы цена упадет до трех песет. Потому и возимся тут в грязи, не дожидаясь, пока подсохнет.