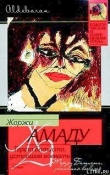Текст книги "По обе стороны экватора"
Автор книги: Игорь Фесуненко
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Но это все – чисто внешние приметы. А если попытаться определить суть дела, то душу нашего народа нужно искать на плантациях, вроде той, где мы только что были, в шахтах, на фабриках. Может быть, я ошибаюсь или преувеличиваю, но мне кажется, что душа эквадорца обычно печальна. Послушай нашу музыку!.. И ты почувствуешь, что это печальная музыка. Это не огненная бразильская самба. Она не может привести человека в радостное возбуждение, в экстаз. Но она согревает душу и сердце.
Между прочим, в шестьдесят третьем году после очередного переворота, когда власть в стране захватила военная хунта, у нас, в Гуаякиле, гимном сопротивления стал не революционный марш, а лирическая песенка «Гуаякиль де мне аморес» – «Гуаякиль – город моей любви». Сам я, правда, узнал об этом гораздо позже, так как оказался за решеткой в первые же часы после «голпе».
…Я сказал, что душа эквадорца печальна. Это верно. Но это еще не все. Душа эквадорца богата и щедра. И это, кстати сказать, тоже отражается в нашей музыке.
Мы любим шутку. Но это не безудержное веселье бразильцев, а привычка иронизировать над трагедией, в которую превратилась наша жизнь. Трагедия, продолжающаяся уже много веков. Мы охотно подшучиваем над неприятностями и посмеиваемся, когда полагалось бы плакать. Именно «посмеиваемся», а не смеемся. Ведь мы не любим сильных эмоций, как бразильцы или мексиканцы. Мы – маленькая нация, рожденная и живущая в горе. И наша улыбка всегда или почти всегда скрывает глубокую печаль, в которой мы не хотим признаваться самим себе, и поэтому не любим, когда ее замечают другие люди. Разгадай эту психологическую головоломку, и ты получишь ключ к пониманию души эквадорца.
«Честь и родина» полковника Манчено
…Энрике подвез меня к отелю «Континенталь» на улице Чили, я долго благодарил его, крепко жал ему руку. Стемнело почти так же быстро, как в Кито. С набережной в трех кварталах отсюда доносились истеричный визг автомобильных тормозов и деловитое тарахтение судовых двигателей. Позади нашего «фольксвагена» припарковался зеленый «форд». Лицо сидящего рядом с водителем человека показалось мне знакомым. А может быть, не лицо, а газета, в которую это лицо уткнулось. Но мне не хотелось копаться в памяти. Слишком уж я был взволнован и преисполнен чувства благодарности к Энрике: этот день стал, пожалуй, самым богатым впечатлениями за всю командировку. Я вдруг поверил, что уж теперь-то после такой обстоятельной беседы с этим интереснейшим человеком, имею право написать об Эквадоре что-то более весомое, чем традиционные путевые заметки, которые наш брат журналист с такой легкостью печет с помощью туристических путеводителей и подшивки местных газет.
В холле отеля мальчик в синей форменной курточке с блестящими буковками «Континенталь» на уголке воротника, подавая мне ключ от комнаты, сказал:
– А у нас тут еще один «руссо» появился. Сеньор не хочет узнать, в каком он номере?
Да, разумеется, я хочу узнать, в каком номере поселился мой соотечественник, второй, кроме меня самого, советский человек в этой стране. Надо же, какая встреча! И через две ступеньки я помчался наверх.
Еще один «руссо» оказался коллегой, журналистом, прилетевшим в Эквадор из Лимы. Коллега совершал большой вояж по Латинской Америке, который начался в столице Чили Сантьяго, а должен был завершиться в Мехико. Мы радостно похлопали друг друга по плечам, мгновенно установили массу общих знакомых и друзей, как это всегда бывает у людей, занимающихся одной работой, одной темой, в данном случае – Латинской Америкой. У коллеги – по сравнению со мной он совсем недавно, всего каких-то полгода, как выехал из Москвы, – оказалось полбатона полтавской колбасы и кое-что еще, что позволило нам славно провести остаток вечера, совсем как у Симонова:
И хлопая друг друга по коленям,
Припомнят Разгуляй, Коровий брод,
Две комнаты – одну в Кривоколенном,
Другую у Кропоткинских ворот.
Когда я вдохновенно продекламировал эти строки, коллега заметил, что теперь командированные обычно вспоминают не Разгуляй и не Кропоткинские ворота, а Химки или Новые Черемушки. Что же касается Коровьего брода, то сейчас вообще никто не знает, что это такое.
Но я ответил, что живу в Потаповском, а это, как известно, практически то же самое, что Кривоколенный, Мой Потаповский, не без гордости сказал я, является продолжением Кривоколенного от Телеграфного до Маросейки.
Я нарочно сказал «Маросейки», как говорят старожилы этого района, упрямо игнорирующие переименования и привыкшие оперировать традиционными и более дорогими их сердцу «Маросейка», «Покровка», «Лубянка». Правда, название улицы Кирова прижилось окончательно, и я не встречал москвича, который пытался бы именовать ее «Мясницкой».
С помощью походных кипятильников мы выпили по чашке чая, потом по второй и третьей. Единодушно осудили перегибы в переименовании московских улиц, вспомнили, что примером москвичам может служить Ленинград, где тоже поначалу переименовали Невский, а потом спохватились и вернулись к традиционному и святому для всех русских людей имени. И пришли к выводу, что вдали от родины гораздо приятнее вспомнить такие названия, как «Арбат» или «Таганка», чем «2-я улица Строителей» или «10-й проспект», что находится между Левоокружным проспектом и улицей Металлургов.
Рассказываю об этом так подробно только для того, чтобы вы, уважаемый читатель, имели представление, какой может быть ночная беседа охваченных приступом ностальгии, выражаясь языком того же Симонова, «двух очень стосковавшихся мужчин», случайно встретившихся в 20 тысячах километров от Москвы, в 480 километрах от экватора и в трех кварталах от реки Гуаяс под доносящийся в окна шелест шин на мокром ночном асфальте: в Гуаякиле опять шел дождь.
Прощаясь, чтобы успеть подремать хотя бы пару предутренних часов, мы единодушно решили объединить усилия и работать отныне вместе. И все последующие пять или, не помню уже, шесть дней, проведенных вместе в Гуаякиле, мы были неразлучны: вместе ездили по городу, встречались с разными людьми. Вместе обедали у Пепе, вместе говорили комплименты его молодой красавице жене и вместе смеялись, когда он рассказывал историю своей женитьбы:
– Мы познакомились на конкурсе красоты, где будущая моя супруга была официальной «подружкой» победительницы. Хотя, на мой взгляд, – улыбнулся Пепе, – все должно было бы произойти наоборот: моя будущая супруга достойна была стать «королевой», а та, что стала «королевой», вполне могла бы удовольствоваться ролью подружки. Когда мы объявили о помолвке, ее отец рассердился: «Вот угораздило, черт возьми, найти себе коммуниста!» Однако спустя два-три года он уже говорил ей: «Ты знаешь, дочь моя, он хоть и коммунист, но парень вроде бы не такой уж и плохой…» А теперь, когда мы приходим к ним в гости, чуть не на всю улицу кричит: «Ты молодец, парень! Если все коммунисты такие, как ты, запиши и меня в свою партию».
…И где-то на второй или на третий день совместной беготни мы заметили, что во всех наших передвижениях по Гуаякилю мы, оказывается, не одиноки: куда бы ни шли и ни ехали, за нами по пятам обязательно следовали двое сеньоров в темных костюмах. Поначалу они держались где-то в отдалении, потом – все ближе и ближе. Если мы обедали в кафе, они усаживались за столик, стоящий у выхода, пили пиво, читали газеты. Когда мы садились в такси, то через некоторое время мы видели наших «попутчиков» в держащемся неподалеку сером «шевроле» или зеленом «форде». Если мы поднимались, допустим, в контору к Пепе, молчаливые спутники поджидали нас в небольшом баре напротив, откуда им хорошо был виден подъезд. Как только мы выходили, они тут же становились на нашу лыжню. И так весь день сопровождая нас, они вечером следом за нами приезжали в «Континенталь» и оставались внизу, в холле, расположившись со вздохом облегчения в креслах под фикусами прямо против стойки администратора.
Когда на следующий день мы спускались к завтраку, они уже поджидали нас в баре отеля, подремывая и покуривая над чашечками кофе. Меня интересовало: неужели они сидят в холле всю ночь? И как-то раз, проснувшись под утро, я решил проверить их бдительность, спустился вниз. Круглые часы над стойкой администратора показывали половину четвертого. Ночной портье сладко всхрапывал, растянувшись на диване. Больше в холле никого не было. То ли наши караульные, преступно оставив свой пост, ушли в самоволку, понадеявшись, что ночью мы никуда не выйдем, то ли инструкция диктовала им «вести» нас лишь с утра до полуночи. Как бы то ни было, я получил возможность выскользнуть из отеля и побродить по прохладному ночному городу в полном одиночестве, наслаждаясь ощущением свободы и безнаказанности. Почти как школьник, который отважился прогулять урок ненавистной ему химии или алгебры.
А утром они снова были на месте. И еще через день мы с коллегой, привыкнув к этому почетному караулу, начали здороваться с ними утром, прощаться и желать друг другу «доброй ночи» по вечерам. Мы угощали их сигаретами, а если колебались в выборе маршрута, спрашивали у них дорогу, и они всегда учтиво объясняли нам, как лучше проехать к агентству БОАК, что на улице Икаса Кампос, и каким образом быстрее добраться к знаменитому кладбищу, которое является чуть ли не самой главной достопримечательностью Гуаякиля. Нам казалось, что этим дело и ограничится, но однажды утром, когда мы спустились к утреннему кофе и поприветствовали «попутчиков» традиционным «Буэнос диас!» – это было за сутки до отъезда коллеги и за два дня до моего возвращения в Рио – они, учтиво улыбнувшись, ответили, что очень сожалеют, но «уважаемые сеньоры» (то есть мы с коллегой) должны совершить вместе с ними небольшую прогулку.
Мы поинтересовались, не соблаговолят ли они подождать, пока мы выпьем по чашечке кофе, и получили в ответ заверения, что, разумеется, они охотно подождут нас, что мы можем не спешить, по все же не позднее девяти тридцати мы должны быть в назначенном месте.
Мы спросили, где именно надлежит нам быть к этому часу и надолго ли мы задержимся там, но наши спутники развели руками, пожали плечами и заверили нас, что они абсолютно не в курсе. Они просто выполняют приказ своего начальства.
Допив кофе, мы поблагодарили официантку, которая смотрела на нас с участием, с каким глядят деревенские молодухи вслед парням, уходящим на призывной пункт. А когда вышли из отеля на улицу, сразу стало ясно, что ситуация заметно изменилась. «Караул» уже следовал не за нами, а рядом с нами: попутчики шагали один – справа, другой – слева. И тем самым как-то само собой стало понятно, что из «сопровождаемых» мы превратились в «конвоируемых».
Тут же, у отеля, мы были вежливо усажены в уже хорошо знакомый нам серый «шевроле» и двинулись по маршруту, который и предвидели: направо за угол, пересекая улицы Педро Карбо, Пичинчу и Боливара, выехали на Малекон и покатили налево к уже хорошо знакомому зданию муниципалитета. Мы были знакомы с ним, так сказать, снаружи, по рассказам Пепе, Энрике, Рафаэля Икасы. А теперь, судя по всему, нам предстояло познакомиться с ним и внутри…
Все правильно: мы подкатили к этому тяжеловесному, неуклюже пародирующему барокко серому дому с его широкими колоннами, обрамляющими высокую – на три этажа – арку, над которой в глубине треугольного фронтона виднелись, если отойти подальше, на другую сторону Малекона, гордые слова «Онор и Патрия»: «Честь и Родина»…
В этом дворце размещался не только муниципалитет. Там находилось и Управление политической безопасности Гуаякиля, в следственных камерах которого обычно держали политических заключенных. Пепе рассказывал нам, что после военного переворота 1963 года именно сюда свезли схваченных по всему городу коммунистов, профсоюзных руководителей, работников редакции коммунистической газеты «Пуэбло». Здесь их пытали током, вгоняли иголки под ногти, рубили пальцы, выкалывали глаза, душили и просто били, примитивно и грубо: дубинками и ногами. В те времена – в начале 60-х – пытки политических заключенных в Эквадоре, да и в других южноамериканских странах еще не отличались изощренностью и сноровкой. Сноровка появилась несколько лет спустя, когда в древнее, как мир, ремесло истязателей и палачей вдохнули новую жизнь прибывшие по эту сторону экватора Дэн Митрионе и другие специалисты из вашингтонского Управления общественной безопасности.
А тогда, в начале 60-х, в Гуаякиле обходились еще старыми дедовскими методами: тушили окурки о кожу заключенных, били их носками ботинок под ребра. И уж конечно, если бы в те времена тут работали эксперты из Вашингтона, местные кадры не осрамились бы так, как это случилось 24 февраля 1964 года, когда после многочасового сеанса пыток они выбросили из окна камеры (пятнадцать метров высоты над тротуаром) члена ЦК компартии Эквадора Луиса Вальдивьесо Морана. Они думали, что он уже мертв, и хотели замести следы убийства. «Ла Пренса» – есть такая газета в Гуаякиле – сообщила об этом «инциденте» фразой, цинизм которой не поддается определению: «Упав на тротуар, Вальдивьесо Моран, к сожалению, не скончался, а лишь переломал себе ноги»… Да, Луис оказался жив. И к нему бросились прохожие, и в городе разразился скандал, и об этом узнали газетчики, и на следующий день по городу разлетелись листовки, а еще через несколько дней об этом узнал весь мир.
…Вспоминаю об этом не для того, чтобы накачать в повествование побольше драматизма. У меня и в мыслях нет зажигать над нашими головами сияющие нимбы мученичества: когда нас с коллегой конвоировали по гуаякильскому Малекону к муниципальному дворцу, мы прекрасно понимали, что направляемся не в тюрьму. Время было другое. Ситуация в стране иная. С самого начала нам было ясно, что речь идет лишь о допросе, о выяснении наших связей и контактов, и самое «страшное», что нам «угрожает», если местные власти нами недовольны, это высылка из страны.
Мы не обманулись: начальник службы политической безопасности Гуаякиля полковник Гало Гомес Манчено предстал перед нами воплощением любезности и олицетворением самых утонченных светских манер. Он сердечно приветствовал нас, предложил сесть, угостил сигаретами, рассыпался в извинениях за причиненное беспокойство и с таким горячим интересом принялся расспрашивать о самочувствии, что, окажись свидетелем этой беседы непосвященный человек, он мог бы предположить, что мы находимся на приеме у врача. Потом полковник пустился в долгие рассуждения о местном климате, о дождях, наконец-то появившихся после недавней засухи.
Мы старались демонстрировать сдержанность, но не торопились «качать права». Сначала нужно было понять, чего он от нас хочет и чем намеревается увенчать эту беседу: «дружеским предупреждением» или просьбой о незамедлительном выезде из страны. Мы прекрасно понимали, что с точки зрения местных законов и порядков, а также правил работы иностранной прессы никаких прегрешений за нами нет. Но мы знали также и то, что в случае необходимости толкование инструкций может оказаться очень своеобразным. И для любого закона можно найти исключения и «особые случаи». Поэтому, лишь когда полковник в третий раз поинтересовался нашим самочувствием, мой коллега, изобразив светскую улыбку, позволил первый ответный выпад. Он сказал, что мы чувствуем себя прекрасно, ни разу за время пребывания в Гуаякиле не обращались к врачам и не заходили в аптеки, и господину полковнику это должно быть хорошо известно, ибо он – господин полковник – достаточно хорошо осведомлен о всех наших передвижениях в городе Гуаякиле и его окрестностях.
Полковник ответил, что просьба посетить вверенное его руководству учреждение была продиктована одним лишь только желанием познакомиться со столь интересными и видными гостями «нашего города», выяснить, не нуждаются ли уважаемые сеньоры в содействии со стороны местных властей.
Мы поблагодарили нашего собеседника и, в свою очередь, заверили его в том, что никакого содействия со стороны властей нам пока не требовалось. Тем более что, как ему, должно быть, хорошо известно, в своих профессиональных контактах представители прессы предпочитают иметь дело с правительственными властями или муниципальными органами, а не с теми специфическими службами, которые здесь, в Гуаякиле, с таким блеском возглавляет господин полковник.
Полковник улыбнулся и выпустил ответную пулю, заметив, что в профессиональных контактах, которые мы имели во вверенном его попечениям городе, он с огорчением констатирует почти полное отсутствие интереса к представителям официальных властей и в то же время весьма горячую заинтересованность в общении с политической оппозицией режиму.
– В этом может быть усмотрено какое-нибудь нарушение местных законов? – интересуюсь я.
– Ни в коем случае! – отвечает полковник. – В этом может лишь просматриваться определенная политическая тенденция. И я поэтому позволю себе дать вам дружеский совет: старайтесь избегать в ваших будущих статьях и репортажах об Эквадоре односторонности и предвзятости.
Мы благодарим полковника. Я хочу добавить, что мы, в общем-то, имеем обыкновение пользоваться только теми советами, о которых сами спрашиваем. Но коллега толкает меня в бок и шепчет, что, во-первых, не надо дразнить гусей, во-вторых, у нас до отъезда остается слишком мало времени и тратить его на обмен любезностями с этим солдафоном – по меньшей мере бесхозяйственно.
Свидание завершается в атмосфере почти дружелюбия. Полковник заверяет нас в своих самых искренних симпатиях, мы рассыпаемся в ответных любезностях. Нас провожают до выхода, выводят из-под арки, над которой красуются безмолвные «Честь и Родина», усаживают в серый «шевроле» и доставляют в «Континенталь». Администратор смотрит на нас с неподдельным сочувствием и в то же время с некоторой демонстративной отстраненностью, словно декларируя на всякий случай полную непричастность отеля к делам и заботам своих клиентов.
Мы поднимаемся наверх – коллега отправляется укладывать свои чемоданы. Ему завтра улетать. А я привожу в порядок записи и фиксирую в блокноте беседу с полковником Манчено.
Потом мы с коллегой снова встречаемся, обедаем и, выходя из ресторана, видим в газетном киоске в висящей для всеобщего обозрения только что вышедшей вечерней газете «Ла Пренса» – той самой, что так своеобразно прокомментировала «падение» из тюремного окна Вальдивьесо Морана – в центре первой полосы на самом видном месте крупно набранный заголовок: «Накануне выборов два руководителя советской коммунистической партии прибыли в Эквадор».
Ниже – заметка, в которой говорится, что два советских агента, являющихся руководителями коммунистической партии этой страны (полностью даны наши фамилии и имена), прибыли несколько дней назад в Гуаякиль и, маскируясь под журналистов, осуществляют здесь целую серию контактов с руководителями Коммунистической партии Эквадора. Не исключено, что эти контакты носят сугубо политический характер с учетом приближающихся президентских выборов.
Далее «Ла Пренса» сообщала, что по имеющимся у нее данным в правительственных сферах уже обсуждается вопрос о высылке упомянутых «элементов» с территории страны, ибо их пребывание здесь, носящее характер «политического шпионажа», представляет угрозу политической стабильности, учитывая повышенную активность «известных представителей коммунистических тенденций», стремящихся к изменению существующего правопорядка.
…Итак, все ясно: распрощавшись с нами несколько часов назад, полковник тут же вызвал репортера «Ла Пренса» и выдал ему эту версию. Бульварная газетка с радостью ухватилась за сенсацию и гневно заклеймила «агентов международного коммунизма».
Мы купили по газете и поднялись к себе. Нам предстояло решить, как действовать в этой ситуации.
Самым простым решением было бы сделать вид, что ничего не произошло: дожить коллеге до завтра, мне – до послезавтра и спокойно разъехаться по намеченным маршрутам, оставив провокацию на совести полковника и «Ла Пренсы». Но если «тихо уехать», та же «Ла Пренса» зашумит, что мы испугались, сбежали, и это лишь подтверждает ее предположение о «политическом шпионаже»… А тогда, глядишь, и другие газеты подхватят утку. Мы размышляем, взвешиваем альтернативы, и у нас созревает решение, оказавшееся, как покажут дальнейшие события, самым разумным и безошибочным.
Мы отправляемся с «визитами вежливости» в редакции трех остальных гуаякильских газет: в «Эль Телеграфо», «Эль Универсо» и затем – в вечернюю «Ла Расой». В каждой редакции мы встречаемся с главным редактором или с тем, кто его замещает. И в каждой редакции мы отнюдь не жалуемся на клевету «Ла Пренсы» и вообще первыми не упоминаем о ее заметке. Мы говорим, что пришли «навестить коллег», «познакомиться с интересным опытом работы вашей уважаемой редакции». Мы пьем кофе, которым нас угощают, и рассказываем о наших журналистских делах. И в каждой из этих трех редакций, естественно, заходит речь о заметке «Ла Пренсы».
И тут я достаю из чемоданчика-кейса вырезки из колумбийских газет, рассказывающие о грандиозном интервью, которое мне дал Президент этой страны, кладу их на стол и, изобразив на своей физиономии выражение крайнего удивления, переходящего в сдержанное негодование, кротким голосом говорю, что вот, мол, уважаемые сеньоры, какие на нашем с вами профессиональном пути могут приключиться занятные парадоксы: в Колумбии, проработав две недели, я собрал богатый журналистский материал и увенчал свое пребывание в этой стране полуторачасовым – обратите внимание, сеньоры, это не я вам говорю, это пишет выходящая в Боготе «Эль Эспектадор»… – полуторачасовым интервью с Президентом, который пользуется заслуженным уважением и доверием во всем мире. И никто в Колумбии не обвинял меня в шпионаже и в иных злонамеренных делах. Вот вырезки из выходящих в Боготе газет, вот опубликованные в них фотографии моей встречи с сеньором Президентом. Вот, посмотрите, здесь пишут: «С главой нашего государства имел вчера продолжительную беседу видный советский журналист…» «Крупный специалист по проблемам Латинской Америки был принят нашим Президентом». Я, разумеется, не настаиваю на точности эпитетов «видный» или «крупный специалист»! Возможно, здесь допущено известное преувеличение. Но, обратите внимание, уважаемые сеньоры: никто в Боготе, включая самого сеньора Президента, не подвергал сомнению мою принадлежность к цеху журналистов! Никто не говорил о «политическом шпионаже» и не пытался подвергнуть меня остракизму за то, что я представляю советскую прессу. Так чем же объясняется странная, мягко выражаясь, позиция ваших коллег из «Ла Пренсы»?
…На следующий день все три газеты вышли с сообщениями о наших визитах. «Эль Телеграфо» и «Ла Расой» даже поместили наши фотографии. Заголовки этих заметок были весьма недвусмысленными: «Два советских журналиста находятся в нашей стране и готовят о ней репортажи» («Эль Телеграфо»), «Два русских журналиста нанесли сердечный визит в нашу редакцию» («Эль Универсо»). А более склонная к патетике «Ла Расой» выразилась категорично и безапелляционно: «Я не шпион, а журналист», – заявил нам русский корреспондент, приехавший в Гуаякиль.
Собрав эти номера, я направил свои стопы в «Ла Пренсу». Меня сопровождал Пепе. Коллеги уже не было: он улетел рано утром.
В «Ла Пренсе» мы с Пепе потребовали начальство.
После некоторой заминки нас принял кто-то из редсовета. Девица в белом фартучке принесла кофе и минеральную воду. Мы гордо отказались от угощения. Мы были сдержанны и молчаливы. Мы разложили на столе газеты из Боготы, рядом с ними положили утренние выпуски гуаякильской прессы, увенчали этот натюрморт фотографией моего рандеву с Президентом Колумбии. И рядом положили вчерашний номер «Ла Пренсы».
После этого я сказал, что очень недоволен недружественным и бездоказательным выпадом «вашей газеты», что был бы крайне разочарован приемом, оказанным мне в Гуаякиле, если бы не солидарность коллег из «Эль Телеграфо», «Эль Универсо» и «Ла Расой». И что мне совсем не хотелось бы прибегать к услугам местной юриспруденции, но если «Ла Пренса» не опубликует опровержения на свою вчерашнюю статью…
– Опубликуем, – сказал директор. – С глубочайшей радостью опубликуем.
Он прекрасно понимал, что я не стану «прибегать к услугам юриспруденции». Для этого у меня, во-первых, не было денег: юриспруденция в Эквадоре, как и во всем остальном «свободном мире», стоит недешево. Да и времени у меня для этого не оставалось, ибо в кармане уже лежал билет на завтрашний рейс «Варига» в Рио-де-Жанейро. Но выглядеть белой вороной, ослом и тупицей директору «Ла Пренсы» тоже не хотелось. И поэтому в тот же вечер, последний мой вечер в Гуаякиле, с громадным удовлетворением я увидел в «Ла Пренсе» фотографию, запечатлевшую меня с Президентом Колумбии. Ту самую, работы фирмы «Фото-Сади». Над снимком была набрана надпись: «Очень жалко, что мы еще так мало знаем друг о друге». И ниже фотографии была напечатана заметка, в которой сообщалось, что редакцию газеты посетил видный советский интеллектуал и журналист сеньор Игорь Фесуненко, который работает в Рио-де-Жанейро, но в данный момент совершает большую поездку по ряду латиноамериканских стран. Он не шпион, не коммунистический агитатор, он – журналист, выполняющий свою профессиональную миссию. О чем, в частности, свидетельствует продолжительная беседа, которой его удостоил, как это видно по публикуемой фотографии, Президент соседней с нами страны.
«Спасибо, сеньор Президент!» – подумал я, взял ножницы и с особым удовольствием отправил в свое эквадорское досье вырезку из этого номера гуаякильской газеты «Ла Пренса». А спустя полгода рядом с ней я подшил и копию очерка «На экваторе в Эквадоре», который был все-таки написан и напечатан в «Комсомольской правде».