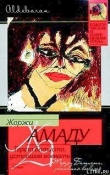Текст книги "По обе стороны экватора"
Автор книги: Игорь Фесуненко
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Уже далеко за полночь мы выкурили по последней сигаре.
– Наверное, тянет обратно в Гавану? – спросил я.
– Немножко тянет, – улыбнулся он.
– Скажите честно: вам не скучно здесь?
– Скучно? Почему? У нас, врачей, работа везде одна и та же: больные. И болезни всюду одни и те же. Что тут, в Лас-Вильяс, что там, в Гаване. Разницы никакой. Вот и работаю здесь. Пока. А потом? Потом, куда пошлет революция…
Мельба – переводчица или певица!
Бронепоезд, героические бои на подступах Санта-Клары – это, конечно, интересно, ибо это героика революции, но разве можно вернуться в Гавану без материала, отражающего героику труда? И поэтому во второй половине дня Мирабал организует нам съемку репортажа на литейно-механическом заводе имени Агилар Норьега в Санта-Кларе. Это как раз то, что нужно: передовое предприятие, неоднократно побеждавшее в социалистическом соревновании, боевой пролетариат, сотрудничество с советскими братьями по классу. Наскоро пообедав, мчимся на завод, начиная изнуряющую погоню за уходящим солнцем и временем.
До окончания рабочего дня нам необходимо снять хотя бы два-три синхронных интервью и несколько, как мы говорим, «планов» в цехах, которые уже начинают пустеть, ибо смена заканчивается. До наступления темноты нужно успеть снять и хотя бы один общий план фабрики. Поэтому слово «галоп» лишь в малой степени характеризует обстановку, сложившуюся в тот бурный день в нашей маленькой съемочной группе.
Первым делом встречаемся в красном уголке с руководителем заводского профсоюза и с одним из советских специалистов. Кубинец вдохновенно и стремительно рассказывает о братских связях завода имени Норьега с советскими фабриками аналогичного профиля, о социалистическом соревновании с заводом имени Ухтомского в городе Люберцы, который выпускает комбайны для уборки сахарного тростника на плантациях Кубы, выражает уверенность в дальнейшем упрочении этих братских связей. Затем мы приглашаем к микрофону советского инженера, который, увы, нервничает и, видимо, не имея навыка излагать свои мысли без спасительной шпаргалки, умудряется в четырех фразах пять раз сказать слово «работа». Он говорит, что за время работы группы советских специалистов на предприятии была проделана большая работа по организации капитального ремонта оборудования и оказанию помощи кубинским товарищам, в их работе по подготовке технической документации в связи с переходом завода на работу по изготовлению машин для работы в сахарной промышленности. Я тяжко вздыхаю, представив себе, как трудно будет нашим монтажницам убрать хотя бы половину «работ».
После этого устанавливаем аппаратуру у входа в заводоуправление и снимаем «синхрон» с главным инженером завода Луисом Фонсека, который рассказывает о том, что завод был открыт Эрнесто Че Гевара в 1964 году и с тех пор выпускает запчасти для сахарной промышленности. Луис говорит коротко, ясно, толково и заканчивает интервью выражением благодарности советским специалистам за братскую помощь.
Теперь мы почти бегом устремляемся в цех, где нас ждут специально задержанные после окончания смены несколько бригад. По дороге, используя последние лучи солнца, Долина умудряется снять круговую панораму заводских цехов, грузовики с готовой продукцией, утопающие в зелени аллеи между заводскими корпусами и рабочими, идущими после смены к проходной. А Александр вместе с Женей, Габриэлем, Феликсом и Диосдадо устанавливают тем временем лампы в цеху (впрочем, на профессиональном языке они называются не «лампами», а «осветительными приборами»), готовясь к съемке интервью с инженером, который учился в Минске и смог даже вспомнить несколько фраз по-русски. Со светом дела обстоят неважно: наши лампы слишком слабы, чтобы хорошо высветить громадные станки, создать хотя бы небольшую иллюзию перспективы, подчеркнуть размеры цеха. Пока ребята возятся с аппаратурой, я репетирую с инженером, предупреждаю его, какие задам вопросы.
Далее следует обычное: «мотор», «микрофон». Инженер с благодарностью вспоминает годы, проведенные в Минске, благодарит своих минских преподавателей и говорит о том, как помогают ему в работе знания, полученные в Советском Союзе.
Итак, у нас есть уже четыре интервью, но они никак не склеиваются в репортаж: все наши интервьюируемые говорят хорошо и правильно, но об одном и том же. И это моя вина. Нужно было лучше готовить их к съемке, задавать им вопросы так, чтобы ответы на них не повторялись, не дублировали друг друга. Но попробуй сообрази все это в лихорадочной спешке, когда солнце уходит, а в голове жужжит мысль, что десятки рабочих, уставших и голодных, остались после смены у своих станков только ради нас.
Нужно срочно искать какой-то ход, придумать что-нибудь, иначе репортаж погибнет. Это понимаю не только я. Долина и другие ребята вопросительно смотрят на меня. У меня опускаются руки, я ничего не могу придумать и готов провалиться сквозь землю.
И вдруг – как часто нас выручает это спасительное «и вдруг»! – в конструкторском бюро завода нас знакомят с обаятельной мулаткой Мельбой – переводчицей, работающей с русскими инженерами и занимающейся в свободное от работы время пением. Песня – это как раз то, что нам нужно, чтобы спасти сюжет. Она снимет у телезрителя напряжение и ощущение скуки, которое может возникнуть после серии однотипных в общем-то интервью.
Мы разыгрываем такую сцену: Мельба пишет что-то на машинке под диктовку одного из наших инженеров, затем в кадре появляюсь я. Завязывается беседа, в ходе которой Мельба рассказывает, что, помимо работы, она увлекается самодеятельностью – поет русские и кубинские песни.
Тут я, как это предписано старыми добрыми законами жанра, изображаю (или, говоря самокритично, пытаюсь изобразить) на своем лице радостное изумление. Как если бы узнал об этом именно сейчас вместе с телезрителями. Да простят мне они этот убогий штамп! Уверяю Мельбу, что мне очень хочется послушать, как она поет. Девушка улыбается и наклоняет голову в знак согласия. Положа руку на сердце должен признать: инсценировка получается у нее гораздо естественнее, чем у меня. Может быть, потому, что она волнуется? Или потому, что принимает эту игру всерьез?
Короче говоря, мы заканчиваем съемки на заводе мягкой и приветливой улыбкой Мельбы. Она послужит отличным лирическим мостиком к заключительному куску репортажа – к песням Мельбы. Поскольку в заводском цехе рояля нет, пение Мельбы решаем снять вечером в маленьком «кабаре» нашего мотеля.
«Кабаре» это представляет собой не слишком просторную хижину с крохотной эстрадой. Администрация «Канеес» по просьбе Габриэля предоставляет ее на пару вечерних часов в наше распоряжение. В дверях толпятся любопытные, наблюдая за тем, как, задыхаясь от жары, мы устанавливаем свет, ругаемся, опрокидываем пюпитры на сцене и не знаем, куда подвесить или как установить микрофон: стойку для него мы забыли в Гаване, а подвесить к потолку его очень трудно, так как потолок хижины высок, лестницы у нас нет, да если бы и была, разве захочется лезть на нее после такого суматошного дня? Феликс, Габриэль и Диосдадо сбиваются с ног, помогая нам, и я благодарю судьбу за то, что она послала нам таких энергичных и заботливых помощников.
Каждый, кто хотя бы раз в жизни имел дело со звукозаписью, хорошо знает, как трудно записать на один микрофон и певицу и рояль так, чтобы они не заглушали друг друга. Этот старый, рассохшийся инструмент долго и безуспешно пытается настроить пианистка, принарядившаяся по случаю киносъемки, но, увы, так и не попавшая в кадр. В зале скрипят стулья, летают миллиарды москитов. Мельба начинает петь. Я в восторге: голос у нее просто чудесный: сочный, сильный, красивого тембра. Слух у девушки – безукоризненный. Но она волнуется и ошибается. Приходится делать несколько дублей. Когда же она наконец успокоилась и, собравшись с силами, запела по-настоящему хорошо, кто-то из толпящихся вокруг кубинцев оглушительно чихает… Короче говоря, мы сняли этот злополучный кусок лишь после множества дублей, когда пленка в кассете кончилась, наши силы тоже были на исходе, когда Мельба потеряла голос, а Долина – терпение.
Но все хорошо, что хорошо кончается. Добираемся до ресторана уже совсем обессиленные. Отдышавшись, выпив ледяной минеральной воды, приходим в себя. Поставив на стол крошечный транзистор, Долина старательно вылавливает из него мексиканские и американские джазы, Габриэль с Феликсом затевают жаркий спор о преимуществе светлого пива перед черным. А я беседую с Мельбой. Она оказалась на редкость обаятельной собеседницей, остроумной и веселой. С изумлением узнаю, что русскому языку учил ее один из моих товарищей, Анатолий Трусов, который когда-то преподавал в школе имени Максима Горького в Гаване, а сейчас работает в Москве на радио. Мы с удовольствием констатируем далеко не оригинальную, но всегда удивляющую мысль о том, что этот бескрайний и необъятный мир чертовски все-таки тесен!
Спрашиваю, не пыталась ли она стать профессиональной артисткой.
– Нет, не пыталась и не хочу.
– Почему?
– Мне нравится моя работа, и я не хочу ничего менять.
– А ведь из тебя, вероятно, получилась бы хорошая певица!
– Возможно. Меня однажды услышала Елена Бурке. И сразу же пригласила в Гавану. Пообещала устроить в какое-нибудь музыкальное ревю.
– И ты отказалась?
– Да. Мне больше нравится здесь, в Санта-Кларе.
Она молчит немного и, видимо, поняв, что этот аргумент кажется мне не слишком убедительным, говорит:
– Ну а кроме того, у меня ведь семья. Двое детей. Муж. Верчусь с утра до вечера. Тут уж не запоешь.
– А где работает муж?
– Здесь же, на нашем заводе. Техником. А по вечерам учится. Хочет получить диплом инженера. Так что, видно, опоздала я стать певицей.
Деликатно отставив в сторону мизинчик, она помешивает кофе крохотной ложечкой. Ее смуглые пальцы и значительно более светлые ладошки покрыты заусеницами и мозолями: безошибочные следы стирки белья, мытья посуды и прочих извечных женских трудов и хлопот.
На прощание она передает привет Анатолию Трусову, и мы выражаем традиционную в таких случаях, но редко сбывающуюся надежду свидеться когда-нибудь еще раз.
* * *
После ужина перед сном читаю старый номер газеты «Гранма», забытый кем-то из прежних постояльцев в «кабанье» – хижине, которую я сейчас занимаю. Со ссылкой на бразильский журнал «Фатос и фотос» «Гранма» сообщает, что в американском городе Индианаполисе некий Чарльз Джонс застрелил в упор Стэнли Амоса Селига, только что вернувшегося из Бразилии агента по продаже земельных участков. В полиции Чарльз Джонс объяснил, что он был обманут рекламными объявлениями, которые Селиг публиковал в США, расписывая плодородные амазонские земли, способные приносить сказочные урожаи и к тому же богатые полезными ископаемыми. Чарльз Джонс купил у Селига несколько десятков гектаров в штате Гояс, убедился, что это безжизненная каменистая земля, на которой не растут даже кактусы, и свел с мошенником счеты традиционным для предприимчивых американцев способом.
Впрочем, пишет далее «Гранма», Селиг был лишь мелкой рыбешкой в стае хищников, которые накинулись сейчас на бразильскую Амазонию. Самый матерый из них – знаменитый миллиардер Дэниэл Кейт Людвиг, которого журнал «Форбс мэгэзин» считает самым богатым человеком на земле, оценивая его состояние в пять миллиардов долларов. Людвиг, оказывается, купил по левому берегу Амазонки громадную территорию, превышающую по площади иные государства. И намерен всерьез заняться там переработкой древесины. «Жари» – так называется грандиозное по объему капиталовложений предприятие, заложенное американцем близ поселка Алмейрим.
О, Алмейрим! Я же был там в семидесятом году! Совсем вроде бы недавно. Я хорошо помню этот патриархальный, тихий, зажатый между сельвой и рекой поселок. Уже тогда по Бразилии ползли слухи о том, что пронырливые агенты какой-то крупной американской фирмы шарят по амазонской сельве в поисках «наиболее удачного вложения капитала», так это называется на языке деловых людей. Имя Людвига тогда не всплывало, а жители Алмейрима в ответ на мои расспросы скептически покачивали головами: неужели найдется сумасшедший, который согласится вложить свои деньги в этот «зеленый ад», где не то что богатым стать, а просто свести концы с концами невозможно.
Итак, Даниэл Кэйт Людвиг, проект «Жари», Амазония. Жалко, что я уже не в Бразилии. Очень интересно было бы проследить судьбу этого предприятия, ради успеха которого Людвиг, как сообщает «Гранма», собирается даже закупить в Японии и доставить на Амазонку – пока не совсем ясно, каким способом, – гигантскую фабрику по переработке древесины в целлюлозу.
Снимать в Эскамбрае
Из Санта-Клары в Эскамбрай мы выезжаем рано утром. Залитое розовым, но уже жарким светом восходящего солнца шоссе ведет нас сначала по равнине, но вскоре рельеф начинает меняться. Дорога взбирается на пологие отроги холмов Агабама, потом спускается в долину речки Сагуа-ла-Гранде.
Слева и справа уплывают назад ослепительно зеленые табачные плантации. За поселком Маникарагуа шоссе устремляется вверх, подымаясь по северным склонам Эскамбрая – горного района, который до революции был одним из самых глухих и заброшенных уголков Кубы. Поэтому именно здесь в начале 60-х годов контрреволюция попыталась свить свое гнездо и создать плацдарм для готовившегося наступления на молодую республику.
Дорога становится круче, серпантин асфальта извилистее. Водитель Мойзес переходит на третью передачу, затем на вторую. За каждым поворотом – все более глубокие долины и глухие, заросшие лесами ущелья. Да, здесь можно было спокойно собирать силы, накапливать оружие, закладывать военные лагеря, даже проводить учения и стрельбы, не опасаясь, что кто-нибудь услышит или узнает об этом.
Ни шоссе, по которому взбираются наши машины, ни иных мало-мальски проезжих дорог не было проложено еще тогда на этих горных склонах. Поэтому-то и надеялись гусанос – «червяки» – так кубинцы прозвали контрреволюционеров, – что здесь до них не доберутся ни народная милиция, ни армия республики.
– Люди жили здесь в полном отрыве от цивилизации, – рассказывает Диосдадо. – Десятилетиями не спускались с гор. Не представляли, что существует электричество, радио, автомобили. Если кто-нибудь заболевал, неудачника сажали на мула и тащили к «ближайшему» врачу по глухим горным тропам. Путешествие обычно продолжалось несколько дней, и чаще всего бывало так, что больной умирал в пути. Его хоронили там, где настигала смерть. Никто не знает, сколько полусгнивших крестов стоит в этих ущельях, сколько безымянных могил заросло папоротником и травой.
Еще круче ввинчивается ввысь узкая полоска асфальта. Тревожно стонет мотор. Через каждые полсотни метров Долина требует остановиться, торопливо выскакивает из машины, бросается к багажнику, вытаскивает гигантскую, словно Эйфелева башня, треногу штатива, водружает на нее «арифлекс» и припадает к видоискателю с жадной дрожью путника, добравшегося в центре Сахары до последнего родника. Нацелившись длинноствольным, как базука, объективом в очередную пропасть или стоящую на другой стороне обрыва раскидистую сейбу, расщепленную ударом молнии, он восторженно шепчет: «Какой план! Снять и умереть в этом Эскамбрае!..»
Кубинские коллеги с великодушной улыбкой покачивают головами, словно эти чудеса природы слеплены и преподнесены нам в подарок их собственными руками, и говорят, что умирать здесь не надо. Надо ехать вперед, ибо сотней метров выше мы найдем еще более впечатляющие красоты. «Остановимся и там», – бормочет Долина, не прекращая яростно поливать длинными очередями все, что попадает в поле зрения объектива. Сейчас он похож на японского камикадзе – смертника, которого привязали к скале и приказали отстреливаться до последнего патрона.
Диосдадо с кроткой улыбкой высказывает предположение, что если мы будем с такой тщательностью фиксировать на пленку каждое встречающееся на нашем пути дерево, то вряд ли сумеем вернуться в Гавану раньше января будущего года. А деньги, отпущенные нам на поездку, завтра к вечеру должны подойти к концу.
Этот аргумент действует на Долину укрощающе. Он нехотя отрывается от видоискателя, снимает камеру, вздыхает, великодушно позволяет своим помощникам зачехлить и водрузить в багажник штатив, и пока они возятся с гигантской треногой, объясняет мне: «Вот ты сейчас нервничаешь, торопишь, а через два дня, когда мы с тобой в Гаване просмотрим проявленный материал и начнем монтировать этот сюжет, вот тогда-то ты мне скажешь: „Спасибо, друг! Выручил!“ И хочешь знать, почему? Да потому, что представь себе: станешь ты делать тему „Контрреволюция“. Одна „говорящая голова“ рассказывает о бандитах, другая говорит то же самое, потом третья… Слепим мы эти „головы“, одна к другой, и все это будет действовать как сильное снотворное. Потому что нельзя делать репортаж только на интервью. Ты не знаешь, как быть, и тут-то я показываю тебе сегодняшние планы! Смотри: глухое ущелье, камень, нависший над пропастью, одинокий коршун сел на высохший ствол с черными голыми ветками. Сплошная тревога, смятение, беспокойство. Чувствуешь, как эти планы работают на нашу тему?..»
Мы втискиваемся в маленькие машины. Водители жмут на педали. Мотор «Альфы» взвывает особенно яростно, словно стремясь выпрыгнуть из-под раскаленного капота на свежий воздух. Потом успокаивается и переходит на чуть слышный рокот: мы миновали перевал. Вскоре прямо по курсу на вершине ближайшей горы возникает высокое белое здание. Такое же неожиданное для этого дикого ландшафта, как плантация тюльпанов на Чукотке. Это и есть цель нашего сегодняшнего маршрута – поселок Топес де Кольянтес: административный центр Эскамбрая, приютившийся у вершины почти километровой горы Потретильо.
Диосдадо, с удовольствием вошедший в роль гида, говорит, что до революции в том здании, к которому мы держим путь, размещалась лечебница для местных богатеев. В годы борьбы с бандитизмом революционная власть организовала там временную тюрьму для отлавливаемых бандитов. Потом контрреволюционеров вывезли в Гавану, здание отремонтировали и устроили в нем первую в республике школу преподавателей младших классов. А сейчас, когда страна взялась за развитие туризма, здесь предполагается организовать первоклассный отель.
Объезжаем эту светлую, похожую на океанский лайнер восьмиэтажную громаду, шоссе извивается по небольшой седловине, соединяющей два холма, и выходит к двухэтажному серому особняку, в котором разместился районный комитет партии. В прохладном холле нас приветствует Рафаэль Гонсалес Родригес, заведующий отделом революционной ориентации. Разумеется, тут же появляются кофе и сигареты, Рафаэль предлагает отдохнуть с дороги, но Виталий озабоченно поглядывает на солнце, которое вот-вот скроется за облаками, и шепчет, что отдыхать будем в Гаване, а сейчас нужно работать. И работать быстро, пока есть погода, пока хорош свет.
Прошу Рафаэля организовать несколько интервью, которые могли бы дать достаточно полное представление и об истории края, и о его сегодняшнем дне. Первое – с ветераном революции и участником борьбы с бандитизмом, второе – с местным руководителем, который сможет рассказать, как менялась жизнь Эскамбрая после революции. «Это можешь сделать ты сам, Рафаэль, не правда ли?..» Кроме того, хотелось бы снять представителя местной интеллигенции и крестьянина, который вспомнит о жизни бедняков Эскамбрая в старые времена. Рафаэль внимательно слушает, записывает пожелания в блокнот и выходит.
Нет, мы не имеем права жаловаться на кубинских друзей! Через каких-нибудь пятнадцать минут нас знакомят с невысоким, застенчиво улыбающимся Мигелем Пухоль Вальдивия, бывшим работником райкома, а ныне – начальником дорожной сети Эскамбрая.
– Вот вам первое из запрошенных интервью – ветеран революции, – говорит Рафаэль, обнимая за плечи Мигеля.
Ветеран? Опять не вяжется это слово с обликом совсем еще молодого кубинца, спокойно раскуривающего черную, необъятных размеров сигару.
– О чем, собственно, говорить-то? – спрашивает он, наблюдая, как Виталий, установив на треногу кинокамеру, озабоченно приникает к видоискателю, подыскивая фон для съемки, ибо фон в таком интервью – чрезвычайно важное дело.
– О себе, о своей жизни, – отвечаю, – и в первую очередь о борьбе с бандитизмом.
– Вероятно, вам лучше было бы найти кого-нибудь из руководителей этой операции, – говорит Мигель. – Я ведь всего-навсего рядовой боец.
– Вот и прекрасно! Нам как раз и нужен рассказ человека, непосредственно участвовавшего в боях. Мы хотим, чтобы советский телезритель ощутил всю сложность операции, почувствовал запах пороха.
– Так о чем он будет рассказывать? – спрашивает Виталий.
– О борьбе с бандитизмом.
– Прекрасно! Тогда, друзья, развернитесь правее! Еще шага на три. Правильно! Теперь вы у меня попадаете на фон вот этого мрачного ущелья.
Подойдя к камере, заглядываю в видоискатель. Долина знает свое дело: мощный телеобъектив сдвинул перспективу, приблизил противоположный откос ущелья, подчеркнул его крутизну. Такая, как говорят операторы, «картинка» должна хорошо гармонировать с предполагаемым драматизмом рассказа.
Снова становлюсь рядом с Мигелем и зажмуриваюсь от ярких бликов: Виталий притащил из буфета райкома партии два блестящих металлических подноса, отдал их Саше и Евгению и велел подсвечивать наши лица солнечными зайчиками.
– Ну и молодец же этот Долина! – восклицает Долина, припав к видоискателю. – Ну прямо-таки «Мосфильм» устроил в горах Эскамбрая! Жалко, не на цвет снимаем, получилась бы настоящая «Война и мир».
Откашливаюсь, подтягиваю микрофонный кабель и после сигнала Виталия «Мотор идет!» сообщаю телезрителям, что «мы находимся в горах Эскамбрая, где в середине 1960 года вспыхнуло пламя гражданской войны: контрреволюция попыталась поднять восстание против молодой республики, свергнувшей прогнивший проамериканский режим. Сейчас один из участников тех далеких событий коммунист, Мигель Пухоль Вальдивия, поделится с нами воспоминаниями о тех незабываемых днях».
…Очень даже возможно, что это мое вступление пойдет впоследствии в корзину для мусора, но сейчас оно необходимо и мне самому, чтобы войти в роль интервьюера, и прежде всего Мигелю, чтобы успеть освоиться с необычной обстановкой, привыкнуть к легкому, почти неслышному журчанию мотора кинокамеры, к блеску подносов, которыми нас старательно ослепляют помощники.
Закончив прелюдию, протягиваю микрофон Мигелю, и он начинает рассказ:
– Да, действительно, здесь у нас, в Эскамбрае, через полтора года после победы революции началась самая настоящая война. Несколько месяцев подряд в этот глухой район стекались все, кто надеялся на восстановление старых порядков, кто ненавидел революцию. В тайниках и пещерах создавались запасы оружия и продовольствия, тренировались отряды бандитов, или как мы называем их «гусанос» – «червяки», разрабатывались планы предстоящих боев.
…«А ведь здорово говорит!» – думаю я про себя, не забывая внимательно слушать и согласно кивать головой. Уже не первый раз замечаю у кубинцев эту удивительную раскрепощенность.
– Большую помощь заговорщикам оказали американцы, – продолжает Мигель, глядя в черный глаз кинокамеры с такой невозмутимостью, словно интервью для Советского телевидения являются для него столь же привычным делом, как бритье перед завтраком или прогулка С дочкой перед сном. – Они сбрасывали с самолетов оружие и боеприпасы, портативные радиостанции и листовки, которые должны были убедить местное население в неминуемом поражении революции.
Для борьбы с бандитами в Эскамбрае создаются так называемые ЛКБ – специальные части по борьбе с бандитизмом, в которые идут наши лучшие люди: коммунисты, рабочие, ветераны Сьерра Маэстры.
Я тоже пошел добровольцем в ЛКБ, – продолжает Мигель. – И не один, а с четырьмя братьями. Борьба была трудной. Этим «гусанос» оказывали помощь не только американцы: сама природа, непроходимые леса, горы, ущелья затрудняли наши действия и помогали противнику уходить от решающих боев, скрываться в тайниках и внезапно атаковать нас из засад. И все же мы вылавливали бандитов в пещерах, в лесных логовах. Понимая, что пощады не будет, они отчаянно сопротивлялись, всеми силами стремились оттянуть свой последний час. Один из моих братьев погиб, натолкнувшись на засаду, другой был ранен. Что поделаешь, без жертв не бывает победы.
И в конце концов мы победили. Около двух с половиной тысяч «гусанос» было уничтожено и взято в плен. И около трехсот наших товарищей пали смертью героев в этой жестокой войне. Среди них и командующий ЛКБ, знаменитый герой Сьерра Маэстры, команданте Мануэль Фахардо.
– А как сложилась ваша жизнь, Мигель, после этого?
– После разгрома бандитов я вернулся к мирной жизни и был назначен заведующим продовольственным магазином здесь, в Топес де Кольянтес. Проработал в магазине недолго: меня выдвинули на должность координатора комитетов защиты революции в Тринидадском районе. Потом направили на двухмесячные курсы партийной учебы, после чего работал в районном партийном комитете, был секретарем городского комитета в Топес де Кольянтес. Как раз в то время начали строить шоссе, которое должно было соединить наш поселок с Санта-Кларой. То самое шоссе, по которому вы сюда приехали. Ну а когда оно было открыто, я остался на должности ответственного за транспорт в Эскамбрае.
Благодарю Мигеля и приглашаю к микрофону стоящего рядом Рафаэля. Поскольку ему предстоит познакомить советских телезрителей с успехами социалистического строительства в Эскамбрае, Долина, не мудрствуя лукаво, просит нас сделать три шага влево, сам перетаскивает свою треногу в другую сторону, и после этой нехитрой махинации мы с Рафаэлем оказываемся на фоне того самого жизнерадостного и светлого здания санатория-тюрьмы-школы-гостиницы, мимо которого въезжали в Топес де Кольянтес.
– После разгрома контрреволюционных банд, – начинает свой рассказ Рафаэль, – мы начали прокладывать дороги, расширять плантации. Пожалуй, самым памятным днем в послереволюционной истории Эскамбрая стало 23 июня 1969 года, когда к нам в гости приехал Фидель и выступил перед жителями Топес де Кольянтес и окрестных поселков. «Придет день, – сказал он, – когда даже вы сами не узнаете Эскамбрай, потому что он превратится в центр прогресса и цивилизации».
В 1970 году были заложены семь новых поселков, школы, больницы, животноводческие фермы. Но занимаемся мы не только животноводством: выращиваем табак, сахарный тростник и цитрусовые.
Он говорит долго, и все по делу. Обидно, что многие из сообщаемых им цифр и фактов нельзя будет сохранить в будущем очерке. Ничего не поделаешь: законы телевосприятия неумолимы: перегружать экран длинными монологами и статистикой нельзя!
Камера Долины издает легкий треск: пленка в кассете кончилась. Поблагодарив Рафаэля, по-братски обнимаю его. Мы долго хлопаем друг друга по плечам. Чувствуя прилив энергии, Рафаэль порывается рассказать и об иных сферах жизни Эскамбрая. Стараясь быть деликатным, напоминаю ему, что нас ждут и другие интервьюируемые.
Долина, перезаряжая кассету, вопросительно поглядывает на меня. Я без слов понимаю, что его беспокоит: у нас уже есть для будущего очерка два «синхрона» и запланировано еще два. Пора бы подумать и о том, чем иллюстрировать их. Мигель и Рафаэль рассказали телезрителям о переменах в Эскамбрае. А как показать эти перемены?.. Для этого нужно снять несколько планов животноводческих ферм, новых жилых домов, школ. Весьма к месту пришелся бы в таком репортаже план дорожного указателя с названиями новых строящихся поселков. Или весело играющая детвора, школьники с ранцами и портфелями, молодая мать с малышом на руках.
Созываю военный совет. Делюсь с кубинскими коллегами нашими думами. Мигель и Диосдадо говорят, что насчет детишек и мамаш никаких проблем нет. Сейчас нам их приведут в любую точку, которую мы укажем. А еще лучше будет, если мы сами отправимся в детский сад или в школу. Что касается животноводческих ферм, дорожных указателей и строек, то их можно будет спять по пути из Топеса в Тринидад, где мы должны сегодня заночевать.
– Но ведь вы хотели, – напоминает Рафаэль, – побеседовать с представителем местной интеллигенции?
– Да, да, конечно.
– Тогда прошу вас: нас уже ждут в книжном магазине Топеса. Он сегодня закрыт специально для того, чтобы никто не помешал съемке.
В маленьком, сверкающем аптекарской чистотой книжном магазинчике мы должны молниеносно снять несколько планов, иллюстрирующих могучие шаги культурной революции в медвежьих углах Эскамбрая. Кроткая, робко улыбающаяся девочка лет восемнадцати Ада-Ирис Карденас, выполняющая в этом очаге культуры обязанности директора, продавца, главбуха, кассира и уборщицы, навела в своем крохотном хозяйстве ослепительный порядок. Книжки расставлены на полках таким образом, что на самых видных местах оказались труды классиков марксизма-ленинизма, томики Максима Горького, Константина Симонова и других советских писателей. Но Долина недовольно ворчит, припав к своему «арифлексу». Долине не хватает «правды жизни»: слишком уж все ненатурально чисто и слишком пусто в этом закрытом для покупателей магазине.
Чтобы создать видимость покупательского ажиотажа, прибегаю к традиционной уловке телевизионщиков, организующих «массовку»: прошу Габриэля, Феликса и Диосдадо потолкаться в кадре, полистать книги, побеседовать с Адой-Ирис. Моя просьба вызывает у кубинских друзей всплеск энтузиазма: они чрезвычайно рады, что их увидят советские телезрители. Долина продолжает ворчать. Он не чувствует, не ощущает «воздуха» в этом нашем сюжете. Нет у этого репортажа динамики, развития действия…
Он прав, нужно что-то придумать. И тут, каюсь, мы делаем то, что никак не рекомендуется ни учебниками телевидения, ни теоретиками кино: мы, увы, устраиваем инсценировку.
Объяснив почти по системе Станиславского задачу участникам этой маленькой провокации против доверчивого телезрителя, мы разыгрываем небольшую сценку: по команде Долины Ада-Ирис предлагает «покупателям» советскую литературу, Габриэль, Феликс и Диосдадо прилежно и вполне достоверно, словно их учили этому в школе-студии МХАТа, перелистывают книги, затем в кадре появляюсь я, беседую с Адой-Ирис, интересуюсь спросом на советскую литературу и, естественно, желаю моим кубинским друзьям всего самого доброго.
Съемка проходит гладко, без сучка и задоринки. Классик документального кино и яростный противник киноинсценировок, неустанно призывавший снимать «жизнь врасплох» Дзига Вертов, без сомнения, перевернулся в гробу, но те из наших коллег, кто ни разу в своей профессиональной жизни не шел на такие трюки, могут кинуть в меня первым же камнем, который подвернется им под руку. Бросаю этот вызов спокойно, ибо уверен: дождь камней в мою сторону не полетит.