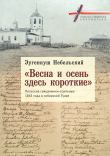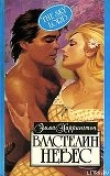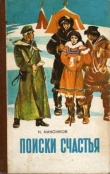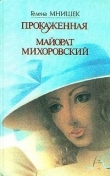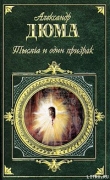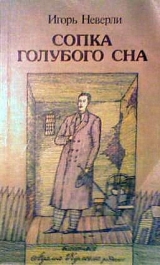
Текст книги "Сопка голубого сна"
Автор книги: Игорь Неверли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Я не спал почти всю ночь. Жаждал женщины. Все равно какой! Я бы за ней побежал, как кобель за сукой, если б только никто не видел, что бежит интеллигент, политический ссыльный, поляк... Только это меня сдерживает, дай мне, господи, силы справиться с собой».
Васильев пригласил Бронислава на вечеринку, на шестое августа, а поскольку это был как раз базарный день и Сидор хотел купить коня и двадцать десятин земли, то они отправились вместе.
Переночевали у знакомых Сидора в Удинском и с утра отправились на базар, Бронислав, собственно, за компанию. Встретили нескольких тунгусов, желтокожих, черноволосых, с косичками, низкорослых, но плечистых. Сидор рассказал Брониславу, что за веселый нрав, наивность и рыцарство их здесь называют «сибирскими дворянами». Бронислав проводил Сидора, попрощался с ним и пошел навестить ксендза Леонарда Серпинского. Тот жил на краю деревни, на южном склоне холма, и хозяйничал на пяти десятинах, окруженных высоким забором.
Услышав лай собаки, к нему вышла высокая женщина в старинном кумачовом сарафане, седая, тощая, но со здоровым румянцем на щеках. Бронислав спросил, дома ли ксендз, и его пригласили зайти. С крыльца он прошел в комнату, похожую на лабораторию: на окнах стояли ящики с саженцами, на стенах – пучки сушеных трав и таблицы с какими-то цифрами, как оказалось, с записями температуры воздуха и земли, мелкий сельскохозяйственный инвентарь, на столе – бумаги и большущий омуль, а за столом – ксендз весь в белом. На нем были брюки из толстого домотканого льна, такой же пиджак с манжетами, но без воротника, все, как он потом рассказал, его собственного изготовления, только сорочку сшила экономка.
Услышав произнесенное на польском языке приветствие «Да святится имя господа нашего Иисуса Христа»,– ксендз остолбенел, зато экономка ответила серьезно и радостно:
– Во веки веков, аминь!
Теперь, в свою очередь, изумился Бронислав:
– Вы знаете польский язык?!
– Знает, а как же, знает,– ксендз Леонард пришел в себя и крепко обнял его.– Я только с ней и говорю по-польски.
– Я пять лет не слышал польского слова!
– А я одиннадцать. Если не считать того, что я сам говорю Серафиме.
Он отстранил от себя Бронислава, внимательно всмотрелся в него.
– Наслышан о тебе, сын мой, наслышан, рассказывали люди, что в Старые Чумы привезли ссыльного, поляка... Хотел даже поехать, познакомиться, но куда там, в оба конца – три дня езды, а тут у меня огород...
Он был среднего роста, худ, лысоват, плешь, прикрытая круглой шапочкой, большой, тонкогубый рот и необыкновенные, непропорционально большие на тощем личике синие глаза, с детским, совершенно не пастырским выражением.
– Вот, слава богу, в пятницу такую рыбину поймал,– воскликнул он.– Уха будет что надо!
– И пирог с рыбой тоже,– добавила Серафима, уходя на кухню.
Вторая комната была спальней, гостиной и кабинетом, на полках у стены громоздились вороха старых польских газет. Здесь ксендз начал его расспрашивать.
Бронислав намеревался было рассказать о себе очень коротко, но, глядя в детские глаза Серпинского, видя его неподдельный интерес, разговорился. Услышав, за что Бронислав приговорен, ксендз погрустнел.
– Ты, должно быть, неверующий? – спросил он тихо.
– Сам не знаю. То мне кажется, что я верю, то нет. Я не думаю об этом.
– Это хорошо, очень хорошо,– почему-то обрадовался ксендз.– Сомнения приведут тебя к богу.
Они вышли в сад. Бронислав увидел ряд молоденьких яблонь, усыпанных поспевающими плодами, и растрогался. Он впервые встретил в Сибири яблони!
– Просто удивительно. И так много! – он сосчитал.– Двенадцать. Апостольское число. Почему так?
– Они и есть апостолы,– радостно объяснил ксендз Леонард.– Ведь в здешних краях совсем не знают яблок.
Он рассказал, как десять лет назад ходил по тайге и искал дикие сибирские яблони. Ему говорили, что они растут на лесных опушках и по берегам рек. Нашел молодые, пятилетние, и в октябре пошел выкапывать. К его изумлению, яблони стояли уже без листвы, но с красными как вишенки плодами. Он выкопал их и пересадил в хорошо унавоженные ямы. А еще через год привил. Ухаживал не жалея сил, и вот результат. Слух об этом распространился, теперь из деревни люди приходят, смотрят, тоже хотят завести.
– А как их называют?
– По-разному. «Ранетки Серпинского» или «любимицы ксендза Леонарда».
Дальше было десять длинных теплиц, «все сам сделал», не без гордости сказал ксендз Леонард, а в них – прямо не верилось! – росли помидоры, цветная капуста, красный перец.
– Как вы этого добиваетесь? Перец! У него же долгий вегетационный период, как вы его сокращаете?
– А я и не сокращаю. Сею в феврале, он растет дома в ящичках, в мае рассаживаю, в июне пересаживаю в теплицы, сначала закрываю на ночь, а в июле и августе он дозревает на солнце.
Кругом росли огурцы, картошка, капуста, другие овощи. Каждая пядь земли была использована, любовно ухожена руками ксендза Леонарда и Серафимы.
О ней Бронислав узнал, что она вдова, ей пятьдесят лет, из четверых ее детей живы два сына, один кадровый военный, унтер-офицер, второй купец.
Так, беседуя и осматривая хозяйство, они скоротали время до обеда. Когда сели за стол, ксендз взял в руку графинчик и сказал, что привык пропускать рюмочку для аппетита, не возражает ли Бронислав. Тот не возражал. Ксендз налил ему в рюмку темно-красную жид -кость, немного терпкую, но приятно ласкающую нёбо Бронислав поинтересовался, что это. Наливка из сибирской смородины с добавлением княженики и трав. Закусили бутербродами с икрой, тоже производства, а вернее улова, ксендза Леонарда. Когда принялись за уху, ксендз спросил, не пересолена ли она. «Нисколько,– ответил Бронислав,– соли в самый раз». Ксендз улыбнулся лукаво: «А была пересолена».– «И что же с ней сделали?» – «Серафима бросила туда березовый уголек, который впитал избыток соли... Мастера узнаешь тогда, когда он напортит, а потом, спасая свою работу, изыскивает способы...» Да, свое мастерство Серафима доказала и ухой, и пирогами, и киселем. А потом принесла чай с прекрасным земляничным вареньем, от которого в комнате так и запахло лесом. Бронислав давно уже не обедал так вкусно. Лукерья кормит сытно и питательно, однако стряпуха она неважная, а когда напортит, то нет у нее березового уголька.
Отношения с соседями хорошие, рассказывал ксендз Леонард, его уважают, особенно же привязаны к нему две его ученицы и практикантки, молоденькая жена Васильева и попадья Ксенофонтова. Сам Ксенофонтов по натуре борец, ему нужны маловеры или отступники, чтобы их обуздывать, меж тем староверы скрываются и избегают дискуссий, а крестить шаманистов-тунгусов или ламаистов-бурят насильно или даря для приманки рубашки с крестиками он не хочет. Он вызвал было на диспут католическую церковь в лице ксендза Леонарда, но у того как раз не ладилось с помидорами, не до того было. Повторить вызов Ксенофонтову не удалось, попадья помешала, отстань ты, мол, от него, бога ради, это честнейший человек и Священное писание не хуже тебя знает. Кончилось тем, что Ксенофонтов с попадьей пришли к Серпинскому в гости, и ничего, земля не разверзлась. Поговорили, сыграли в шахматы, и с тех пор у них мир за шахматной доской.
На стене висело ружье. Бронислав спросил, охотится ли ксендз. Здесь каждый, у кого руки-ноги есть, охотится,– ответил тот,– зверя полным-полно. Только голубей и зайцев не едят. В голубей когда-то Святой дух вселился, а заяц – все равно что кошка. Он, ксендз, любит поохотиться на зайца по пороше, но больше всего стреляет птицу – уток, гусей, бекасов, рябчиков, тетеревов и глухарей. Именно в это время, после Петрова дня, когда уже разрешена охота...
Когда в Польше уже управились с жатвой...
Будто бы слово запретное произнесено и спящий проснулся.
– Я польской деревни не знаю, вырос в Варшаве,– сказал Бронислав.– Когда мне хочется вспомнить Варшаву, я мысленно встаю на самом возвышенном ее месте, у маленького костела на Самборской, это, кажется, старейший храм в городе. Оттуда открывается великолепный вид на Вислу, дома заречья, окрестные села, поля... Потом я иду, не спеша, по площади Старого города, осматриваю дома и лавки, прохожу мимо собора Святого Иоанна...
– Захожу внутрь, там прекрасные витражи и скульптура.
– Да, захожу, осматриваю и так, гуляя, направляюсь к колонне Зигмунта, Королевскому замку, к улице Краковское предместье...
– Надеюсь, вы по пути обращаете внимание и на костел ордена Визиток!
– Разумеется. Потом по Медовой и Сенаторской 7 выхожу на Театральную площадь к кафе Семадени под аркой, заказываю чашечку кофе с птифурами...
Так, подсказывая друг другу, они вместе гуляли по Варшаве, осматривая дворцы, магазины, салоны известных торговых фирм, Бронислав вспоминал без труда, он был дитя столицы, ксендз знал Варшаву времен своей молодости, он там кончал духовную семинарию.
– Прекрасна наша Варшава... И, помолчав, спросил тихо:
– Может, почитаем? У меня свежий номер «Курьера».
– Охотно.
Ксендз принес «Курьер Варшавский», надел очки и начал читать о праздновании пятисотлетия Грюннальдской битвы. Читая, он опустил глаза, прикрыв их пенами, и тогда явственнее проступили круги под главами, морщины вокруг рта; Бронислав вдруг увидел перед собой старого человека; ему хоть и было пятьдесят с небольшим, но по тяжелым переживаниям он тянул на все шестьдесят.
Бронислав взглянул на часы – четверть шестого. Васильев звал к пяти, и он стал прощаться, спросив, не может ли ксендз дать ему с собой немного прессы.
– Извольте,– ответил Серпинский.– Я выписываю «Дзенник Петерсбурски» и «Курьер», сейчас подберу вам номеров тридцать – сорок за последнее полугодие.
Они тепло попрощались у калитки. Бронислав, пройдя шагов двести, оглянулся – те все еще стояли: белый ксендз и выше его на голову, одетая в темное Серафима.
То ли мальчишка, у которого Бронислав спросил, где живет Шестаков, ошибся, то ли сам он сбился с пути, но он шел, шел и в конце концов вынужден был повернуть назад. Удинское оказалось куда больше, чем он думал, дворов двести, более тысячи жителей, и растянулось оно на пару верст. Словом, когда, поплутав, Бронислав подошел к дому Шестакова, был уже седьмой час.
Дом был по местным понятиям большой и нарядный, впрочем, особенно рассматривать Брониславу было некогда, он лишь успел подумать, что Васильеву повезло с тестем, или, вернее, тестю с Васильевым. Николай Чутких рассказывал, что Шестакову очень кстати пришелся зять агроном, он к нему прислушивается, следует его советам, и хозяйство у него процветает... Через крытое парадное крыльцо Бронислав прошел в сени, по обе стороны которых были расположены две одинаковые двухкомнатные квартиры, каждая со своей кухней. Он не знал, в какой половине живет Васильев, но, услышав шум голосов справа, толкнул правую дверь.
Он увидел огромный, двухведерный самовар из красной меди, массу гостей за длинным столом, кто-то с взъерошенными волосами ораторствовал и как раз в ту минуту произнес победным тоном: «Таким образом люди пришли к идее экономии путем расходов»,– замолчал и уставился на Бронислава... Остальные тоже повернулись к нему. Бронислав, решив, что ошибся дверью, пробормотал «простите» и попятился, но в этот момент к нему протолкнулся Васильев, взял под руку: «Вы, товарищ, опоздали, мы не могли больше ждать»,– и с улыбкой подвел к сидевшей у самовара хозяйке, молоденькой, прелестной женщине, чью беременность не могли скрыть складки расклешенного платья: «А вот моя жена, Настенька, которая празднует сегодня свое двадцатилетие».
Смущенный Бронислав поздравил, извинился, что пришел с пустыми руками, ему никто не сказал...
Гости начали смеяться. Оказалось, что большинство из них попало впросак таким же образом. Васильев приглашал просто на вечеринку, ни словом не обмолвившись о дне рождения.
Когда отсмеялись, он представил Бронислава: «Наш сосед из Старых Чумов, Бронислав Эдвардович Найдаровский, прибыл из Акатуя».
Бронислав поклонился, попросил прощения за опоздание, сел. Настенька подала ему стакан чаю и пирог, а Васильев сказал:
– Мы слушаем вас, Веньямин Игнатьевич, продолжайте.
Человек со странной плешью, выглядевшей так, словно ему машинкой выстригли под ноль дорожку в середине головы, оставив по сторонам длинные, густые, с проседью, а на кончиках белые волосы, отчего он казался выше и как бы вдохновеннее, встряхнул своей необычной шевелюрой и взглянул на присутствующих поверх очков в никелевой оправе:
– Итак, ткачи английского города Рочдейла в 1844 году пришли к идее экономии путем расходов!
Он рассказывал историю кооперативного движения, хорошо знакомую Брониславу, а в это время Васильев, подсев сзади, шепотом объяснял: «Это Косой, директор школы, общественник, всегда с нами, эсеры, меньшевики, большевики, ему все едино...» Про молодую женщину лет тридцати: «Эта блондинка – Надежда Барвенкова, большевичка...» Про мужчину с ярко выраженной еврейской внешностью: «Лев Самойлович Фрумкин, меньшевик, мухи не обидит, но упрямый догматик...» Про седеющего, богатырского сложения мужчину в вышитой косоворотке: «Фома Никитич Тетюхин, народоволец, двадцать лет ссылки, остался жить в Сибири, хороший фельдшер, лучше иного доктора...» Потом он показал на интересного розовощекого молодого человека: «Петя Любочкин, учился в школе у Веньямина Игнатьевича, немногим старше Настеньки, двадцать два года, очень способный, работает у Зотова и конторе «Самородка», тридцать верст отсюда...»
Затем он показал учителя, учительницу и с полдюжины их бывших учеников, но тут Бронислав сжал ему руку, прося остановиться. Речь за столом шла теперь о вещах ему не знакомых, куда более интересных, чем история кооперативного движения на Западе. Оказывается, в 1908 году некий Балакшин основал Союз сибирских маслодельных артелей. Поначалу Союз насчитывал 65 артелей и 12 кооперативных магазинов с 21 тысячей капитала. А спустя два года – 181 артель, 34 магазина. В течение сезона Союз вывез за границу 3 329 292 пуда масла на сумму 46 924 186 рублей.
– Идея кооператорства распространяется теперь в Сибири с быстротой молнии и с необузданной силой! – говорил Косой.– Через несколько лет – уверяю вас, а вы ведь знаете, что я никогда не вру! – у нас будут тысячи артелей-кооперативов и тысячи магазинов, мы будем ворочать капиталами в десятки миллионов рублей, наладим производство не только масла, но и сыра, колбасы, сельскохозяйственного инвентаря и машин, будем строить общеобразовательные и аграрные школы, народные дома, библиотеки! В настоящее время мы одолеваем крепости европейского маслопроизводства, такие как Англия, Голландия, Дания, Германия. Одолеваем потому, что по вкусу и жирности сибирское масло не имеет себе равных, немцы и даже датчане улучшают с его помощью свою продукцию... Господа, у нас в стране происходят и будут происходить изменения, какие философам и не снились, я здесь позволю себе привести слова премьер-министра Столыпина, сказавшего: «Производство масла в Сибири дает вдвое больше золота, чем вся сибирская золотопромышленность». Конец цитаты.
Он кончил и отпил воды из стакана. Все молчали.
Васильев полушутя спросил, не хочет ли Бронислав, придя последним, высказаться первым.
Бронислав сказал, что он ошеломлен услышанным. При таком блестящем развитии кооператорства в Сибири ему можно пожелать только дальнейших успехов. Что же касается самой идеи, то она ему знакома, поскольку приходилось с ней бороться в 1903 и и 1904 годах.
– Вы боролись против идей кооператорства? – с недоумением переспросил Косой, поднимая мохнатые брови.
Дело было не в кооператорстве вообще, а в его польской разновидности, которую создал Эдвард Абрамовский.
– Мелкобуржуазный утопист, – бросила, словно нехотя, Барвенкова и поджала губы, давая понять, что больше об этом говорить не стоит.
Но тут откликнулся ее завзятый антагонист, Лев Самойлович Фрумкин:
– Вы можете мне объяснить, почему утопист? Я об Абрамовском не слышал.
– Абрамовский родился на Украине,– ответил ему Бронислав,– в богатой дворянской семье. В школу не ходил, отец нанимал лучших учителей. Способности у парня были выдающиеся, так что потом, в университете, он преуспевал. В молодые годы был членом моей партии, польской партии «Пролетариат», в 22 года женился на простой рабочей девчонке. Кроме Польши бывал в Швейцарии, Франции и Англии. В последующие годы посвятил себя без остатка исследованиям в области философии, психологии и социологии. Особенно много писал о кооператорстве.
– Я не вижу в этом никакой утопии,– сказал Фрумкин,– вы нам рассказали биографию ученого, кстати сказать – очень симпатичного.
– Чтобы вы могли о нем судить, мне надо бы познакомить вас с его взглядами на государство и кооператорство, а это, я думаю, не всем интересно.
– Ошибаетесь, очень интересно! – воскликнул Косой.
– Ведь вы, кажется, хотели на этом собрании обсудить еще вопрос о кооперации в Удинском...
– Одно другому не мешает,– заявил Васильев.– Напротив, полезно узнать еще чью-то точку зрения.
– Это создаст перспективу,– добавил Любочкин.
– И углубит доклад, если можно так выразиться,– поддержал его робко кто-то из молодежи.
– Что же, тогда я постараюсь... Я читал Абрамовского внимательно, придирчиво, выискивая доводы для опровержения его взглядов, это мне теперь, возможно, помешает и вместе с тем поможет.
Прежде всего, рассказывал Бронислав, Абрамовский не разделял взглядов большинства социалистов на государство. Как известно, социалисты в большинстве споем мирятся с существованием государства после революции, полагая, что это будет совсем другое государство, наше, хорошее, поставленное на службу интересам рабочего класса. А Абрамовский утверждает, что хорошее государство невозможно, как невозможен хороший волк. Любое государство плохое по самой своей природе, ибо зиждется на насилии, страхе и силе оружия. Поэтому он объявил себя безгосударственным социалистом. Во-вторых, по его мнению, любой социальной революции должна предшествовать революция сознания, нравственная революция. Старый прогнивший мир не может породить новый, здоровый – люди, изуродованные рабством и унижением, не построят прекрасного здания свободы. Поэтому, по идее Абрамовского, к социализму надо прийти не сверху, путем захвата власти и издания соответствующих декретов, а снизу, постепенно, через развитие кооперации. Кооператор не мечтает о далеком абстрактном мире с лучшим социальным строем, а строит этот мир, не дожидаясь никаких переворотов. Он создает новые организации, отнимая у капитализма все новые и новые отрасли торговли, сельского хозяйства, промышленности. Продовольственные кооперативы преобразуют торговлю, деревенские кооперативы организуют производство молока, сыра и остальных сельскохозяйственных продуктов. Кредитные товарищества дагёт народу возможность создавать собственные предприятия, а профсоюзы защищают интересы рабочего класса. Все это вместе – не столько социалистическое государство, сколько социалистическая кооперативная республика.
Брониславу казалось, что слушатели скучали, но Васильев горячо пожал ему руку со словами: «Браво, прекрасный дебют...»
Косой поблагодарил его за отличный содоклад, значительно расширивший, как он выразился, умственный кругозор присутствующих и подкрепивший главные тезисы основного доклада.
– Надо сказать,– заметила Барвенкова,– что товарищ Найдаровский говорил с таким воодушевлением, словно он сам сторонник Абрамовского.
– Мне так не показалось,– возразил Лев Фрумкин, тряхнув шевелюрой.– По-моему, он только пытался верно передать чуждые ему теории. Не так ли?
– И да, и нет. Я так долго боролся против Абрамовского, что постепенно стал испытывать к нему симпатию, слегка пропитался «абрамовщиной». Некоторые его тезисы, конечно, утопичны, сказочны, но ведь и все то, чем мы теперь гордимся, было когда-то утопией.
Его стали расспрашивать, когда он познакомился с Абрамовским, при каких обстоятельствах.
Бронислав рассказал, что встретился с ним в 1903 году в Варшаве, когда тот организовал свои Кружки этиков в среде рабочей и студенческой молодежи. В 1904 году в результате агитации ППС, РСДРП и «Пролетариата», а также роста революционного движения эти кружки распались. Их упрекали в оторванности от жизни, в прекраснодушии, и они хотели доказать, что не трусят. Вопреки своей природе пошли в революцию, в боевые организации. Жалко их. Прекрасные были ребята, и в их пророчествах было много верных мыслей. Почему мы, собственно, против них боролись? Что сохранится от нашего мира, что спасется, когда наконец придет социализм? Кооператорство, без сомнения!
Дискуссия получилась сбивчивой, не совсем на тему, участникам не хватало опыта и подготовки. Бронислав поглядывал на учительницу, которая, в свою очередь, не спускала с него глаз. Молодая, в его вкусе...
Наконец решили провести в школе учредительное собрание Удинского кооператива.
Начали расходиться. Васильев, Барвенкова и Фрумкин приглашали Бронислава заходить к ним, когда он будет в Удинском. Косой отвел его в сторону.
– Нет ли у вас случайно адреса Абрамовского?
– Увы, нету.
– Жаль, очень жаль... Его теория произвела на меня впечатление, хотелось бы ему написать.
– Вот как? Тут я вам помогу. Напишите его другу Кшивицкому и попросите передать письмо. Профессор Людвик Кшивицкий, Высшие научные курсы. Варшава. Краковское предместье...
Косой записал и, прощаясь, попросил передать записку старосте Сидору Емельянову.
Доро́гой Бронислав все смотрел по сторонам, надеясь увидеть учительницу, но той нигде не было.
Сидора он застал в превосходном настроении. Он оформил в волостном управлении купчую на двадцать десятин земли и купил на базаре молодого, здорового коня. А потом, узнав, что неделю назад привезли на поселение скопца[8]8
Скопцы – религиозная секта, по учению которой единственный путь к спасению души – оскопление. Секта была запрещена, принадлежность к ней каралась ссылкой в Сибирь. (Примеч. автора.)
[Закрыть] тотчас отправился к нему и подрядил на работу. Мужик крепкий, деревенский, дело знает.
Бронислав передал ему записку. Сидор развернул. На листке из школьной тетради детским почерком было написано:
«Ко всем крестьянам Удинского уезда. Вступайте в Молокопромышленную артель – взнос 1 рубль.
Общее собрание членов Артели выберет тайным голосованием Правление в составе трех человек и представителя от Артели в Союз Молокопромышленных кооперативов. Все ваше молоко закупает Артель по рыночным ценам, и вы никому его больше не продаете.
Масло, произведенное Артелью, покупает только Союз Молокопромышленных кооперативов.
Артель откроет магазин и будет отпускать своим членам товары в кредит в счет поставляемого ими молока.
Доходы Артели распределяются пропорционально количеству поставляемого молока.
Прибыль, получаемая кооперативными магазинами, распределяется пропорционально оборотам каждого магазина.
Учредители: В. И. Косой, директор школы, Ф. Н. Тетюхин, фельдшер, С. X. Шестаков, крестьянин». Сидор прочитал и сказал с одобрением: – Народ валом повалит...
Назавтра Бронислав увидел нового работника. Явился он с мешком за спиной. Сидор велел ему запрягать, что тот исполнил быстро и сноровисто. Заметив, что лошади слушаются новичка, Сидор посадил его на козлы, сам уселся сзади рядом с Брониславом, и они поехали домой с третьей лошадью, привязанной сзади тарантаса. У Бронислава все время стояло перед глазами открытое, честное, без следа растительности лицо скопца, в ушах звучал его высокий, немного бабий голос. Его подмывало спросить у Сидора, как он это сделал, что себе отрезал. Но не спросил – отчасти из брезгливости, а отчасти из жалости. Чего только люди не делают ради спасения души, ради чистоты, чтобы даже мысленно не желать женщину... Причем, мало того, что он сам себя изуродовал, еще правительство покарало его ссылкой в Сибирь!
Назавтра Бронислав весь день изучал прессу, полученную от ксендза Леонарда.
В одном из старых номеров газеты «Дзенник Петерсбургски» он прочел заявление центрального органа партии эсеров:
«Инженер Евгений Филиппович Азеф, тридцати восьми лет (партийные клички: «Толстый», «Иван Николаевич», «Валентин Кузьмич»), член партии социалистов-революционеров с момента ее основания, многократно избиравшийся в центральные партийные органы, бывший член Боевой организации и Центрального комитета, разоблачен как агент царской охранки и провокатор» .
Бронислав почувствовал себя так, словно его стукнули обухом по голове.
Придя в себя, он несколько раз прочел историю разоблачения и сделал кое-какие выводы для себя.
Если Бакай, бежавший из Варшавы агент охранки, представил Бурцеву полный список провокаторов, сотрудничавших с Варшавской полицией, то он, несомненно, должен был включить туда и его, Бронислава. Независимо от того, была ли их затея серьезной или легкомысленной, героической или провокационной, она рассматривалась как тягчайшее преступление – покушение на жизнь государя. Бакай не мог забыть о нем. А между тем его фамилии в списке нету. Ей надлежало быть, если он провокатор; в списке названы все агенты полиции до 1908 года. Зато там фигурирует некая «Олена Казимирович, 26 лет, орудовавшая в кругах социалистов Варшавы и Парижа...» Не Юлия ли это Потомская, она была того же возраста, та самая Юлия, которая в Париже уговорила их совершить покушение, вооружила и повела? Он бы полжизни отдал за то, чтобы се увидеть...
Но вот и сообщение, что Станислав Бжозовский[9]9
Станислав Бжозовский (1878—1911) – видный польский писатель, философ, теоретик культуры.
[Закрыть] – провокатор. Бронислав не верил. Он читал роман «Пламя». Такое мог написать только человек, всем своим смятением, своей болью и мечтой преданный революции. Провокатор бы так писать не смог.
Брониславу показалось, что «Дзенник Петерсбургски» пользуется большой свободой слова. Очевидно, петербургская цензура мягче, чем варшавская. К этому выводу он пришел, прочитав отчет о прошлогоднем посещении польских поселений в Восточной Сибири епископом Яном Цепляком в сопровождении еще нескольких священников. Маршрут их поездки проходил через Вологду, Екатеринбург, Омск, Новониколаевск, Красноярск, Иркутск, Нерчинск, Благовещенск, Сахалин, Владивосток. Этим мероприятием епископ прогневал власти, ему запретили дальнейшие поездки и лишили жалованья.
А в полутора десятках номеров «Курьера Варшавского» за первое полугодие отражалась хорошо знакомая Брониславу унылая жизнь покоренной страны. На масленицу, как всегда, устраивали балы. Бал «Молодого искусства» в Филармонии, доход от которого пред назначался на строительство Дома изобразительного искусства. Бал под названием «Маскарад прессы», организованный Обществом писателей и журналистов в пользу вдов и сирот работников пера. Бал «У полюса» по случаю экспедиции Кука и Перри к Северному полюсу. Декорации изображали ледовые пещеры, публика была в костюмах эскимосов и т. д.
Этой зимой охотнее, чем раньше, ходили к «Момусу» в ресторан «Оазис». По случаю годовщины кабаре дирекция пригласила из Кракова Боя-Желенского[10]10
Тадеуш Бой-Желенский (1874—1941) – известный критик, переводчик, поэт. Один из основателей в Кракове (1905) кабаре «Зеленый шарик», для которого писал сатирические куплеты. В последние годы жизни – профессор Львовского университета Расстрелян гитлеровцами.
[Закрыть] который привез с собой текст своей последней песенки про панну Стефанию.
«Внешне мы веселимся от души, но это веселие и свобода – искусственны... Подлинная Варшава – та, что трудится, думает, творит, живет вне масленичной атмосферы и все менее склонна к взрывам смеха и веселья».
Арнольд Шифман организовал акционерное общество по созданию нового частного театра. Акционеры: графы Маурицкий, Замойский, князь Станислав Любомирский и барон Леон Гольштанд. В замке майората Замойских состоялось заседание, на котором Шифман представил проект и смету строительства.
На сцене Летнего театра молодой актер-дебютант Юлиус Остерва, выступивший в комедии Ксанрофа «Маленький король», произвел фурор среди зрителей и критиков.
Днем 8 мая экстренные выпуски варшавских газет сообщили о смерти Элизы Ожешко, скончавшейся в Гродно в возрасте 68 лет. Похороны писательницы превратились в массовую национальную демонстрацию. Из Варшавы прибыло 900 делегаций, много писателей, журналистов. За гробом шло пятнадцать тысяч человек. Магазины во всем городе были закрыты, уличные фонари – закутаны в черное. На кладбище выступили тридцать ораторов.
Бронислав узнал, что новая церковь католиков-мариавитов, отлученная от официальной церкви папской буллой 1907 года, насчитывает 200 тысяч приверженцев, имеет в Польше 60 приходов, 200 костелов и часовен. Знаменательно, что ее приверженцы в подавляющем большинстве – рабочие и крестьяне.
Жена Азефа, урожденная Нивкина, известная в свое время русская революционерка, не имела ни малейшего представления о двойной роли, какую играл ее муж. После его разоблачения заболела нервным расстройством и на днях покончила с собой в своей парижской квартире в Латинском квартале.
В военном суде слушалось дело крестьян, совершивших в 1907 году нападение на имение гражданки Шиманской. Семеро подсудимых приговорены к смертной казни.
В Варшаве в районе Краковского предместья произведены многочисленные аресты. Задержаны несколько десятков ремесленников, рабочих и учащихся.
В русской прессе широко обсуждается вопрос о пределах и разновидностях русского национализма. В Петербурге, организован Клуб русских националистов, в который входят люди из верхних слоев общества. Его руководителем считается П. А. Столыпин. Лозунг клуби государственный патриотизм. Против этой разновидности национализма выступают профессор Милюков, профессор Мануйлов и П. Устинов.
Много места в газетах занимает авиация. Это новость. 19 июня знаменитый авиатор Уточкин совершил в Варшаве полет над Мокотовским полем. На счету у русского летчика уже двести полетов, он получил пять наград. Дополнительной сенсацией было участие в полете «Момусовой примы» Миры Мрозинской... Ежедневные авиаконкурсы на Мокотовском поле с участием Уточкина и иноземных летчиков: де Катера, Фишера, Тика... Дебаты в прессе по поводу лексики, связанной с воздухоплаванием. В «Курьере Варшавском»: как говорить? Авиаторство или авиация, летатель или летчик, одноплан или моноплан? Критика варваризмов: амитоптеры, геликоптеры. Найдено вместо геликоптера новое слово – вертолет.
Преступление Дамазия Мацоха. Летом 1910 года в реке Варте около Ченстохова нашли софу, в ящике которой лежал труп мужчины. Через две недели выясни лось, что жертва – Вацлав Мацох, а убийца – его двоюродный брат, монах Ясногорского монастыря, отец Дамазий. У Дамазия была любовница, Елена Кшижановская, телефонистка из Лодзи. Она требовала, чтобы отец Дамазий нашел ей мужа, который будет прикрывать их связь. И тот выдал ее за Вацлава Мацоха. Вскоре, однако, между этой троицей начались ссоры, закончившиеся убийством, Елена вела расточительный образ жизни, чтобы удовлетворять ее прихоти, отец Дамазий воровал из ризницы деньги, жертвуемые верующими, кроме того, он присвоил себе 5000 рублей, завещанные монастырю умершим ксендзом Бонавентурой, и украл драгоценности, украшавшие икону Богоматери Ясногорской. Арестованы друзья и сообщники Дамазия – отец Базиль и отец Изидор, а также его служка в монастырской келье. Новый настоятель объявил в монастыре траур. Варшава с нетерпением ждет суда.