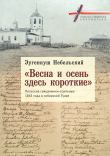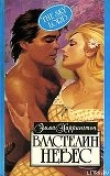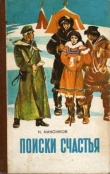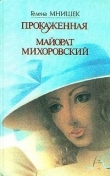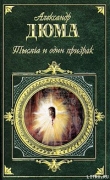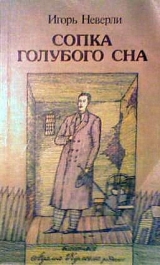
Текст книги "Сопка голубого сна"
Автор книги: Игорь Неверли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
– Увы, ваш отец, пан Нарцисс, в основном был прав,– заметил ксендз Серпинский.– Но прежде всего разрешите поблагодарить вас за рассказ. Вы говорили так просто и образно, что я словно собственными глазами видел эти события. Видел и поражался вашей памяти! Чтобы после сорока с лишним лет так запросто сыпать фамилиями случайно встреченных людей, названиями городишек, деревень, рек... У вас, пан Нарцисс, феноменальная память!
– Это же происходило в молодости, господа, тогда память все впитывает, как губка.
– Все равно. Весь фокус в том, чтобы удержать впитанное сорок лет назад, а это величайшая редкость!
– Я никак не думал, что, рассказав историю одного партизанского отряда, можно объяснить причины поражения всего восстания,– сказал Бронислав.– Вы, пан Нарцисс, говорили, что каждый четвертый приходил в отряд только с рукояткой от косы, потому что нож для нее можно достать в любой деревне, у вас был дробовик дяди Яна, как у большинства партизан, и только у немногих были винтовки. Значит, батальон Мыстковского мог в лучшем случае, под конец, после того как на все рукоятки надели косы, иметь 200 косиньеров, 400 человек, вооруженных двустволками, и 200 – винтовками. И, стало быть, ваш батальон был в четыре раза слабее русского батальона той же численности. Потому что из двустволки можно стрелять с 70—80 шагов, а из винтовки – с 300. Прусская армия, вооруженная игольчатыми ружьями Дрейзе, разгромила австрийцев под Садовой... А эти кошмарные переходы из Конина в Мышинец, когда многие из вас пали от усталости, поход к границе за обещанным оружием из Бельгии! Здесь вас окружили. Но если бы вы даже получили оружие для всего батальона, 800 стволов, хотя я верю, что вы бы одолели противника, в четыре раза превосходящего вас численностью, но свой конец отсрочили бы всего на месяц или на два. Потому что бельгийское ружье тем и отличается, что стреляет только бельгийскими патронами! А сколько патронов для каждого ружья они могли вам дать? Сто, ну, допустим, даже двести – запас на месяц или на два. Кроме того, рассказы о больших поставках оружия из Бельгии или Франции – вообще брехня... Немного оружия можно провезти контрабандой, но чтобы много... Ведь и Австрия и Пруссия были заинтересованы в том, чтобы русские подавили восстание, в противном случае оно могло бы перекинуться и на их земли... Одно восстание могло, действительно, закончиться нашей победой – в ноябре 1831 года. Тогда была большая, хорошо обученная армия, арсеналы, полные оружия, фабрики, ремонтные мастерские, энтузиазм народа, безалаберность противника, но нас разбили в пух и прах, и виной тут не только наша глупость, но и отношение к восстанию части народа, той, что голубых кровей.
– Да, потом уже все было бессмысленно,– согласился Войцеховский.– Как, к примеру, восстание на Байкале.
– Знаете, я сегодня чуть не съездил по морде одного купчишку за то, что он назвал забайкальских повстанцев засранцами. К счастью, меня выручил мой компаньон, Чутких. Это наше, польское дело, чужих оно не касается. Но мы трое, находясь здесь, в Сибири, можем признаться друг другу, что это было безумием. Только отчасти оправданное отчаянием, ностальгией, жаждой бегства. Ведь если б даже эта горстка людей раздобыла оружие и пробилась сквозь кордон царских войск к границе, китайцы бы их все равно передали обратно русским на основании договора о выдаче беглых преступников. Я это знаю точно, жандарм, который вез меня на поселение, рассказывал, что недавно бежала группа каторжников, их преследовали, до границы добралось только восемь человек. Но китайцы их выдали, и все попали на виселицу.
– Я думаю, что правильнее чешский путь,– сказал ксендз Леонард.– Ведь чехи раньше нас лишились независимости. После проигранного сражения под Белой Горой в 1620 году Чехия стала провинцией австрийских Габсбургов. Чешское дворянство или погибло, или полностью онемечилось, национальное возрождение пошло снизу, с народных масс. И посмотрите, друзья мои, что сделалось с этой покоренной страной! Торговля и ремесло процветают, успешно тесня на рынках немецкую продукцию, деревня – грамотная, зажиточная и насквозь чешская. Возникли крупные организации, охватывающие весь народ, такие, как спортивное общество «Сокол», являющееся образцом для многих наций. Музыкальные и певческие общества, насчитывающие тысячи кружков, научили народ петь чешские песни и дали ему национальную чешскую музыку. По трудолюбию и организованности они ничуть не уступают немцам, а чех чеха всегда поддерживает. Вот поэтому они и ждут спокойно, пока представится случай вернуть себе независимость.
– Да, они верят в труд. Работают неутомимо, как муравьи, невозможное делают возможным, а вот мы...
– А вы, пан Нарцисс, как пришли к своему богатству?
– Исключительно трудом.
– Вот и расскажите нам про это чудо, как вы из нищего стали миллионером.
– Охотно, но у меня пересохло в горле. Не пожалейте, пан ксендз, еще рюмочку этой превосходной настойки, я вам за это наговорю с лихвой.
– Ох, простите, бога ради, я совершенно забыл, что вы мои гости,– смутился ксендз и наполнил рюмки.– Прошу вас!
– Спасибо. За ваше здоровье!
Они выпили, закусили пирогом, после чего ксендз и Бронислав снова приготовились слушать.
– Через некоторое время моя тайна раскрылась, но отец меня простил,– продолжил Войцеховский свой рассказ.– Он только настаивал, чтобы я уехал куда-нибудь подальше, потому что власти знают про участие Станислава в восстании, могут и до меня докопаться. И я уехал в Варшавское воеводство, в Клембов, где приходский священник ксендз Стыпулковский, большой друг отца, предложил мне работу органиста и учителя в школе.
Я не стремился снова в отряд не только потому, что дал отцу слово. Все происходившее у меня на глазах доказывало, что отец и многие другие были правы и теперь надо стараться только сократить количество жертв, препятствовать мести русских властей и предупреждать своих об опасностях.
В эту деятельность я включился сразу, быстро завоевал доверие своего ближайшего окружения, а через несколько месяцев меня уже знала вся округа. Я чувствовал себя превосходно, видел положительные результаты своей работы и радовался, что по мере сил приношу пользу народу. Я продолжал свою деятельность до конца 1865 года. В частности, спасал Вуйтицкого, Гослицкого и Сокульского, жизнь которых была в опасности. Гослицкий сумел бежать за границу, но Вуйтицкий и Сокульский попались. В найденных у них бумагах были сведения, компрометировавшие меня, и вот после девяти месяцев заключения в Цитадели меня и Матеуша Пшепюрковского приговорили к вечному поселению в Красноярском крае и поражению в правах. Приговор нам объявили на Александровской гауптвахте Цитадели в день высылки 11 октября 1866 года.
Из Варшавы нас в наручниках отправили в Москву, из Москвы в Нижний Новгород, оттуда в пароходном трюме в Казань, затем по трое на крестьянских телегах в Пермь, оттуда таким же образом в Томск. На пропитание мы получали по 15 копеек в день; из Томска пошли по этапу пешком, проделывали от 22 до 35 верст в день, и из одиннадцати, высланных из Варшавы, до Красноярска добрались только двое. После месячного перерыва я прибыл через Минусинск в большое село Сагайск.
Здесь я первым делом перешил свой серый арестантский халат с красным тузом на спине и сделал из него пиджак. Затем отправился на базар в казачий городок искать работу. Меня взял к себе Митрофанов, бухгалтер золотого прииска, который в то время строил себе дом. Он положил мне пять рублей в месяц с питанием и ночлегом в доме для прислуги. Я запрягал лошадей, возил камни и строительные материалы, клал стены в подвалах, колол дрова, а потом косил сено на обширных лугах за рекой Амыл. По воскресеньям и в праздники мы не работали.
В конце июля мне пришло из дома первое письмо и 30 рублей денег. Я поблагодарил хозяина за хорошее обращение и вернулся в Сагайск, где мы поселились вместе с Пшепюрковским, платя за большую комнату с сытным питанием по пять рублей с человека.
Охота на зайцев, тетеревов, уток, куропаток и рыбная ловля доставляли много удовольствия и были полезной разрядкой после многочасового сидения за кручением сигарет из китайского табака, чем я тогда занимался и что давало, кроме курева, по 50—60 копеек в день. Но вскоре акциз запретил нам этот вид заработка. Тогда мы с Францишеком Кинским устроили на зиму ручную маслобойню. Работа была, правда, тяжелая, но мы получали по рублю за каждый пуд конопли.
Весной я арендовал кусок земли и засеял десятину яровой ржи. Кроме того, мы втроем покупали коноплю, а ссыльный Фридрих крутил вместе с нами отличные веревки, которые мы продавали золотопромышленникам на рынке в Каратузе. Ну и, поскольку успели обзавестись лошаденкой, начали косить для себя сено на отведенных нам общинных лугах.
Я познакомился с местным купцом, поляком, по фамилии Поплавский, бывшим ссыльным, судимым, кстати сказать, за уголовное преступление. Вернувшись однажды из города, он сказал мне, что его приятелю, владельцу паровой мельницы и фабрики, нужен эконом, и если я хочу, то он может меня порекомендовать.
На следующий же день я отправился с рекомендательным письмом к господину Гусеву. Вероятно, я произвел хорошее впечатление, или, может быть, он поверил рекомендации, во всяком случае тут же принял меня на работу и велел эконому завтра же передать мне дела и ознакомить с обязанностями. Мне предоставили комнату с обслугой и полным содержанием и положили жалованье 25 рублей в месяц. Я почувствовал себя богачом.
Работа была тяжелая. Я вставал в четыре утра, весь день проводил на фабрике или на строительстве нового стеклозавода, а по вечерам корпел над бухгалтерскими книгами или над графиком работ. Но работал с удовольствием, поскольку видел, что мной доволен не только хозяин, но и коллектив. В конце каждого года я получал премию – от 100 до 150 рублей, а иногда по нескольку месяцев подряд заменял управляющего.
Так я проработал более четырех лет. Однако в конце 1874 года механик на крупорушке, неплохой, в общем, мужик, из-за какой-то сплетни, не помню даже какой, накинулся на меня в пьяном виде. Я тогда очень сильный был, повалил его на землю и, если б нас не разняли, придушил бы, хотя он был настоящий атлет. Сами понимаете, что после такого скандала мне пришлось расстаться с местом, найти другого механика было в Сибири в ту пору непросто.
Я поехал в Минусинск. У меня было 500 рублей денег, остальные я послал родителям, у которых ведь сгорел дом. Я помогал торговать в «Варшавском магазине» Яна Прендовского, потом Прендовский уехал в Польшу, а магазин продал Владиславу Коженевскому. Коженевский ездил в Томск жениться, а вернувшись в Минусинск, предложил мне стать его компаньоном. Я в торговле разбирался неплохо и, по сути дела, один руководил магазином. Подведя итоги за год, мы получили 3000 рублей прибыли. Я был недоволен, хотелось заработать больше. Дело в том, что к Коженевским приехала сестра жены, Эмма, и очень мне приглянулась, да и я ей тоже, как мне казалось, но я молчал, потому что ни у меня, ни у Эммы не было ничего за душой, а плодить бедняков я не собирался.
В мае, числа первого или второго, Иван Гаврилович Гусев заявился ко мне в магазин, чего он никогда раньше не делал. Он что-то купил, поговорил о том о сем и предложил вернуться к нему, но уже не в качестве эконома, а управляющим. Обещал полное содержание с обслугой и жалованье 900 рублей в год. Я долго не раздумывал и 5 мая отправился с Гусевым вступать в новую должность. Мне было лестно такое повышение, приятно было услышать, как механик Самарин извинялся со слезами на глазах, а главное – восторженные восклицания рабочих и мастеров: «Ну вот, наш отец приехал!», хотя отцу этому было всего тридцать лет от роду.
Работу свою я знал, вскоре понял, что не только справлюсь, а может быть, и усовершенствую кое-что, действовал осторожно, но не жалея сил. Через несколько месяцев я решил, что пора и о себе подумать, взял двухнедельный отпуск, поехал в Томск и женился на Эмме Шерцингер, немке по происхождению, сибирячке в третьем поколении, лютеранке, которая по-немецки только и умела, что прочесть «Отче наш».
Круг моей деятельности расширялся, потому что Гусев построил еще большую винокурню и фабрику соды. Но и денег прибавилось – у меня было жалованье 1500 в год, кроме полного содержания с обслугой. После десяти лет ссылки я управлял самым крупным в Енисейской губернии торгово-промышленным предприятием и пользовался во всем уезде большим уважением.
В 1880 году из-за подлости одного из служащих, родственника хозяина, я подал в отставку, несмотря на то, что Гусев передо мной извинился.
Я начал промышлять золото у монгольской границы, в Саянах, на реке Ус. Не стану вам рассказывать, господа, все перипетии этой помеси приключения, азарта и каторжного труда, какую представляет собой золотоискательство. Достаточно сказать, что я истратил все свои сбережения и задолжал сверх этого 4000 рублей. У меня остался в кармане один-единственный рубль, мой талисман, первый рубль, заработанный в Сагайске сразу по приезде. И только в январе мы наткнулись в одном шурфе на золото. И уж тогда я сообразил, где находятся главные залежи. Уговорил двенадцать человек рабочих, чтобы они пока искали бесплатно, а сам поехал в Минусинск искать денег взаймы. Никто не верил в мое золото, немало пришлось вытерпеть унижений, один только Теофил Хмелевский мне поверил и одолжил 2000 рублей. А уже в следующем, 1885 году, мы намыли золота на 52 тысячи.
Как говорится, деньги идут к деньгам. Кроме золотого прииска, у меня было еще одно выгодное дело – соляные копи. Они давали хороший доход, но поначалу были неприятности с рабочими. Они меня не знали, я был для них человеком без авторитета. Однажды, помню, приходят средь бела дня и говорят:
– Сегодня будет крючок!
Знаете, что такое крючок? Это кружка на длинном металлическом пруте, чтобы удобно было ею черпать из ведра или из бочки. Раз в неделю, по субботам, на приисках рабочим выдавали водку таким крючком.
– Нет,– говорю,– не будет. Сегодня среда.
– Ну и что же? Все равно давай!
– Не дам. В субботу получите.
– Тогда мы тебя прикончим!
Ну, думаю, тут не до шуток. Толпа собралась большая, народ взбудораженный, буйный. Что делать? Смотрю, стоит у стенки железный брус, которым ставни изнутри запирают. Я его схватил, согнул пополам, потом скрутил штопором и кинул в толпу.
– Видали? Ну, давайте, подходите, кто первый? Толпа качнулась и медленно попятилась к выходу... В общем, за четверть столетия я вышел в богачи.
У меня золотой прииск, соляные копи, магазин и дом в Минусинске. В семейной жизни мне тоже повезло – любимая, хорошая жена и семеро здоровых ребятишек, пятеро сыновей и две дочери, все учатся кто где. Родителей я взял к себе, они прожили с нами в покое и достатке двадцать лет, отец умер, когда ему шел 91-й год. Я член городской управы, председатель общества народного просвещения, попечитель женской гимназии, член комитета Минусинского музея, крупнейшего музея в Сибири, горжусь тем, что дружил с Мартьяновым, создавшим это «сибирское чудо»... Вот, пожалуй, и все.
– Неплохой жизненный итог, дай бог каждому,– сказал ксендз Леонард.
– А что это за «сибирское чудо»? – поинтересовался Бронислав.
– Это все Мартьянов. Кристальной души человек, беззаветно преданный науке. Приехал с Виленщины, работал в Минусинске провизором в аптеке. Начал собирать растения, камни, предметы древней культуры, вовлек в это учителей, горожан, крестьян, ему стали приносить разные вещи, найденные в глубине земли или на поверхности. Он совершал путешествия в научных целях, изъездил огромные территории. Одновременно помогал земледельцам, знакомя их с новыми, усовершенствованными сортами пшеницы – кубанкой, белотуркой, американской усанкой, арнауткой. В конце концов, он обратился в городскую управу с просьбой построить музей. Построили прекрасное здание и поместили там 65 ООО его экспонатов. Он послал часть собрания на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород в 1896-м и на Всемирную выставку в Париж в 1900 году. И тут и там они вызвали большой интерес, получили призы. Его деятельность способствовала развитию музейного дела во всей Сибири. Сейчас нет в России, а может быть, даже в Европе ученого-естествоиспытателя, который бы не знал фамилии Мартьянова и не слышал о его музее в Сибири, в маленьком уездном городе Минусинске.
– Не дружба ли с Мартьяновым и ему подобными держит вас до сих пор в Минусинске? – предположил ксендз.
– Нет. Вернуться в Польшу я мог только в 1888 году, после амнистии и восстановления в правах. А тогда у меня был самый пик успехов на прииске и в копях. Я подумал: подожду, лет через десять у меня будет большое состояние, тогда и вернусь. И так это откладывалось из года в год, то одно дело меня удерживало, то другое. К тому же, не скрою – мне нравится Сибирь. Я полюбил ее природу, ее просторы и реки, величественную тайгу и Саянские горы, полюбил климат, суровый, но полезный, сибиряков, упрямых, но честных и открытых... Года через два-три я, конечно, уеду. Но уверен, что в Польше буду скучать по Сибири.
– Что до меня, то я скучать не буду, это чересчур,– сказал ксендз Серпинский,– но здешних людей всегда буду поминать добрым словом. Никогда я не чувствовал к себе вражды, хоть я и другой веры, а вера у них, как у евреев, вопрос первостепенной важности.
– Да, эта терпимость русского народа придает ему огромную притягательную, ассимилирующую силу. Меня совсем не удивляет, что хакас Сайлотов, например, тянется к русской культуре, как ночная бабочка к лампе. Или возьмем Шерцингеров. Они давно уже забыли, что их родина – Великое княжество Баденское, провинция Шварцвальд. Моя жена не знает ни слова по-немецки, кроме «Отче наш», она сибирячка лютеранского вероисповедания. Немцы уже во втором поколении превращаются в русских, несмотря на то, что у них богатая культура и литература, что они нас опережают и в промышленности и в торговле. То же самое шведы, французы и другие нации. А нас отделяет от русских царское правительство, которое внушает своим, что их злейшие враги – поляки, евреи и велосипедисты, а нас держит в неволе и сеет ненависть, подавляя малейшее стремление к свободе... Вы согласны?
– Да, это верно. Но вот что до меня, то я перестал ненавидеть русских на каторге. Встретил там великолепных людей, попавших туда еще до меня. Это нас объединило. А раньше я просто из себя выходил при виде любого русского.
– Отчего же так?
– О, это долгая история. Чтобы объяснить, мне пришлось бы рассказать всю мою жизнь.
– Ну и что же, я охотно послушаю, как теперь растет и что впитывает в себя молодое поколение.
– Я уже пану ксендзу рассказывал...
– Нет, нет, на это не кивай, дорогой мой. Ты рассказывал в общих чертах, вокруг да около, я не слишком и понял. Чтобы понять чужую жизнь, надо в нее войти. Вот и изволь, введи нас.
– Я был бы вам очень признателен, если бы вы ознакомили меня с жизнью и чаяниями современного поляка.
– С детства, что ли, начать?
– Да, да, ведь именно там, как река в горах, жизнь берет разгон и направление.
– Ну ладно. Как я вам уже сказал, мое детство прошло в антирусской атмосфере. Среди моих близких была жива память о восстании 1863 года. Люди, вернувшиеся из Сибири, рассказывали всякие ужасы. Тайком, на мотив «Был у бабы петушок...» пели песенку:
Да поедем мы в Сибирь по этапу,
Да повезет нас казак бородатый...
Все русское было заведомо плохо. Во всех анекдотах, шутках, смешных историях, которые рассказывали друг другу, русский получался дурак дураком. Покоренный, униженный народ, инстинктивно стремясь к психической самозащите, находил в этом известное удовлетворение.
К нам приходил некий пан Станислав, бывший повстанец, который после проигранного сражения спрятался в стогу сена. Казаки прощупывали сено пиками и прокололи ему ногу насквозь, но пан Станислав не шелохнулся, не пикнул. Мы к нему относились как к национальной реликвии.
Этой атмосфере способствовала и школа. Поначалу, когда мне исполнилось семь лет, отец записал меня в городскую школу. При этом, как говорили родители, пришлось кое-кому смазать лапу. Учеба состояла в том, что учитель, обрусевший немец, задавал по учебнику отсель досель, ничего не объясняя. Ученикам запрещалось разговаривать друг с другом по-польски, за ослушание били по рукам, а то и по лицу. Обыкновенное нежелание учиться приняло форму патриотизма. И первым патриотическим актом было обмануть учителя.
Отец мой происходил из обедневших мелкопоместных дворян. У него была обивочная мастерская с мастером и несколькими рабочими. Мы жили тогда на улице Злотой, жили скромно, но безбедно. Хватало на обучение и мое, и моей сестры Халины, она младше меня на два года. Я учился хорошо, никаких забот родителям не доставляя.
Я обожал мать, любил и уважал отца, который в свободное время беседовал со мной, играл, иногда покупал подарки. Самым лучшим подарком были четыре тома сказок Глинского, купленные к Рождеству, когда мне шел седьмой год. Потом отец купил мне братьев Гримм. Я рано научился читать и брал книги в библиотеке. По воскресеньям и в праздники, если погода позволяла, мы ходили с отцом на дальние прогулки. Отец покупал в лавке колбасу или сосиски, хлеб, сыр, и мы бродили по окрестностям Варшавы. Бывали и на Саксонском острове. С Беднарской улицы нас за пару копеек перевозили на лодке на тот берег. Саксонский остров был тогда мало заселен, там стояли отдельные домики с фруктовыми садами. Владельцы этих домиков за 3-5 копеек пускали в сад, где можно было объедаться фруктами до отвала, только выносить не разрешалось. А иногда мы ходили на рыбалку. Лучше всего было ловить рыбу с больших лодок, стоявших на якоре у берега.
Сначала мы жили на улице Злотой в доме номер восемь. А в доме четыре жил граф Домбский. Однажды, я помню, он вышел на балкон и начал из штуцера стрелять по прохожим. Стрелял отлично – в две стороны – на Маршалковскую и на Згоду. Каждый, кто появлялся в пролетах этих улиц, падал. Улицы закрыли. Прибежала полиция. Домбский заперся и стрелял сквозь дверь. Его всячески пытались разоружить. Пожарные с соседней крыши лили мощные струи воды. Все напрасно. Это длилось несколько дней. Наконец его ранили, взломали дверь и в смирительной рубашке увезли в сумасшедший дом.
В 1893 году я выдержал на отлично экзамены в первый класс гимназии.
Когда мне было десять лет, в 1894 году, я увидел царя. Уже в восемь утра вывели нашу гимназию в Уяздовские аллеи, на угол Пенкной, дали в руки русские трехцветные флажки и построили шпалерами по обеим сторонам улицы, как и другие варшавские школы. Так нас держали голодными до пяти часов. Николай промчался вскачь на тройке с Петербургского (Виленского) вокзала на Праге прямо к Бельведеру. Рассказывали, что на площади Александра (площадь Трех Крестов) на территории пивоваренного завода Хабербуша сделали подкоп для адской машины. Чтобы ее взорвать, когда будет проезжать царь. Факт, что в том районе жандармы произвели массу обысков. Потом царь был в театре. Театр и правительственные здания были иллюминированы, а на тротуарах горели, как всегда в престольные дни, сальные свечи в горшочках, так называемые «царевки». Тогда первый раз, на гудящих от девятичасового стояния ногах, с карманами, набитыми песком, я пошел на подпольное задание – гасить «царевки». Посмотрю, не видать ли где дворника или городового – прохожих я не боялся, свои люди, они только смеялись – и хлоп по свече песком, погасла, хлоп по следующей, погасла, и так до тех пор, пока не израсходовал весь песок.
В январе 1898 года меня как-то ночью разбудил звон шпор. Пришли жандармы и увели отца, невзирая на отчаянные просьбы матери. Офицер успокаивал: «Да вы не волнуйтесь, супруг ваш скоро вернется». ...Действительно, через три месяца его выпустили, но смертельно больного. Во время ареста, когда его легко одетым вели в тюрьму, он простудился, схватил воспаление легких. Вернулся домой умирать. Умер он в тридцать четыре года. За что его арестовали, мы так и не узнали, и никого не удивляло, что не известно за что у нас погубили отца – это казалось нормальным. Мы строили различные догадки. Отец был знаком со Стамировским, владельцем мастерской музыкальных инструментов, где бывало много людей. Может, он был связным какой-нибудь организации? Может, пытались у отца разузнать подробнее о Стамировском – не знаю. Смерть отца была для меня большим ударом – я потерял друга и защитника.
Заботу о нас взял на себя брат матери. Он был холост, работал прокуристом в банке, хорошо зарабатывал и обещал платить за наше с Халинкой обучение в гимназии. Мать отдала мастерскую в аренду мастеру и переехала с нами в квартиру подешевле на Дикой улице. Там была совсем другая среда – еврейские мелкие торговцы и ремесленники. Оказалось, что евреи неплохие соседи, а с еврейскими мальчишками можно играть и дружить.
Чтобы вы представили себе, каким я был в ту пору, расскажу такой эпизод. На соседней улице царствовал один задавала, мой ровесник, четырнадцатилетний, он избивал каждого, кто ему не подчинялся. И вот однажды после обеда я отправился туда. Прошелся, не спеша, по улице разок, другой. Тот подошел.
– Тебе кто позволил по моей улице гулять?
Вместо ответа я ему поддал как следует. Он упал. Я еще два раза пнул его ногой и вернулся на Дикую. Мальчишки с той улицы объявили меня королем, но я отказался. Мне надо было только проверить себя.
От тех лет у меня навсегда осталась в памяти Битва под Сковородой. Сковородой называли террасу кафе «Сан-Суси» на Уяздовских аллеях. На шесть часов 29 апреля ППС[13]13
ППС – Польская социалистическая партия.
[Закрыть] назначила первомайское шествие к памятнику Мицкевича. На Уяздовских аллеях собралось тысяч двадцать народу. Пели «Варшавянку». На углу Пенкной путь демонстрантам преградили казаки. Они ворвались на Сковороду. Оттуда на них посыпались кружки, тарелки, чашки, стаканы... Казаки достали нагайки и начали избивать народ, тогда люди сломали ограду сада «Швейцарская долина», затем вторую ограду и выбрались на улицу. В тот день арестовали 2600 человек и обер-полицмейстер получил ранение при попытке завладеть красным знаменем... Я был там в толпе, убегал вместе со всеми, кусая локти в бессильной ярости. И я поклялся, что научусь драться, стану сильным, вырасту и тогда с ними рассчитаюсь!
Я дрался с мальчишками на деревянных саблях. Потом ходил в гимнастическую школу на улице Новый Свят и в школу Маевского, где за 15 копеек учили фехтованию. Что-то у меня от той поры осталось – драться я умею.
В 1901 году я получил аттестат зрелости. Три месяца спустя умер опекавший нас дядя, прокурист. Мастер отказался продлить аренду, сказал, что откроет собственную мастерскую. Я остался единственным кормильцем матери и сестры.
После долгих хлопот мне удалось устроиться к Це-дергрену помощником монтера. Цедергрен – это шведская фирма, устанавливавшая тогда в Варшаве телефоны. Я зарабатывал пять рублей в неделю. Для сравнения скажу, что инженер у Цедергрена получал 60, а телефонистка от 15 до 18 рублей.
– Это нам еще ничего не объясняет,– сказал ксендз.– Вы скажите, что можно было купить на эти деньги.
– Вот-вот, какие были цены,– подхватил Войцеховский.– Сколько стоила квартира, обед, обувь?
– Комнату можно было снять за 8—10 рублей в месяц, за двухкомнатную квартиру платили 15. Домашний обед стоил 20 копеек, а обед в ресторане Врубеля на Мазовецкой – 50. Ужин, свиная отбивная 15 копеек, пиво 7, вместе 22 копейки, еще 3 копейки официанту – итого 25. Говядина – 15 копеек фунт, фунт ветчины – 25 – 30 копеек. Ботинки 2 – 3—5 рублей, костюм 20 – 40 рублей. Газета – 1 копейку. Сосиски 3 копейки, то есть 6 грошей.
Сначала я работал на пару со старым мастером, который все делал сам, ничему меня не учил и все чаевые тоже брал себе. Он получал от заказчика за срочную установку телефона, но со мной не делился. Все изменилось, когда старик заболел и на его место пришел молодой, Вейс. Этот все показывал и объяснял, я ему помогал, так что мы с дневной нормой управлялись за полдня и шли отдыхать в Саксонский сад. Там Вейс отдавал мне какую-то долю чаевых. Чаевые были общепринятым явлением. Когда мы приходили утром за нарядами, все монтеры и помощники хвастались друг перед другом, кому сколько перепало. У меня были шансы выдвинуться в монтеры, но я все бросил и ушел в революцию.
У Цедергрена работала телефонистка, Франка Вардинская. Однажды я пошел ее провожать, а она пригласила меня зайти в дом и познакомила с братом Люсом Вардинским, студентом высшего коммерческого училища. Красивый парень 22 лет, усатый, серьезный. Очень озабоченный делом освобождения рабочего класса. Мы с ним сразу пришлись по душе друг другу. Гуляли вместе по Варшаве, он просвещал меня, давал книги. Я прочел Бебеля «Женщина и социализм», Млота «Кто чем живет», Мазовецкого «Историю революционного движения на польских землях, аннексированных Россией», Каутского «Эрфуртскую программу»... Люс Вардинский не был партийным ортодоксом. Сам – член «Пролетариата», он не преграждал нам путь в другие партии. Старался прежде всего развить нашу сознательность и укрепить революционные взгляды. Весь кружок Вардинского отличался редкостной Терпимостью и широтой взглядов. Кроме меня, в кружке состояли Вацлав Езеровский, Рудницкий, Грабовский, Тоцкий, Поламанец, Юргелевич и другие: мы представляем одно из польских народных течений, не важно, что идем различными путями, важно, что ты с нами в борьбе за социализм... Революция была еще мечтой, в этой мечте мы все казались друг другу равноправными и одинаково нужными.
В это время мы познакомились с другим движением, которое возглавлял Эдвард Абрамовский, основавший в среде рабочей и студенческой молодежи так называемые Кружки этиков. Сторонники Абрамовского отрицали существование государства при социализме, говоря, что государство по своей природе было, есть и будет порочным институтом. Они не признавали политической борьбы, а путь социальных преобразований видели в кооперации, в бесчисленных связанных между собой потребительских кооперативах, производственных, сельскохозяйственных, кредитных артелях и т. д., то есть в своеобразной кооперативной республике. Они утверждали, что поскольку социализм в духовном и нравственном отношении более совершенная формация, чем капитализм, то создать его смогут лишь люди более высокой нравственности. Поэтому они уделяли особое внимание самоподготовке, внутреннему самосовершенствованию. Мы называли их «прекраснодушными идеалистами» и боролись против них, как ослабляющих революционное движение. Обычно на собрания Кружка этиков мы ходили втроем – Вардинский, Юргелевич и я. Мы читали Абрамовского и готовили возражения. Забегая вперед, скажу, что их кружки распались не столько под нашими ударами, сколько под ударом волны революции – «прекраснодушные» сочли безнравственным и трусливым оставаться в стороне, и большинство из них примкнуло к нам.