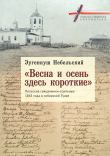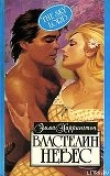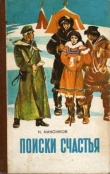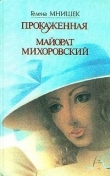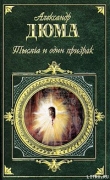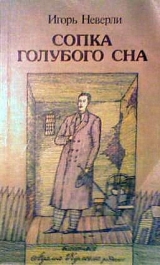
Текст книги "Сопка голубого сна"
Автор книги: Игорь Неверли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
– Написать ты можешь, но я привезу ее сам. В октябре поеду в Удинское за покупками на зиму и захвачу с собой Серафиму.
К этому времени Павел с Эрхе переберутся в свою избу, Митраша обвенчается с Дуней и поселится в их комнатах, а Серафима получит Митрашину комнату. Им вспомнились все хлопоты и старания по делу Серафимы. Адвокат Декартон проявил чудеса ловкости и таланта и добился ее освобождения.
Они подошли с лейками к усыпанным плодами яблоням. Начали поливать.
– Еще одно чудо природы,– говорит Вера.
– Ты о чем?
– О том, что ты срезаешь ветку благородного сорта яблони, держишь ее год в песке где-нибудь в подполе, а когда весной деревья оживут после зимней спячки, воткнешь свою ветку в надрезанный ствол дикой яблони, и она привьется, зацветет, окажется сильнее, чем источник ее жизни, ее ствол! Вырастет не дикая, а благородная, морозоустойчивая яблоня... Ты когда-нибудь думал об этом?
– Думал, но не нашел объяснения.
– А я вижу в этом еще одно доказательство существования разумного начала вселенной...
Бронислав отнес лейки в сарай, и они пошли к пруду. Здесь их встретила Радуня, они вместе поплавали, поныряли и вернулись в дом; сделалось поздно, и надо было готовить ужин.
Дома попрощались с Зютеком, которого Дуня укладывала спать, пожелали ему спокойной ночи, поцеловали и, захватив все для стола, прошли на террасу.
Были мягкие сумерки, время между днем и ночью, на небе горела красная заря заката, и постепенно смолкали все дневные голоса.
– Как тихо,– сказала Вера, расставляя тарелки и раскладывая приборы,– будто господь бог ласково взглянул на нас, улыбнулся и вскоре забыл.
Бронислав, сидя на скамье, курил трубку. Он чувствовал легкую усталость, подходил к концу день, заполненный совместным трудом и мелкими заботами, сейчас будет ужин, а потом сладкий, блаженный сон.
– Так пролетает день за днем, а будущее все остается порешенным... Надо написать Зотову, «да» или «нот».
Напиши, что хочешь.
– Нот, что ты хочешь... Скажи, тебе здесь не скучно, не однообразно?
– Нет, совсем не скучно и не однообразно.
– Если я стану директором заповедника, у меня будут стражники, научный персонал, будут приезжать ученые, любители природы, охотники... Разве тебя не привлекает роль очаровательной хозяйки дома, культурного очага в глухих лесах Сибири?
– Представь себе, не привлекает.
– Да и работа, о какой можно только мечтать...
– Да, работа прекрасная, но все же по найму. Ты будешь зависеть от воли и настроения хозяина. А у тебя, Бронек, спина затвердела, ты не привык ее гнуть, трудно тебе будет... Словом, я не хочу, но если ты хочешь, то давай возьмем этот заповедник.
– Ну, тогда мы остаемся здесь, как минимум лет на десять, до тех пор, пока Зютеку не понадобится город, гимназия. Тогда и подумаем, как быть дальше.
– Правильно. Мы можем на этой Сопке досмотреть свой голубой сон о жизни... Принеси фонарь, Бронек, уже темно... Он у нас на столе, рядом со свечой.
Бронислав поднялся.
– И не забудь записать в календаре, что Зютек пошел.
В комнате он зажег фонарь на столе, посмотрел на спящего Зютека и сорвал листок с настенного календаря. С террасы доносились голоса домашних, собиравшихся к ужину. На листке с числом 15 августа 1914 года он торопливо написал «Зютек начал ходить», сунул его в ящик стола, и этот листок сохранился. Его хранили среди ценнейших семейных реликвий и уже пожелтевшим показывали всегда с одними и теми же словами: «А мы и понятия не имели тогда, что где-то уже целых две недели идет мировая война...»
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ СЕМЬИ НАЙДАРОВСКИХ

Найдаровские вместе с престарелым Брыськой приехали в Польшу в 1923 году, привезя с собой огромное состояние в царских рублях, которыми они, после года безработицы, оклеили туалет и служебную комнату сторожа лесопилки на Слодовеце, окраине Варшавы.
В Польше у Бронислава не было никого. Друзья и соратники поумирали или рассеялись по свету, для того чтобы их разыскать, у него не было ни времени, ни денег. Сестра умерла в 1918 году. В январе 1915-го Шулимов прислал ей из Харбина тридцать тысяч рублей. Ее муж тотчас же купил двухэтажный домик на Нижнем Мокотове, на пустыре, где теперь находится Стемпинская улица. Внизу он жил сам, верх сдавал. Он теперь был инспектором на железной дороге, получил медаль за заслуги, вступил в члены правящей партии и снова презирал Бронислава, узнав, что тот прибыл без гроша и бедствует: «Я всегда говорил, что это перекати-поле!»
Нелегко было в ту пору найти работу, особенно человеку, которому уже перевалило за сорок, без специальности, без знакомств, лишенному хитрости и не умеющему гнуть спину. Им пришлось вытерпеть немало, и потому они от души радовались, когда владелец лесопилки, познакомившись случайно с Найдаровским, угадал, что тот не пьет и не ворует, и предложил ему должность сторожа за квартиру и тридцать, а потом сорок злотых в месяц. Зютека, как сироту, сына участника руководимой Пилсудским Безданской операции, приняли бесплатно в кадетский корпус в Модлине. А Тереза, как звалась Вера с тех пор, когда в Иркутском соборе в памятном 1917 году, после падения царизма, состоялись наконец крестины Зютека и ее венчание с Брониславом – Тереза начала подрабатывать шитьем. Благодаря своему трудолюбию, вкусу, умению делать недорого отличные вещи она обзавелась на Слодовеце постоянной, верной клиентурой, которая и потом, когда они переехали в другой район, продолжала пользоваться ее услугами. Тереза зарабатывала втрое больше Бронислава, и это бы, вероятно, ранило его мужское самолюбие, если бы не переживания посерьезнее – в Польской республике он был парией, человеком, на котором лежит клеймо позора.
Заявление Бронислава о принятии в Союз бывших политкаторжан вызвало различную реакцию, от холодной сдержанности до бурного возмущения, и было отклонено до тех пор, пока он не предъявит «неопровержимые доказательства безукоризненной честности и достойного поляка поведения в отношении царских административных и карательных учреждений». Одни люди не любили менять мнение, если они назвали Бронислава провокатором без малого двадцать лет назад, то он провокатор и есть – это постоянство во взглядах казалось им глубокой принципиальностью. Другие не очень доверяли своим впечатлениям двадцатилетней давности и не высказывались вообще. К тому же обстановка не была благоприятной для человека, подозреваемого в провокаторстве. Страна кишмя кишела бывшими царскими верноподданными, которые теперь демонстративным польским патриотизмом и подчеркнутой ненавистью ко всему русскому пытались заглушить в себе воспоминания о былом национальном равнодушии... Бронислав слышал вокруг себя перешептывание, видел косые взгляды, однажды кто-то, услышав его фамилию, без слова отвернулся и ушел... И наконец в 1926 году, когда Зютек был в третьем классе, комендант кадетского корпуса уведомил его, что корпус берет на себя все заботы о воспитании Зютека, в связи с чем названный кадет не будет больше приезжать домой на праздники и каникулы. Это было ударом для всех троих. Отныне им осталась только переписка.
В это время Бронислав почти не покидал территорию лесопилки. Тереза заметила, что каждый выход за ограду требует от него больших внутренних усилий. При мысли о возможной встрече с кем-нибудь он весь каменел, как перед лицом опасности.
Так продолжалось вплоть до 1929 года, когда Вера, сумев накопить двести злотых, напечатала в столичных и периферийных газетах объявление о том, что она разыскивает людей, знакомых с делом Бронислава Найдаровского, которое слушалось в Варшавском военном суде в 1906 году.
Откликнулись: Георгий Андреевский, полковник царской армии, потом бухгалтер на заводе сельскохозяйственных машин в Познани, а до этого поручик Ревельского стрелкового полка, самый молодой член судейской коллегии, рассматривавшей дело Бронислава; Анна Жабинская, хозяйка пансиона в Отвоцке; Себастиан Козакевич из Цехоцинека, член ППС, рабочий, у которого повещенные впоследствии Перепецько и Завистовский ночевали в канун перехода через границу; художник Северин Врублевский из Гдыни.
Андреевский подтвердил рассказ Бронислава. Председатель суда, генерал Смирнов, сказал им, офицерам, что судить надо в соответствии с условиями военного времени, то есть быстро и строго, но все же с соблюдением законности. Он был дисциплинированным служакой, но не палачом. Меж тем следствие с самого начала показало, что налицо шитая белыми нитками провокация и полиция даже не позаботилась о правдоподобии, уверенная, что военный суд все равно признает подсудимого виновным и вынесет нужный приговор. Бомба была наполовину бутафорской, годилась для баллистических эффектов, но не для того, чтобы взорвать мост с тремя поездами, в которых, кстати, император совершенно не должен был ехать, поскольку не собирался в Беловежскую пущу стрелять глухарей; то есть на железнодорожном пути Белосток – Беловеж, близ станции Черемха, покушение состояться не могло. «Зачем же там собрались террористы? – Чтобы поехать затем в Петербург. Они были готовы на все! – Это только ваше предположение, господин прокурор, не подкрепленное фактами...» Но подсудимый признал себя виновным: «Я хотел убить царя за все зло, причиненное моей родине, Польше!» Его молодость и отчаянная решимость вызывали уважение и сочувствие. Прокурор требовал смертной казни, доказывая, что в подобных случаях намерение следует рассматривать как совершенное действие. В конце концов, как компромисс между его позицией и позицией судей, был вынесен умеренный приговор: четыре года каторги и вечное поселение в Сибири.
Анна Жабицкая показала снимок, полученный из павильона тюрьмы Цитадель. Молоденький Бронислав в светло-сером костюме стоит с невозмутимым видом в узкой камере с зарешеченным окошком наверху. На обороте – штамп «Адам Кулеша, фотограф, ул. Фре-та, д. 6» и текст: «Уважаемая госпожа, по просьбе Бронислава Найдаровского я был вызван в Цитадель, где сфотографировал его, и один снимок пересылаю Вам со следующими словами узника: я предстану перед судом, ни на что для себя не надеясь. Я уже причастился и шлю прощальный привет Вам и Дяде Сэму, да хранит Вас бог».
– Прочитав эти слова, я тут же побежала в холл, где стояла большая статуя Самсона, прозванная домашними Дядей Сэмом, нажала на камешек у ноги, повернула статую вокруг ее оси, и тогда открылся тайник. Я выгребла оттуда все бумаги и сожгла в печке... Вот так, уважаемая комиссия, я не верю в сплетни о том, что Найдаровский – провокатор. Только благородный человек спасает других, когда ему самому уже не спастись.
А товарищ Козакевич, член ППС, написал из Цехоцинека, что в июле 1906 года у него остановились Перепецько и Завистовский. Ожидая контрабандиста, обещавшего провести их через границу, они рассказали о несостоявшемся покушении, об аресте Бронислава и суде над ним, о собственных похождениях и о том, что всему виной некая Потомская. Они пробирались в Париж, чтобы ее убрать. Но при переходе через границу наскочили на патруль, завязалась перестрелка, один солдат был ранен в живот и умер. Их тоже судил военный суд, но в другом составе. За попытку к бегству, убийство солдата и покушение на императора их приговорили к смертной казни через повешение.
А Северин Врублевский говорил не на тему, рассказывал не о покушении, о котором не знал, а о своей встрече с Брониславом в Риме, об их пешем путешествии из Рима в Париж, о том, как они бедствовали, пока Бронислав не выиграл десять тысяч франков на соревнованиях по стрельбе. Он рассказывал, как отговаривал Бронислава от участия в покушении, угадывая провокацию во всей этой истории, но Бронислав, ослепленный любовью к Потомской, ничего не замечал. Уехал, оставив Врублевскому свою почти не тронутую премию, девять тысяч франков, которые дали ему возможность спокойно работать и стать тем, кем он стал – известным польским художником.
Дело закончилось полной реабилитацией Бронислава и принятием его в Союз бывших политкаторжан с предложением назначить ему пенсию в качестве компенсации за годы, проведенные в сибирской ссылке.
Друзья встретились только на заседании, где рассматривался вопрос Бронислава. Врублевский приехал прямо из Гдыни, а Бронислав пришел из Слодовеца. Они крепко обнялись, а после заседания отправились в гостиницу «Саксонскую», где остановился Врублевский, послав нарочного к Терезе предупредить, чтобы она не тревожилась, они явятся завтра. Всю ночь говорили и пили, Бронислав с чувством меры, Врублевский бея удержу. Проспали до полудня, затем взяли такси и поехали на Слодовец.
Появление такси в этом районе вызвало сенсацию. Сам хозяин лесопилки вышел из конторы.
– У вас работает национальный герой,– заявил ему Врублевский, здороваясь.– Сможете хвастаться перед внуками, что держали в сторожах Найдаровского.
На пороге квартирки он остановился и снял шляпу – вся комната была оклеена голубыми десятью-, двадцатью-, пятидесяти– и сторублевыми ассигнациями, со стен смотрели лица Екатерины, Петра, Александров и Николаев, прямо в глазах рябило, а навстречу шла нарядно одетая красивая дама.
Расположившись, Врублевский почувствовал себя в этой комнате так легко и свободно, что время до обеда и за обедом пролетело незаметно, и только в пятом часу он вспомнил о главном.
– Послушай, ведь я тебе должен девять тысяч франков!
– Перестань, я тебе их не одолжил, а оставил насовсем...
– Не городи чушь, ради бога... Сколько же это получается? Я всегда был слаб в арифметике. Девять тысяч франков, франк теперь стоит по курсу двадцать шесть грошей, это составит около двух с половиной тысяч злотых. А ведь франк в тысяча девятьсот шестом году котировался выше, чем в тысяча девятьсот двадцать девятом! К этому надо добавить проценты за двадцать три года, проценты с процентов!
Бронислав слышать не хотел о процентах, Врублевский упорствовал, но сосчитать никак не мог, наконец, сказал, что по пути на вокзал они заедут к Адельбергу, тот все подсчитает... Они попрощались и поехали сначала в гостиницу за чемоданом, потом на Маршалковскую, в бюро обмена валюты Адельберга, чьими услугами Врублевский пользовался не раз.
Адельберг полез в старые книги, проверил, какой был курс франка в рублях в 1906 году, перевел в злотые, сосчитал проценты... Он понял, что в этом торге друзей один стремится побольше дать, а другой поменьше взять, и предложил компромисс:
– Соглашайтесь, пан Найдаровский, на пять тысяч, а то, если я до конца сосчитаю, больше получится...
– Ладно, пусть будет пять тысяч. Врублевский успел еще на вечерний поезд в Гдыню и уехал, взяв обещание, что Найдаровские приедут к нему в гости. Бронислав вернулся домой и вручил Терезе пять тысяч злотых.
Они сняли на Жолибоже комнату с отдельным входом, чтобы Тереза могла продолжать принимать своих заказчиц, Бронислав купил себе приличный костюм, пальто и шляпу и в ближайшую субботу поехал утром в Модлин.
Он предъявил коменданту кадетского корпуса свидетельство о реабилитации и попросил, чтобы кадету Гоздаве снова разрешили проводить каникулы и праздники дома. Комендант дал разрешение, поздравил Бронислава и поручил классному руководителю зачитать свидетельство в классе, чтобы раз и навсегда положить конец всяким слухам и сплетням.
Бронислав попрощался с комендантом, подождал в читальне, пока ему вернут свидетельство, а выйдя на лестницу, увидел, что весь класс построен и ждет, стоя по стойке «смирно», чтобы его поприветствовать.
Взволнованный, он смог только сказать:
– Спасибо вам, ребята...
Зютек, превратившийся из мальчишки в долговязого подростка, кинулся ему на шею:
– Папа, сколько же тебе пришлось выстрадать!
– Да и тебе тоже...
В каникулы они поехали на речном пароходе по Висле в Гданьск, оттуда на морском каботажном судне в Гдыню, где провели прекрасных две недели в загородной вилле Врублевских на берегу моря.
А осенью, поскольку счастье, как и беда, не приходит в одиночку, Бронислав одержал победу в межклубных соревнованиях по стрельбе, получил пять тысяч злотых премии й*должность тренера в одном из клубов. Пенсия размером в сто пятьдесят злотых и оклад тренера обеспечивали им зажиточную жизнь. В ту же осень Бронислав купил гектар земли на Белянских полях на дальней окраине Варшавы и взял в банке пятнадцать тысяч ссуды, чтобы осуществить их с Терезой давнишнюю мечту – жить не в бетонной многоквартирной коробке, а в собственном домике, среди зелени.
В апреле 1930-го Бронислав с рабочими начал рыть котлован под фундамент и погреба, затем все лето работал с каменщиками, плотниками, столярами. Зютек получил аттестат зрелости с отличием и тоже месяц проработал на стройке, пока не начались занятия в офицерском кавалерийском училище. Тереза продолжала портняжничать, обшивая как своих старых клиенток со Слодовеца, так и новых, с Жолибожа. К началу ноября двухэтажный, пятикомнатный домик – три комнаты внизу, две наверху – был готов. Он, правда, еще не был оштукатурен, но перебраться и жить уже можно было.
Первых два года им приходилось туго. Жили только на пенсию и тренерский оклад, выплачивая при этом ссуду в банк, Терезины заработки прекратились ввиду дальности расстояния и отсутствия транспорта. Варшава кончалась в ту пору, в сущности, у трамвайного круга на площади Вильсона. Их район только начинал застраиваться, и Белянские поля выглядели, как море рощ, тянущихся до самого горизонта, с редкими островками человеческих жилищ. Тем не менее, за эти годы Найдаровские сумели оштукатурить дом, провести воду и канализацию, разбить фруктовый сад, вскопать огород. Потом трамвайную линию провели мимо Института физкультуры до Белянской рощи, и их пустыня ожила. Развернулось строительство, дома и улицы вырастали прямо на глазах, открывались предприятия, Беляны стали оживленным районом Варшавы. Население нового района хотело одеваться, и к концу тридцатых годов у Терезы не было отбоя от заказчиц. Ей пришлось даже нанять помощницу.
В это время, я имею в виду 1933 год, когда начался период процветания Белянского района, Зютек сказал отцу, что хотел бы присоединить его фамилию к своей.
– Ты же знаешь,– сказал Бронислав,– что у нас больше нет детей, один ты, сынок...
Они оформили это юридически до окончания Зютеком офицерского училища, так что в его свидетельстве уже значилось: подпоручик Юзеф Гоздава-Найдаровский.
– Вот ты и запустил корни в бессмертие,– сказала Тереза.
– Благодаря тебе, родная.
Это были их лучшие годы, последние белянские годы. Жизнь без материальных забот, любимая работа, собственный домик с красивым садом и огородом, хороший, любящий сын и их любовь, выдержавшая все испытания, заполнявшая каждый миг их существования – право же, нельзя требовать от судьбы большего.
В то же время, с 1933 года, у Бронислава появился еще один источник дохода. Несколько его учеников из охотничьего общества «Рысь» пригласили его на ежегодную охоту с участием ряда государственных сановников. Дичи была масса. Бронислав стрелял без промаха. Добыл двадцать зайцев, сорок пять фазанов и кабана и был объявлен королем охоты. Что было делать с дичью? Он подумал и отправил ее поездом в гастрономический магазин пани Куровской на Жолибоже. С этого началось. Сибиряк, великолепный стрелок со своим «Парадоксом» и таежными приключениями, вошел в моду, стал желанным гостем на подобных мероприятиях. Благодаря этому, давая неплохо заработать пани Куровской, он сумел погасить ссуду в банке в 1938 году, то есть на три года раньше срока.
У Найдаровских было много друзей и знакомых, их дом был всегда открыт для гостей. В числе их постоянных посетителей были бывшие сибиряки. Уже немолодые, хуже или лучше устроенные в Польше, они как-то не могли ассимилироваться на вновь обретенной родине и стыдливо тосковали по Сибири. Любили тамошних людей, суровых, но хлебосольных, сибирские блюда и песни, а начав вспоминать, теряли ощущение времени, засиживались далеко за полночь, с раскрасневшимися лицами, горящими глазами, словно видя свой давний голубой сон.
Когда началась война, пятидесятишестилетний Бронислав пошел добровольцем в снайперы. Участвовал в обороне Варшавы, сражаясь весь месяц на Белянском участке, и погиб в канун капитуляции, двадцать седьмого сентября, недалеко от своего дома.
Тереза купила участок на кладбище Повонзки, оборудовала семейный склеп (что было настоящим подвигом в условиях хаоса и оккупации Варшавы) и похоронила Бронислава под большим розовым валуном. На гладко отшлифованной стороне золотыми буквами сделана надпись:
«Бронислав Найдаровский
род. З.У. 1883 года в Варшаве – погиб 27.IX.1939 года, защищая Варшаву. Член БО «Пролетариата», бывший узник Акатуя и ссыльный».
Все обратили внимание, что на надгробном камне была сделана и вторая надпись:
«Тереза-Вера Найдаровская, урожденная Извольская, род. 16.11.1888 года в Киеве – умерла в Варшаве».
Не хватало только даты смерти.
Случилось это второго ноября, в День поминовения усопших, на кладбище было полно цветов, огарков свечей, бумаг, фольги. Тереза рассчиталась с рабочими. Потом состоялся молебен. Среди сибиряков и многих товарищей Бронислава по оружию была и невестка, Вожена, на которой Зютек женился в августе, в канун войны. От Зютека не было пока никаких вестей. Прощаясь с Боженой на трамвайной остановке, Тереза попросила ее непременно зайти к ней попозже, «В семь часов, не забудь!» – «Буду непременно, мама...»
Когда в семь часов Божена позвонила, ей никто не открыл. Она толкнула дверь – не заперто. Позвала. В ответ – молчание... Она зажгла свет и в спальне на кровати увидела Терезу, в нарядном платье, с запиской на груди:
«Так меня и похороните. Я искупалась, надела все чистое...»
Рядом на столе лежал лист бумаги:
«Я не могу больше жить без Бронека. Ухожу к нему... Прости, доченька, что оставляю тебя одну в такое время. Но ты молодая и все снесешь... Прощай!»
Рядом лежал конверт с завещанием, по которому дом и все имущество переходило детям – Божене и Юзефу Гоздава-Найдаровским.
С погребением у Вожены были сложности. Пришлось долго уговаривать врача, чтобы он в свидетельстве о смерти вместо самоубийства (отравление люминалом) указал инфаркт. В конце концов она похоронила Терезу рядом с Брониславом, вписав на надгробном камне отсутствовавшую дату – 2 ноября 1939 года.
Божена переехала в опустевший дом и стала ждать. Жизнь была тогда сплошным ожиданием. Зютек появился только в ночь под Рождество, осунувшийся, похудевший, переодетый железнодорожником. Ему было что рассказать. В начале войны, когда польские войска отступали по всему фронту, кавалерийская бригада генерала Абрахама вторглась на территорию Германии, дошла до Всховой, затем повернула назад и начала пробиваться к своим. Зютек командовал эскадроном, заменив своего погибшего ротмистра. Участвовал в сражении под Кутно, остался невредим, но потом под Сохачевом был тяжело ранен, лежал в госпитале, когда его перевозили в занятую немцами Познань, бежал из эшелона и тайком пробирался домой. «Война не кончилась,– заявил он Божене,– мы только начинаем!» Он пробыл дома несколько дней и попрощался. В дальнейшем появлялся и исчезал столь же внезапно, уйдя с головой в подпольную борьбу. Однажды его перебросили в Англию, откуда он вернулся в чине ротмистра. Погиб в Варшавском восстании 25 августа 1944 года.
Только в 1945 году его вдова отыскала место захоронения и перенесла тело мужа в семейный склеп. На камне появилась еще одна надпись:
«Юзеф Гоздава-Найдаровский, ротмистр Войска Польского, род. 26.1Х.1913 г. в Старых Чумах в Сибири, погиб в Варшавском восстании 25.VIII.1944 г.»
Вдова живет с подругой. В доме Найдаровских находится кооперативное ателье «Трудолюбие». Работает в нем около двадцати женщин, которые вяжут по заказу свитеры и джемперы. Ателье славится своей отличной работой.
Могила Найдаровских на кладбище Повонзки привлекает всеобщее внимание. Ухоженная, всегда в цветах. Красивый, напоминающий пальму явор у изголовья, около него оригинальная скамеечка в форме седла. Каждое воскресенье туда приходит пожилая женщина. Резвые белки выбегают ей навстречу, у нее для них орешки и ласковые слова. Она живет, ухаживает за усопшими...
1981—1983, Варшава – Мазурский озерный край
* * *
Это моя десятая и, должно быть, последняя книга. Отдаю ее в печать не без сожаления, прощаясь с ней, как с другом, который помог мне пережить тяжелое время, и думаю с тревогой – как же быть теперь без «Сопки голубого сна»?
Закончив «За Опивардой, за седьмою рекой», я не собирался больше писать. Этим томом рассказов о сорока годах моих скитаний на байдарках я думал достойно попрощаться с читателем, ведь там много приключений, много природы, а во всех услышанных, увиденных и пережитых историях отражаются, словно в зеркале воды, картины жизни разных регионов Польши.
Но в ту же осень, памятную осень 1981 года, назавтра после Дня поминовения я попал на Повонзки. Кладбище, после вчерашних многотысячных толп со всей Варшавы, являло собой жалкое зрелище – все было затоптано, исхожено, закидано увядающими цистами, огарками свечей, обрывками фольги и бумаги. Гуляя по участку сибиряков, я читал на гладком мраморе имена и фамилии тех, кто дождался независимости Польши и был похоронен в родной земле, а на железных табличках у стены – тех, кто остался за Уралом. Их было столько, что один этот участок мог бы составить гордость любой нации. Они оставили после себя много дневников и воспоминаний, но очень мало заметный след в литературе, я не припомню, пожалуй, ни одной фамилии, кроме Серошевского. А ведь было о чем писать им, обреченным на жизнь в столь непривычной обстановке. Сибирь, думалось мне, издавна проклятый край, место каторги и ссылки, а вместе с тем край богатейший в мире, с неограниченными возможностями...
Мысль о том, чтобы заполнить этот пробел – написать роман о жизни ссыльных в Сибири – не оставляла меня и по возвращении домой. Непонятная тревога, туманные, но назойливые образы заставили записать фразу, несколько фраз, из числа тех, что останутся в романе, хотя неизвестно, где и когда.
Я начал писать. Вопреки своему обычаю писал первую главу, не зная, о чем будет вторая и как все кончится.
Вокруг меня, словно шрапнель, взрывались события, катясь громким эхом по всей стране. Страсти, надежды, иллюзии охватили всех, а я оставался один на один с прошлым, уже слишком старый для того, чтобы смешаться с толпой, чем-нибудь помочь или помешать... Я был рад, что могу жить в своем вымышленном мире, могу писать, забрасывая пани Беату все новыми вопросами: когда начинается и сколько продолжается охотничий сезон в Сибири? – убийство Столыпина, все догадки прессы по этому поводу? – сколько в Сибири платили охотнику в 1911 году за рыжую лису? за черно-бурую? за песца? – уклад жизни сибирской деревни перед войной? – какими способами тогда добывали золото? – в каком году фирма Ричардсона начала выпускать двустволку типа «Парадокс»? – и так далее и тому подобные реалии, потому что воображение рождает роман, а знание строит его из таких вот кирпичиков.
Я всегда занимался писательством как любитель, рывками, когда хотелось. Между книгами у меня нередко бывали перерывы в несколько лет, заполненные разными видами растранжиривания времени, среди которых преобладали три моих хобби – столярное дело, катание на байдарках и охота. Зато, почувствовав волю божью, я бросал все и окунался в водоворот новой темы, ничто больше для меня не существовало, и я каждый раз вновь ощущал себя дебютантом. Но никогда до сих пор мне не случалось работать так долго и напряженно, за три с половиной года закончить две книги – «За Опивардой, за седьмою рекой» и «Сопка голубого сна» – вместе около пятидесяти авторских листов. Должно быть, верно говорят, что любая свеча ярко вспыхивает, прежде чем погаснуть.
Десять книг. Немного для восьмидесяти лет. И что странно, ведь я писал давно, всегда, а начал печататься после сорока. Помню, у деда, в Беловеже, лунным осенним вечером, когда лес источал уже винный запах прели, а из глубины пущи доносилось рычание тоскующих самцов, у меня вдруг родился первый стишок и так обжег мне душу, что я заплакал, а я отнюдь не был изнеженным мальчишкой, никогда до этого не плакал. С тех пор я начал писать, то стихотворение, то рассказик, став постарше, исписывал целые тетради, скрывая свое интимное занятие и ни к чему не стремясь, пытаясь только вызвать ЭТО. Так, большими буквами ЭТО я называл на тайном своем языке некое необычное состояние, блаженство, вызывающее странную, добрую печаль и легкость как бы сновидения, когда ты паришь высоко над землей, а тела нету, и может, тебя вообще нету, или, наоборот, ты есть во всех кругом. А поскольку подобное возвышенное чувство редко рождается, когда пишешь, писательство вообще чертовски унылый труд, требующий силы воли и большого самолюбия, которого мне не хватает, то я и написал мало, и потому, в частности, так поздно превратился из любителя в профессионального литератора.
Ну и кроме того, биография. Она у меня есть. Иногда помогает, а иногда мешает и осложняет жизнь. Если бы я окончил Кадетский корпус им. Суворова в Варшаве, как хотели мои родители, то попал бы прямиком в Белую гвардию, но этого не случилось, и, не отягченный предрассудками офицерской среды, я пошел в революцию и три года, до девятнадцати лет, состоял, в Комсомоле, который отнюдь не занимался подготовкой своих членов к профессии писателя, .как это делают наши Кружки юных литераторов, а готовил их к мировой революции – «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» – ни о чем другом мы тогда не думали и не мечтали (о приключениях, стремлениях, надеждах и иллюзиях той поры я рассказал в автобиографическом романе «Осталось от пира богов»), А потом, на польском берегу, когда я в длинных не но росту брюках моего дяди, с пятью злотыми в кармане прибыл покорить столичный град Варшаву, то опять-таки с голодухи не до литературы было. Судьба была ко мне то милостива, то жестока, бывал я то на коне, то под конем. Безработица, поиски занятия, голод. Мне повезло, я стал стенографистом, даже начальником фирмы «Эсперто» со штатом стенографистов, машинисток и инкассаторов в моем лице. (О том, как я кружил по Варшаве, изображая целую фирму, рассказано в моей книге «Живая связь».)
Я преуспевал. Работая на съездах, судебных заседаниях, собраниях и лекциях, узнавал жизнь страны. Потом в мае 1926-го Пилсудский совершил переворот, наступила тишина выжидания: что теперь будет? Такая тишина гибельна для стенографиста. Кончилось тем, что, оставшись совершенно без средств, я сгреб в портфель свое нехитрое имущество и тайком покинул квартиру, чтобы меня не заметил дворник.