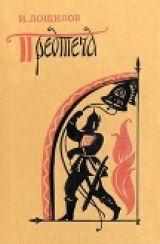
Текст книги "Предтеча (Повесть)"
Автор книги: Игорь Лощилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– В твоей загородной усадьбе разбойный люд жил, гостей честных и людей служилых по дорогам грабил. И с награбленного тебе немало перепадало.
«Слава богу, не знает! – успокоился Лыко. – А супротив этого отговорюсь».
– Не ведаю, о чем глаголишь, государь, – сказал он и прибавил с обидой: – Оболенские сроду в ворах не числились.
– Лукавишь, князь, – вступил Хованский. – Главарь разбойный Гришка Бобр рассказал на допросе о грабленом. Много они однажды у сурожан сосудов драгоценных взяли: кубков, ковшей, стаканов, чарок, блюд, мисов, – и многие теперь из них на столе у тебя.
– Врешь, злодей! – крикнул Лыко. – Я тебя к своему столу не приглашал!
– У нас в поручниках твой стольник, – как ни в чем не бывало продолжил Хованский. – Он показал, что у Бобра эти сосуды по твоей указке в полцены взял.
– Так ты, князь, краденое у себя хоронишь! – удивился Иван Васильевич и кивнул в сторону дьяка.
Тот указал на толстый фолиант и сказал:
– По старинной судной книге – хранитель краденого отвечает наравне с вором.
– Придется, князь, имущество твое описать, чтобы вызнать, сколь в нем краденого, с тем и вину твою определить, а до того держать под стражей. – Иван Васильевич подал знак, и князь Лыко был выведен стражниками из палаты.
Тихо стало вокруг. Бояре опустили головы и боялись шелохнуться.
– Ведомо нам стало, – нарушил тишину великий князь, – что объявилась на Москве великая блудница, какая бесовские игрища с добрыми мужьями играла. Начали вызнавать, когда враг рода человечьего ее к этому делу склонил, и вызнали, что допрежде улестил и умыкнул ее из-под родительского крова боярин Кошкин Иван Захарьевич.
– Обнесли меня, государь! – вскричал напуганный боярин.
– Дак она туточки стоит, сам, поди, видел, – сказал Хованский. – Хочешь, доставим, сама все скажет!
Боярин помолчал, потом повалился в ноги:
– Винюсь, государь! Молодой был, бес одолел…
– Какова кара за сей грех? – повернулся Иван Васильевич к судному дьяку.
– Если девка хорошего рода и после позора засядет в девичестве, то платить похитителю за срам три гривны золота – на наши деньги двадцать рублей.
– Внесешь в мою казну половину, а остальную твою вину отдаю митрополиту – во что он обрядит, то и будет.
Филипп сурово глянул на Кошкина и заговорил, тихо покачивая головой:
– О сколь невоздержанны вы, любосластные чада мои! Без страха перед язвами души впадаете вы в страстную пагубу, увидя женовидное обличье. Восхотевшись бесовской любовью, стремитесь к ней, тело обнюхивая, руками осязаете и сластию распаляетесь, аки жеребец некий, аки вепрь, к свинье своей похотствуя…
Владыка помолчал, а потом возвысил голос:
– Господь однажды сожег за блудодействия содомлян, и, чтоб кара сия минула тебя, умилостивь Христа молитвами, и лощениями, и чистотою, и говеньем. Перепишешь саморучно канон великий, творение нашего святого отца Андрея Критского, а дотоле в божий храм тебе дороги нет, и священных иерархов наших не лицезрей. А теперь изыди с очей моих!
Боярин с помертвелым лицом пошел прочь – наложенная епитимья обрекала его на полугодовой каторжный труд и жалкое затворническое житье. Оставшиеся со страхом смотрели на государя.
– Захарьин Никита Романыч! – позвал Иван Васильевич.
Боярин грохнулся на колени и торопливо заговорил:
– Винюсь перед тобой, государь, и пред тобой, владыка! Во всех прегрешениях моих бывших и будущих. Тотчас же пошлю людей по твоему указу, государь, для порубежных работ. И сверх того еще пять человек.
Великий князь приветливо улыбнулся и сказал:
– Встань, Никита Романыч! Вишу, болит у тебя душа за русскую землю, и потому да простятся тебе все прошлые грехи. Так, владыко?
Филипп склонил голову и поднял руку.
– Исповедуйся святому отцу и прими отпущение, да гляди на будущее… – Великий князь погрозил боярину своим тонким пальцем.
– Мы тоже исполним твой указ, государь! – разом зашумели остальные бояре. – Пошлем своих людишек, чего там! Дело-то общее, святое!
– Ну тогда, бояре, и я со своим судом подожду, – поднялся Иван Васильевич, – ладком да рядком дело лучше строится. А теперь давайте отобедаем вместе.
– Спасибо, государь! – ответил за всех Федор Акинфов. – Затмение нашло на нас, ты уж не обессудь. Можа, и Лыку простишь заодно – у него голова тоже, чай, просветлилась.
Подумал великий князь и приказал вернуть опальника. Бояре с радостными лицами бросились ему в ноги.
Митрополит Филипп поднялся и торжественно заговорил:
– Радостно мне видеть, дети мои, сколь вы дружно землю нашу от сыроядцев поганых защитить тщитесь.
Церковь наша от того святого дела в стороне не будет. Сегодня же прикажу отписать, чтобы монастырские люди тоже шли границу крепить. Да поможет вам бог!
За обедом великий князь был весел и милостив. Беспрестанно сновали блюдники, приносившие в знак особой милости к какому-нибудь боярину кушанья с царского стола. Нескольким боярам, в том числе и Акинфову, был доставлен хлеб из рук самого государя, что означало душевную благосклонность, а Патрикееву с Холмским – еще и соль – знак великокняжеской любви. Ходили промеж столов и чарочники, разносившие разные пития. Знатную и нежданную честь оказал государь своему брату Андрею, отослав ему в подарок большую золотую чашу с вином.
– Чудно ты сегодня большое боярство уважил, государь, – говорил ему Патрикеев после обеда. – Очень все остались довольны твоей милостью. И с работными людьми ловко устроилось. Не думал я, что тебе это дело так быстро удастся, сам знаешь, сколь бояре наши крепки.
Иван Васильевич довольно усмехнулся и сказал:
– Всякое дело свершить можно, коли с умом к нему подойти. Читать, Иван Юрьич, умные книги надо, из них много чего в дело можно вставить.
– Это не в той ли толстой ты вычитал, как бояр укротить? – показал Патрикеев на переложение с греческого.
– А что? – прищурился Иван Васильевич. – У византийских царей мудрости не грешно поучиться, недаром они столько лет страной ромеев правили. Вот послушай, что в ней написано: «Если добудешь просимое окриком и страхом, оставишь за собой ропот и озлобление. Обвини вселюдно просимого в каком-либо грехе, и он во искупление с радостью отдаст тебе больше, чем ты хотел». А грехи, как видишь, у каждого найти можно.
– Преклоняюсь перед твоей мудростью, государь, – поклонился Патрикеев, – и радуюсь, что ты мне, как а всему боярству, прегрешения прошлые нынче простил.
– С тобой, Иван Юрьич, особь статья. Ты мне головой за южную границу отвечаешь, чтоб работы там велись на совесть. После рождества брата своего пошлю для надзора, нечего ему в Москве бездельно болтаться. Если найдется твоя какая вина, то ее одной будет довольно…
Настал ноябрь-полузимник. И потащились к южной границе из Москвы и других городов – где по грязи, где по снегу – тощие обозы с работными людьми. Московские монастыри собрали с десяток артелей для порубежных городов, имевших в Москве монастырские подворья, где мог остановиться по приезде любой чернец или знатный господин. Андронниковский игумен долго не раздумывал и послал в свой подворный город Алексин артель лесорубов, работавшую в прияузье у монастырского сельца Воронцова под надзором злонравного монаха Феофила. Узнав о решении игумена, Феофил издал зубовный скрежет и налился до ушей винным зельем. На этом его подготовка к поездке кончилась. Артельные же не тужили: им где работать – без разницы. Тем паче что обещал игумен в день по полуденьге накинуть и одежонку кое-какую в дорогу дать. «Там мороз не злее, а зипун потеплее – чего ж не ехать», – рассудили они и двинулись в путь.
Город Алексин встал на правом берегу Оки, где она глубока и многоводна. Город ни мал, ни велик. В нем крепостица с деревянным огородом длиною с версту, в посаде дворов двести, а всего народу с полторы тысячи будет. В крепостице двор воеводы Беклемишева с острогом и судной избой, две церкви – Алексия чудотворца и Михаила Стратилата, – дворы знатных людей. Вокруг земляной вал 6–7 саженей в высоту и ров такой же ширины. На валу деревянный огород: где частокол, где стены, а со стороны Дикого поля городень – заполненные землей бревенчатые срубы. Среди них несколько башен – как маслята-перестойки: с виду вроде бы крепки, а внутри гнилье. Да и весь огород такой же: где огнем сожжен, где червями подточен, где временем испорчен.
Воевода Беклемишев страшен с виду. Ликом он вроде сбросившей листья старой дикой яблони – извит, искорежен и, как сучьями, утыкан колючим растопыренным волосом. С таким лицом добрых дел не натворишь. И правда: был воевода лют, бестолков, скареден и по-дурному суматошен, но на редкость удачлив. За всю свою службу ни одного дела толком не сладил и ни разу не был за то уязвлен. Сначала думал, по счастливому случаю; потом решил, что находится под особым покровительством одного из святых угодников. Какого – долго не мог выбрать. Но однажды в Михайлов день, неожиданно избежав справедливой кары, понял, кто его заступник, и тут же дал обет соорудить в его честь божий храм. Потом поразмыслил и приказал со всех горожан и проезжающих брать деньгу на строительство. Так в Алексине возникла церковь Михаила Стратилата, а излишки от собранного остались в кармане воеводы. С тех кор Беклемишев безоговорочно вверил воеводские дела в руки святого, а свою деятельность изображал крикливой суматошностью. И удача продолжала сопутствовать ему.
Получив приказ «град немедля твердить», Беклемишев схватился за голову, ибо знал, чего стоило бы ему выполнить этот приказ. Потом успокоился, призвал в помощь своего святого, и тот помог: направил в Алексин работных людей из других городов. Вместе с людьми на воеводу должна была свалиться забота по их устройству, но Михаил выручил и на этот раз: горожане искали краденых лошадей и нашли их, спрятанных в большой пещере, вгрызшейся в правый крутой берег реки и выевшей почти всю середку у прибрежного холма. «Коли скотина там обиталась, почему ж работные людишки жить не могут?» – подумал воевода, и забота разрешилась сама собой. Пришлых людей оказалось не так уж много. Народ рабочий, ко всему привычный, они и такому жилью рады: от ветра и снега землей прикрылись, от мороза кострами заслонились – жги сколько хочешь и пожара не бойся.
Монастырская артель получила в работу южный участок крепости. В ней городень почти на две сотни саженей и пара башен, одна от другой на два лучных перестрела. Поначалу обрадовались мастеровые, думали, быстро управятся, но походили, топориками постукали и загоревали: не подправлять, а все наново надо ставить – дай бог до лета сладить. Только присели обмозговывать, откуда ни возьмись сам воевода. Наскочил грозой, того и гляди конем стопчет. Ах вы, кричит, этакие-разэтакие, работать сюда пришли или сиднем сидеть? Артельный старшой Архип шапку снял, чинно поклонился и объяснил: так, мол, и так, государь-воевода, обстукали мы твою крепость и видим – поизносилась до-смерти. Легче новую ставить. Вот сидим, думаем, с чего ладить будем. Воевода в пущий крик. Мне, орет, ваши холопские думы ни к чему. Ну-ка, ноги в руки – и крутитесь, чтобы шапки от пара вверх летели.
– Давай, братва, – пояснил воеводский крик артельный Данилка, – бежи шибче, а в какую сторону – опосля скажут!
Беклемишев вошел в раж, ногами по конским бокам засучил, плетью замахал и неожиданно ускакал дальше.
– Во чумной! – не выдержал даже всегда спокойный Архип. – Я, когда пришел к ему попервости, спрашиваю: где лес брать? А где хошь, говорит, там и бери, здеся кругом леса. А рубить кто будет? А кто схочет, говорит, тот и будет, людишек много. А возить чем? А чем хошь, говорит, лошадей много. Так и ушел ни с чем, не воевода, думаю, полудурок. А тут, нате вам, и вовсе выходит.
Позубоскалили мужики и принялись ближний сруб растаскивать. Ломать, известно, не строить, но возиться пришлось изрядно. Данилка и на язык остер, и мыслью хитер, возьми и предложи:
– А чего вам силы попусту тратить? Сложим новую стенку впереди старой, а между ними землицы набьем. Городень утолщится, только крепче станет.
Пораскинули артельные – а что, дело! – и оживились. Тут же рассудили, кому землю копать, кому лес готовить, кому стенки городить, кому башни строить.
И пошло у них дело без спора, но споро – русский человек на начало работы скор. Намахаются за день, рук-ног не чуют, а с темнотою к себе в подземку сваливаются. Повечеряют и стиснутся у огнища одежонку посушить, языки почесать. Трещит костер, сыплет искрами, кладет неровный отсвет на усталые лица и слушает нехитрые мужицкие байки.
Данилка без умолку стрекочет – то притчу скажет, то насмешку строит. От него всем достается: князю, лизоблюду, простому черному люду, да и своему брату артельному. Но особенно – монаху Феофилу. Он, правда, с того раза, как его Семен на дерево подвесил, вроде бы слинял маленько. Утишился, в дела ни в какие артельные не встревает, выкопал у огневища себе нору и лежит там целый день на пару с бочонком. Данилка про него такую загадку удумал: темный да злыдный, на земле невидный; то на ветке повисит, то в подземке полежит… Бывает, развеселятся мужики, расшумятся. Выползет тогда Феофил на свет костровый послушать «бесовские ржания». Данилка его заприметит и пристанет с чем-либо, навроде:
– Рассуди, твое расподобие, что сильнее – земля или огонь? Я им говорю – земля, ибо от нее огонь потухает, а они спорят.
Феофил радуется случаю унизить своего недруга и говорит:
– Ты как есть дурак, и рассуждения у тебя все дурацкие. От огня, бывает, земля трескается и города поглощает, тот огонь не то что землю, твое неразумное окаменение осилит…
– Ай-ай-ай! – притворно пугается Данилка. – Уж не подземный ли это адовый огонь ты мне пророчишь, не сам ли сатана ему хозяин?
– Он самый. По-простому – сатана, а по-умному – Вельзевул, и ежели ты не направишься…
– Да погодь ты! – перебивает его Данилка. – Ведь это что ж, по-твоему, выходит: огонь сильнее земли, хозяин ему сатана, значит, сатана и над нашей землей властитель? Негоже тебе, божьему слуге, такие крамолы извергать…
Забурлит у Феофила в горле, нальется он краснотой и зашипит:
– Безбожник проклятый, подручник Вельзевулов, изыди искуситель. – И уползет в свою нору.
Прошел месяц, второй… Уже постороннему глазу были заметны плоды трудов монастырской артели. Рос городень, остро пахнущий свежими смолистыми бревнами, в темном пустом провале стен встали добротно сбитые ворота, а над ними поднялась крепкая башня. Работал ее Данилка с несколькими артельными мужиками и помогавшими им горожанами. Архип придирчиво осмотрел готовую башню и, похоже, остался доволен. Только одно спросил, почему бойницы не по ряду, а вразброс прорезаны.
– Дак вить что за дело: дырки рядом рубить – слабина всей стенке будет, – ответил Данилка и хитро отвел глаза в сторону.
Вскоре после того возвращался из заполья воевода, и на подъезде показалось ему, что с новых ворот глядит на южный посад огромная татарская голова. Вздрогнул воевода, осенился от наваждения, ан нет, все то же: прищурился на него татарин и ртом осклабился. Бросил вперед коня, подскочил ближе – вместо головы надворотная башня. Не поленился, отъехал назад – снова татарин. Что за черт! Стал воевода медленно подъезжать и присматриваться. Видит: вместо татарских зубов – надворотные заборола[36]36
Заборола – приспособления для защиты от стрел противника, а также боевая площадка на верху крепостной стены.
[Закрыть], вместо носа – ставец для пушечного окна, вместо глаз и бровей – бойницы, а для пущего сходства бревна кое-где дегтем промазаны.
Вскипел воевода, бросился к артельным и на Архипа грудью конской наехал.
– Ах ты, смерд поганый, мать твою перемать! – кричит. – Шутки со мной шутить удумал?! Кнутом забью до смерти!
Архип шапку снял, поклонился и спокойно спросил:
– Почто кричишь и за что грозишь, государь-воевода?
Беклемишев плетью машет, слюной брызжет:
– Ты что же это вместо башни харю басурманскую вырубил?! Кто разрешил?!
Стали на шум артельные сбираться, и Данилка в их числе. Услышал, в чем дело, и бесстрашно выступил вперед:
– Это я, воевода, башню рубил. Похожа, говоришь, на басурманина? – Воеводе от такой наглости даже дух перехватило. А Данилка продолжает: – Уж очень хотелось бы, чтоб на ихнего царя Ахмата похожа была, да ить я рожи его не видел. А можа, ты скажешь, каков он?
Беклемишев кипит, вот-вот лопнет, потому как пар не стравливает. Наконец выдал тонкую струю – пропищал неожиданно тихим и сиплым голосом:
– Почему на Ахмата?
– Дак ведь придет татарва и схочет, к примеру, крепостицу брать. Тада придется окаянным в свово царя целить и под нос ему примет огненный совать. Смешно ведь!
Кто-то из артельных хихикнул, и неожиданно для всех и для себя самого загоготал Беклемишев. Он зашелся в смехе и тихо пополз с седла.
– Ах, шельмец! Ах… сын! Ах, язва!.. – выдавливал он между всхлипами. Наконец поутих и изволил осмотреть башню. Осмотрел – работа добротная, искусная. Похлопал Данилку по плечу, посулил чарку хмельную.
– Дак я ведь не один, чай, работал! – нахально улыбнулся тот.
– А сколько же вас было? – спросил воевода.
– Прикажи выставить ведро, не ошибешься! – вовсе обнаглел Данилка.
– Ладно, – великодушно махнул рукой Беклемишев, – прикажу. Только тебе теперь с твоими холопами надо у меня во дворе поработать.
С этого дня добрая треть артели перешла работать на воеводский двор. Сначала ставили ему двое новых ворот: передние, те, что с приезда, и задние, с поля. Потом разохотилась воеводша и велела новые хоромы закладывать, богатые, на манер московских: просторные подклети, на них пять горниц с комнатами, разделенными сенями, на третьем ярусе – терема с чердаками, а вокруг горниц три высокие башни – повалуши. Постепенно на обустрой воеводского двора отвлекалось все больше людей, а между тем работы по укреплению крепости не дошли еще даже до середины. Настал март, но до тепла, по всем приметам, было еще далеко. Зима выдалась снежная и уходить не собиралась. Лес заготавливать становилось все труднее, людей не хватало. Когда работы на крепости замедлились так, что грозили вовсе остановиться, Архип пришел к воеводе и попросил вернуть артельных.
– Дело у нас стоит, – пояснил он. – И бревен нет, дал бы еще мужиков, а то к лету не управимся.
– Бревен, говоришь, нет? – сузил глаза воевода. – Так я тебе подкину, у меня их много! – Он показал на стоявшие у судной избы связки батогов и крикнул: – А ну убирайся отседова, пока я тебе спину не изукрасил! Ишь, холопье поганое, указывать мне будет!
В тот же вечер вышел между артельными жаркий спор.
– Мы на его хоромный двор не подряжались работать! – шумели одни. – Из тридевятой дали приехали, чтобы задницу его огораживать!
Другие смирялись:
– Какая разница, где работать, лишь бы денежки шли!
Третьи середку держали:
– Оно, конечно, не по совести, а по корысти воевода поступает, да что можно сделать?
Данилка был одним из самых решительных.
– До того обрыдло работать на воеводу! – жаловался он. – А боле всего его жирная кутафья[37]37
Кутафья – приземистая баба.
[Закрыть] донимает. Все указует, как щепу драть, куда бревно класть. Сам-то с придурью, а она с еще пущей. Как промеж собой договариваются, ума не приложу! И ведь не поймут, что вперед нужно крепостью огородиться, а опосля уж своим забором. Нет, братва, надобно послать нам в монастырь к игумену и довести про воеводское самоуправство.
Феофил злобно поблескивал глазами и хрипел:
– У святого отца только и делов, что холопский оговор слушать! Смиритесь работой и не ропщите.
Тем бы, верно, и закончился разговор, кабы не случился к ним в этот вечер неожиданный гость.
– Исполать тебе, господи Иисусе! – с такими словами выступил из мрака к артельному костру высокий и худой старец. Он оглядел круг возбужденных лиц и прибавил с доброй улыбкой: – Хлеб да соль!
– Ем, да свой! – тотчас же огрызнулся Феофил.
– Спаси бог, – ответствовали другие и подвинулись, давая место у огня. – Издалека ли идешь?
– Путь мой далек, – охотно заговорил старик, – верст не считаю. Одне ноги стопчу, другие пристегну и дале. Приморюсь – сяду отдохнуть. Присел в вашем краю – слышу, душа человечья мается. Подошел, зрю – отрок убогий плачет, замерз, должно. Вот привел к огню отогреть. Ну иди сюда, экий ты! – обернулся старик и вытащил к костру упирающегося парня.
– Сеня Мума! – узнали артельные немого, работающего на воеводской поварне. В городе всяк знал доброго в неленивого парня, ставшего сиротою в один из татарских набегов и вдобавок к этому лишившегося языка, когда посмел браниться на насильника. – Что же ты в лесу делал?
Сеня, по обыкновению, замычал в ответ и замахал руками, потом задрал на себе рубаху и выставился на свет. Вся его спина была исполосована батогами.
– Кто ж это так тебя? – послышались возмущенные голоса.
В ответ Сеня изломал себе лицо, выкрутился руками, растопырился пальцами.
– Никак, сам воевода? Ах он злодей! Как на убогого рука-то поднялась?
И ярость снова стала заливать сердца артельных. Закричали они, руками заплескали и порешили-таки послать в Москву человека с челобитной. Тут же отрядили для этого дела Данилку и стали говорить, что в челобитную надобно вставить.
Послушал их пришедший старец и подал негромкий голос:
– Да будет вам ведомо, добрые люди, что едет нынче по всей порубежной окраине князь Андрей Васильевич, родный брат государя московского. Муж чуден вельми умом, красен с виду, до простого люда ласков, а к злодеям строг и безмилостив. При мне на Медыни воеводу тамошнего приказал в железа взять за его неисправления и нечисти. Слыхом я слыхивал, что идет он теперь в ваши края, городок Алексин поглядеть и крепость его проверить. Вот и скажите ему свои обиды, чем кого посылать за семь верст киселя хлебать. Да за своими обидами убогого не забудьте.
– Коли верны твои вести, то лучше все на месте справить, – согласились мужики. – Хучь в Москве и строго, а все ж далеко от свово острога! Ладно, обождем твоего чудотворца…
– А Сеню надо бы в артель к нам определить, – предложил Данилка. – Парень работящий, пущай к какому рукомеслу навыкнет.
– Куда нам захребетника лишнего? – тотчас запрекословил Феофил. – Харчей и тех не оправдает.
– Твой харч – похлебка с яичной скорлупы! – возмутился Данилка. – Его даже комар оправдает, коли лишний раз не скусит. А Сеня нам помогать станет. Верно? – Сеня радостно заулыбался и замычал. – Вот, говорит, что кашеварить станет. – Сеня закивал головой и снова замычал. – А еще, говорит, деревья рубить будет, за огнем следить, за водой ходить, а летом от тебя мушек отгонять, когда твое расподобие под кустом завалится.
Мужики загоготали:
– Никак, ты его мычание понимаешь? Коли берешься перетолмачивать, то пусть остается! Нам рабочие руки завсегда нужны! Слышал про наш уговор, добрый человек?
Глядь, а старца того и след простыл. Когда ушел, никто не приметил – вот чудеса! Покачали мужики головами и стали укладываться на ночь.
Утром, когда артель ушла на работу, Феофил добрался тишком до воеводы и рассказал ему про князя Андрея и мужицкий сговор.
– В острог всех немедля! – вскричал воевода.
– Не уместит сия обитель всех греховодников. Аз мыслю самых репейников покрепче сокрыть. – Феофил припал к уху воеводы и сказал ему такое, от чего тот дернулся, как от ожога, и вышел вон из комнаты, хлопнув дверью. Однако спустя немного дверь приотворилась, и к ногам Феофила звякнул мешочек.
Вечером, незадолго до темноты, подбежал к Данилке хоромный мальчонка и позвал к воеводше.
– Вот репейная баба, – сплюнул в досаде Данилка, – опять, должно быть, начнет учить, с какого конца за топор держаться!
Но до самой дойти ему не пришлось. Встретившийся у хором дворский объявил, что боярыня пожаловала мужиков за добрую работу и позволила во внечеред в мыльню сходить.
– Возьми с собой кого хошь, а тама для вас уже все готово. Только с огнем бережитесь, а то нарежетесь, и все вам нипочем! – сурово добавил он.
Пожал Данилка плечами – вот уж ни ждал ни гадал! Но отказаться от баньки да от чарки – двойной грех! И побежал за дружками.
Банька у воеводы хоть и знатная, а ставлена недавно. Еще не успела просохнуть и напитаться дымом, потому пар не достиг в ней первостатейной душевной мягкости. Это артельные учуяли сразу. Зато в предмыльне им и квасок, и бражка, и закуска соленая. Еще раз подивились мужики, однако разоблачились и начали париться. Раз поддали, другой и в третий раз на полок поползли. Лежат, хлещутся, визжат от радости, и такое у них просветление, какое только у богомольца в Христово воскресение бывает, и даже вроде бы благовест пасхальный стал до них доноситься.
– А что, мужики, никак, и взаправду звонят? – прислушался Данилка. – С чего бы это?
Он выскочил в предмыльню и прильнул к плотно закрытому ставнем единственному окошку. Но ставень не пропускал света. Ткнулся в наружную дверь – она оказалась крепко закрытой. Постучал, покричал – глухо. Между тем стало попахивать гарью. Выставили дымную затычку в потолке – в мыльню ворвались клубы дыма и звуки пожарного набата. Открытая дыра задышала живым жаром, должно быть, горела банная крыша. Мужики схватились за одежду, стали кричать, барабанить в дверь и стенки, но все было тщетно.
– Вот и наградила нас кутафья за работу, – проговорил один из них, безвольно опустившись на скамью.
– Надо же, самих себя обмывать заставила, – горько усмехнулся Данилка.
– Грешно сей час зубоскалить, – сказал третий, – помолимся лучше о спасении души своей…
А город в это время метался в панике.
– Татары! Спасайся! Горим! – кричали посадские, хватали, что попадалось под руку, и бежали в крепость– кто с огнем воевать, кто собину свою спасать, кто место тихое, заувейное искать. Прибежали и артельные. Видят: огонь к их стенке подбирается, а новая надворотная башня так и вовсе огнем занялась. Бросились тушить, благо вода рядом, во рву. Стали уже, кажется, огонь одолевать, как вдруг Архип поднял руку:
– Тише, братва, никак, голос человечий!
Прислушались – сквозь огненный гул сочился невнятный стон.
Архип окатился ледяной водой и бросился по лестнице наверх. В башне было дымно и смрадно, но огонь вовнутрь еще не проник. Дым тотчас же заполз ему в грудь, стал скрести там кошачьей лапой. Глаза застлались слезами, и пришлось пробираться на ощупь, вытянув руки. Стон шел откуда-то сверху. Архип поднялся на площадку, начал шарить понизу и вскоре нащупал лежавшее тело. Он легко поднял его, вынес из башни и передал кому-то из встречавших.
– Сеня Мума! – послышались голоса артельных. – Гляди-тко, повязан! Вот у бедолаги доля – опять ранами томиться!
У парня была разбита голова, он надышался дыма и был в беспамятстве. Когда обтерли рану и смочили голову, Сеня очнулся, осмотрел склонившиеся над ним лица и вдруг взволнованно замычал.
– Никак, сказать чавой-то хочет, – догадались артельные.
А Сеня продолжал мычать, показывая в сторону огня на воеводском подворье.
– Горит воевода. Да и пусть он сгорит со всеми потрохами! – сказал кто-то.
Сеня согласно закивал головой, а потом снова издал беспокойный мык.
– Ишь не унимается! За воеводу он бы мычать не стал. Никак, и вправду пойтить поглядеть. – С этими словами несколько артельных бросились к воеводскому подворью.
Они подбежали к пожарищу, когда баня занялась уже вовсю. Ее наружная дверь оказалась подпертой толстым бревном. Накинув на голову зипунишки, мужики отодвинули бревно и распахнули дверь. Из нее выклубился черный дым. Вбежали вовнутрь и сразу же наткнулись на тела своих товарищей. Вытащили их и стали приводить в память.
– Выходит, у нашего брата самая слабина в голове, – сказал кто-то, растирая снегом Данилкины виски. – В огне не горит, но память враз отшибает…
Первая паника горожан, вызванная пожаром и ужасом перед татарским набегом, прошла. Люди быстро разобрались по очагам и начали бесстрашно бороться с огнем. Воевода метался по крепости на храпящем коне. Он безостановочно ругался и подгонял своих немногочисленных воинов. Те бегали от стены к стене с вытаращенными глазами и широко открытыми ртами, все чаще падая в сугробы и жадно хватая горячими губами припорошенный сажей снег.
Незадолго до полуночи, когда они настолько выбились из сил, что уже не чувствовали ударов, воевода объявил о победе над басурманской ратью и приказал бить во все колокола. К этому времени огонь удалось потушить. Он, как оказалось впоследствии, не успел причинить крепости много зла. Пострадали в основном старые, полусгнившие постройки, а новые были только облизаны огнем. Из них больше всего досталось надворотной башне. Грязные, чумазые, в дымной одежде возвращались артельные с пожарища, чтобы проведать своих товарищей. Те уже вошли в память, но отчаянно, до синевы в лице, кашляли, выплевывая черные дымные сгустки и с трудом ворочали многопудными головами.
Сеня радостно бросился к Данилке и с неожиданной нежностью погладил его.
– Ну, мужики, счастье нынче на вашей стороне. Еще б чуток, и от ваших головушек одни головешки остались бы. Вот его благодарите. – Архип указал на немого. – Он хоть и сам чуть не сожегся, но об вас помнил.
– Спасибо тебе, брат! – растрогался Данилка. – Как же ты вызнал про то, что мы в бане жаримся?
Сеня начал было возбужденно говорить по-своему, но Данилка его остановил:
– Не части! Я ведь еще не все понимаю – в голове гудеж. Давай помедленнее.
Сеня показал на Данилку, на баню и затрепыхал двумя пальцами.
– Я пошел в баню, – перевел Данилка.
Потом Сеня показал, как увидел, что дверь бани заперта бревном. Он попытался откатить его, но получил внезапный удар по голове и упал.
– А кто ударил, не разглядел, случаем? спросили мужики.
Сеня сощурил глаза.
– Неужто Феофил?! – ахнул Данилка.
Сеня утвердительно кивнул.
– Вот ирод, душегубец, да мы его в острог сведем! – зашумели мужики.
– Погодите! – успокоил их Архип. – Дальше-то что?
Сеня показал, как его оттащили в башню, связали, а башню подожгли.
– Кто поджег?
Сеня опять сощурился.
– Снова Феофил? А еще кто?
Сеня пожал плечами.
– Нет, братцы, тута что-то не так, – сказал в раздумье Архип. – Ну, на Данилку за его кусачий язык наш монах зельно злой, потому мог душегубство замыслить, хотя и не верю я в такое. Но а башню и стенку нашу зачем ему жечь? Убогого спалить? Дак ведь мог просто в прорубь спустить – и вся недолга!
– Чаво тут головы трудить? Самого в прорубь, гада, за его нечисти! – снова шумнули мужики.
– Умерьтесь! – возвысил голос Архип. – Нешто мы кровопивцы? Самое последнее это дело – карать под горячую руку. Остынем, а утром сведем элодея к воеводе для суда – дело это не токмо нашенское. Только постеречь его надобно, чтоб не утек…
Князь Андрей подъезжал к Алексину тихим солнечным утром. Было морозно, но солнце явно поворотило на весну. Ехавший рядом дядька Прокоп сладко жмурился и ворчал:








