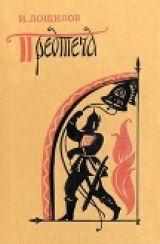
Текст книги "Предтеча (Повесть)"
Автор книги: Игорь Лощилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Не надо людей… Хоть на карачках, а сам вылезу…
Василий с трудом поднялся, постоял, опершись на плечо Матвея, и медленно заковылял к выходу. С каждым шагом он держался все увереннее, а верхние ступени одолел уже сам, оставив плечо своего спасителя. Вынырнув из подвального полумрака, он зажмурился от ударившего в глаза света, а попривыкнув и оглядевшись, велел стоявшему невдалеке дружиннику подвести коня.
– Ты что удумал? – попытался удержать его Матвей. – Расшибешься, потом собирать труднее будет!
Но Василий был непреклонен.
– Сам нашкодил, сам и исправить должен, – объяснил он. – Коли не достану злодеев, так и вертаться не след… У меня такая злоба на себя, что всю хворь разом вышибло…
Федька Лебедев, не жалея сил, погонял лошадь. Кнут беспрестанно свистел, оставляя пыльные полосы на ее крупе. Но лесная дорога – не для быстрой колесной езды. Возок скакал мячиком, трещал на ухабах и готов был вот-вот развалиться. С косогора скоморох Тимошка первым увидел настигавшее их облако пыли и предупредил:
– Вдогон за нами пустились!
Федька обернулся и понял: не уйти. Дорога шла по правому берегу Яузы. Еще немного, и она свернет на Владимирский большак. В иное время там можно легко затеряться, но сейчас большак малолюден. Нужно было что-то решать, и Федька придумал: он придержал возок у поворота, бросил вожжи Тимошке и спрыгнул в придорожную траву. Продираясь сквозь чащобу, отделявшую дорогу от Яузы, он услышал топот промчавшихся мимо коней и прикинул: «Четверток от часа осталось мне – пока догонят возок, пока узнают, что я убег, пока искать будут…» Он вытянул руки вперед и, прикрываясь от хлестких ветвей, поспешил к берегу реки.
Василий достиг дорожного поворота, когда приметил своих людей, возвращавшихся из догона.
– Упустили? – встревоженно выкрикнул он.
– Куды им деться? – успокоил его один из дружинников. – Малой-то пробовал было в кустовьях схорониться, ну дак у нас – не у Проньки, живо вытащили! Беда одна – купчишка-то по дороге высигнул и дал деру.
– В каком месте – вызнали?
– Здеся указали, на повороте. Сначала запирались– не приметили, дескать, но мы им память укрепили! – Дружинник потряс плетью.
Василий огляделся и задумался: «Отселя ему два пути. Один – прямо, к пристанищу. Тама лодок тьма, по воде уйти можно. Другой – к берегу. Переплывет на тот конец, а в Заяузье Схмолокуры-лешаки живут, народ шальной, кого хочешь схоронят. Будь на его месте, сам бы туда подался».
Он послал часть людей к пристанищу, а сам с остальными повернул к реке. По обрывистой, заваленной буреломом крутизне шлось не ходко, и деревья стегали, норовя попасть в раненую голову, но Василий упорно продвигался вперед. К нему постепенно возвращалась уверенность, а собственная вина уже не казалась слишком большой. «Я нюхом чуял, что злодей с купчишками послан, – думал он. – Кабы не остановили на полпути, давно б на Федьку вышел и все вызнал… А и чернец хорош! – вспомнил он Матвея. – „Ищи человека сухого да легкого“ – высчитал вёдро, а на деле – воды полные ведра».
Река открылась перед ним неожиданно, и так же сразу увидел он в ее водах красную шайку. Пловец уже пересек середину и быстро приближался к левому берегу.
– Уйдет, собака! – сказал ставший рядом дружинник и стал снимать лук. – Стрельнуть бы надо.
– Погоди, – остановил его Василий, – до смерти нельзя убивать, пусть к берегу пристанет, тогда и стрельнем… Дай-ка, я сам, – не выдержал он и взял лук.
Федька уже достиг мелководья, встал на дно, оглянулся и, видимо заметив погоню, тотчас же поспешил из воды. «Пора, а то и вправду уйдет», – сказал себе Василий, натянул лук и тщательно прицелился. Промашку допустить было нельзя, ибо времени для второго выстрела уже не оставалось. Он затаил дыхание, поймал наконечником стрелы правое бедро своей жертвы и тихонько спустил тетиву. Федька, ступивший в этот миг на осклизлую глиняную кромку берега, неожиданно поскользнулся и ткнулся вниз. Тут и настигла его стрела великокняжеского стремянного – она пронзила его со спины и пригвоздила к тому самому месту, на которое он только что ступал.
– Эх! – в досаде крякнул Василий и всплеснул руками. – Опять неудача вышла: убег от меня вор и, кажись, на этот раз вовсе далеко. Стрела верно шла, да кто ж знал, что он землю клевать почнет? Теперь одна надежа, – может, в портищах его что-нибудь найдем.
К счастью, неподалеку в прибрежных кустах сыскалась лодка, и Василий с дружинником без хлопот переправились на другой берег. Беглец и вправду оказался мертвым. Обыскали его с великим тщанием, но, кроме мешочка с деньгами, ничего не нашли. Василий, вспомнив трусоватого Митьку Черного и его купецкую грамотку, щупал и мял красную шапку беглеца. «Должно ведь при нем что-либо найтиться, не за-ради же денег вор убег и жизни лишился», – подумал он, вынул нож и начал вспарывать подклад.
– Господи, сделай так, чтобы Федькин тай здеся оказался! Помоги мне един раз, и во всю остатнюю жизнь уже не просить тя, а токмо славить буду, – прошептал Василий слова молитвы и в нетерпении рванул крепкую ткань.
Под подкладом белел шелковый, убористо исписанный лоскут. В подступивших сумерках на нем ничего нельзя было разобрать, но Василий сразу же почуял, что это не простая меняльная грамота: лоскут был впятеро больше того, что он видел у Митьки, а буквы вились такой затейливой вязью, читать которую впору самому великому князю, а не жиду-меняле. Он тщательно спрятал у себя находку и поспешил к загородному дому.
Доставленных к этому времени туда скоморохов свели в подвал для. допроса. Узнав о возвращении Василия, Матвей оставил пленников и выскочил ему навстречу. Он выслушал рассказ о гибели Федьки и не сдержал досады: с ним-де кончик всей цепочки похоронился! Василий ткнул в сторону подвала:
– А ворье это неужто ничего не говорит?
– Говорят, да, похоже, немного знают. Поводчик признался, что лихоимничал по здешним дорогам, а вчера утром на людей великого князя напал – это его зверь коней ихних взбесил. Яшку Селезнева он до сей поры не встречал, его накануне разбоя привел атаман Гришка Бобр. Этот же атаман приказал им сюда ехать и Яшку убить, чтоб он всю шайку не продал. А вот от Федьки Лебедева они все в один голос отказываются. Упросил он, говорят, Тимошку письмо лекарю передать и алтын сунул. Тимошка-то выбрал время, когда потеха творилась, и подметнул письмецо, а больше с ним никаких делов не водили. Если ж не врут, то не возьму я в толк, для чего Федьке убегать было?
– Я рассудил так: раз бежит, значит, что-то уносит, потому и стрельнул его, – сказал Василий и протянул найденный лоскут.
Матвей выхватил письмо и бросился в комнаты, к свету.
– «Царю царей, властелину четырех концов света, держащему небо и попирающему землю…» – Матвей недоуменно оглянулся на Василия и, снова склонившись над письмом, прочитал скороговоркой все остальное. – Ты понимаешь, что это такое? – воскликнул Матвей, окончив чтение. – Негодяи толстобрюхие, землей нашей русской торгуют, врагов заклятых на нее зовут! Слыхано ли такое злобство? Нужно это письмо немедля до великого князя довести! Сей же час езжай и людей в охрану возьми – цены нет этому письму! Ай-ай! Мы ведь до сей поры на мелюзгу сети ставили, а тут осетр попался. Да какой осетр – рыба-кит! Ну, Васька, молодец ты, будь я на месте великого князя, чин окольничего тебе не пожалел бы! Вези скорей письмо, поднимай Иван Васильича с постели, он не осердится…
В осеннюю пору рано стихает московская жизнь. Летом небо высокое да широкое – бежать, не обежать его красному солнышку, а осенью как бы сжимается небесная твердь и у подола круче становится. Взберется солнце к зениту и шибко, словно под горку, покатится, все убыстряя свой бег. Коснется края окружного леса, нырнет в его мохнатые дебри – и хлынут на город сумерки. Погонят людей в избы, затолкают на печки да лежанки: слава те господи, прожит день! Тишина, темь, только сторожа гремят колотушками да кое-где желтеет окошко тусклым светом лучины. Во всей Москве лишь двор великого князя огнями расцвечен, а как же – государское дело ни покоя, ни роздыха не дает, вертится, ровно водяное колесо: одна бадейка опростается, глядишь – уже другая подходит, полнехонькая. Вот и нынче прибыл гонец из Пскова от князя-наместника Василия Федоровича Шуйского. Пишет Шуйский, что прислал магистр Ливонский к псковичам своего человека с требованием, чтобы те потеснились в своих землях и водах – магистр, вишь ли, стол свой решил поближе к ним перенести. Услышало про это вече, пошумело и отдерзило: волен, дескать, князь в своей земле где угодно стол держать – в том мы ему даем дозволение, – но в землю святой троицы пусть не вступается, не то ноги поломает… Теперь опасаются, что магистр на них войной пойдет, и подмоги просят. По сему случаю кликнул великий князь своих ближних советников: большого московского наместника Ивана Юрьича Патрикеева, воеводу Даниила Дмитрича Холмского да казначея Владимира Григорьича Ховрина – и засиделся с ними допоздна: шутка ли, нежданно-негаданно размирье с немцами начинать.
В такую-то пору и прискакал Василий ко дворцу. Сунулся было к самому великому князю, но дьяки стеной встали: не велено никого пускать, и все тут. Покрутился Василий, делать нечего, и решил двинуть тогда к Хованскому.
Князь Хованский черен и носат, чисто ворон. Так и в народе его зовут – иные за вид, иные за службу: мучит, дескать, в своих подвалах людей, а по ночам глаза им выклевывает. Знал Василий, что все это враки, но каждый раз, когда входил к князю, незаметно осенял себя крестом. То же сделал и сейчас, а когда увидел в этот поздний час Хованского в расстегнутой рубахе, обнажавшей покрытую густым черным волосом грудь, успел мысленно прибавить: «Пречистый и животворящий крест, прогони беса, силою на тебе пропятого, господа нашего!» Пересказал ему все, что случилось в загородном доме, и письмо показал. Хованский схватил лоскут, близоруко склонился над ним, словно слова выклевывал, а прочтя, стал тут же надевать кафтан.
– Сам схожу к государю, – сказал он Василию, – а ты назад возвертайся и никого из дома не выпускай, пока туда не приеду.
Хованскому путь к великому князю всегда чист. Вошел он и стал сверлить государя круглыми глазками-буравчиками, пока тот не повернул голову – чего, дескать, надо?
– Важные вести с твоего загородного дома пришли, – вполголоса сказал Хованский.
– Ну! – недовольно бросил Иван Васильевич, не любивший, когда нарушался ход дела.
– Письмо к царю Ахмату наши люди перехватили, – еще более тихо сказал Хованский.
– От кого письмо?
– От московских бояр.
– Так читай! Что это я из тебя, словно клещами, слова тащу?! – осердился великий князь.
– Мелко прописано, не для моих глаз, – схитрил Хованский и бросил взгляд в сторону сидевших людей.
Иван Васильевич протянул руку, взял шелковый лоскут с письменами, повертел его и недоуменно посмотрел на Хованского. Тот вместо слов придвинул поближе свечи. В комнате повисла напряженная тишина. Присутствующие видели, как при чтении письма лицо великого князя покрывалось красными пятнами, сулившими скорую грозу. Окончив читать, Иван Васильевич откинулся и прикрыл глаза. Посидел немного, видимо справляясь с одолевшим его в первые мгновения гневом, и неожиданно тихо заговорил:
– Жалуются московские бояре на меня царю Ахмату. Многие вины за мной числят и просят царя ярлык на великое княжение у меня отнять в пользу другого князя. А буде добром не соглашусь, так чтоб обчей силой. Для того послан в Орду посол от Казимира – на войну с нами сговориться. Бояре же московские им снутри помогут…
– Да отколе же такие бояре взялись? – выкрикнул князь Холмский.
– Имена не указаны, – криво усмехнулся Иван Васильевич, – числом нас, пишут, до полуста, а писать нам свои имена неможно…
– Одного из полуста найти не задача, – продолжил Холмский. – Взять всех крамольников, поприжать, кто-либо да скиснет, а через него и остальных вызнаем.
– Это, сказывают, золотишко так моют, – пробасил Патрикеев, мужчина видный и весь из себя дородный такой. – Бадейку с землицей возьмут и вымывают, покеда золотишко на донышке не останется. Так ведь одно – землица пустая, а другое – люди именитые, как их всех поприжать? Обиду затаят и взаправдашними врагами станут. Да и навряд ли воров этих столько – пяток злоб-ников нашлось, а вдесятеро надулись…
– Речь не об том, – прервал его великий князь. – Как воров сыскать, про то Хованский лучше вашего ведает. Думать нужно перво-наперво, как от Ахмата защититься, ежели он и вправду с королем в сговор войдет. Они и в прошлом годе пытались такое же сделать, да дело расстроилось. Ныне же Казимир на нас за Новгород зельно злой. Коли сговорятся, то во многажды страшнее Ливонского ордена будут.
Задумались государевы советники… Князь Холмский, удачливый воевода и недавний шелонский победитель, был нынче у князя в большой чести, потому без опаски голос первым подал. «Князь-огонь» – как-то назвал его Иван Васильевич, а и вправду: румянец, как у девки, во все щеки полыхает, глаза искры шальные мечут. Поднялся он и заговорил жарко:
– Негоже нам псом домовым на привязке сидеть и Ахмата дожидаться – время не то! Упредить его надо и первыми вдарить. Татарин зимой не воюет – корма нет коням, а без коня он что за вояка? Значит, идтить на него зимой, этой же зимой, пока сговора с королем нету. Государь! Перешли нынче же по воде припасы и наряд ратный в Казань да Елец. А как станут реки, пустим по ним рати: одни – по Волге, другие – по Дону. Сождутся рати и по Сараю ихнему вдарят – щепки не оставят!
– Эк хватил, – зашевелил кустистыми бровями Патрикеев. С Холмским он не ладил, видя в нем растущего соперника, и потому всегда перечил. – Да разве татарина можно так воевать? Это ж тебе не немец, что за огородом сидит, ковбасу жует и с пушек палит. Они со свово Сараю сразу же в Дикое поле убегут, а тама с ними в догонялки не сыграешь. Вот и смекай, стоит ли из-за этого поганого Сарая людей за тридевять земель гнать? Нет, государь. Тонка еще кишка наша для Орды. Повиниться нужно перед царем, должки отдать сполна, поминки богатые справить да с кем-либо из сродственников твоих отослать. Поминки и честь – ему это только и надобно…
Тут уж Ховрин не выдержал, задрожал своими шишкастыми, словно ранний огурец, щеками:
– Долги, говоришь, сполна? Дак за два года выхода не давали, а это без малого пятнадцать тысяч рублев. Где их взять? Год нынче тяжкий: с мая по эту пору дождинки не выпало, хлеб погорел – чем торговать будем? Опять казне убыток, впору хоть черный бор[24]24
Черный бор – поголовный сбор дани.
[Закрыть] объявлять.
– Вы, денежники, завсегда жалитесь, – махнул рукой Патрикеев. – А сами все под себя, как куры, гребете. С одного Нова города сколько получили!..
– Негоже тебе, Юрьевич, государские деньги считать! – резко сказал Иван Васильевич. – Они не для Ахмата, но супротив него собираются.
Патрикеев обиженно поджал губы. В наступившей тишине раздался звонкий голос великокняжеского сына Ивана – не по годам высокого и крепкого подростка, которого отец сызмальства стал приучать к государским делам:
– А мне слова князя Данилы по душе. Победим Ахмата, и денег никаких платить не надо.
– Умен государь не на рати храбр, но крепок замыслом, – наставительно сказал Иван Васильевич. – Не выгодна нам война – времечко за нас. Ты, Ваня, молод, а вон Владимир Григорьевич стар, – кивнул он в сторону Ховрина. – Возьмитесь бороться – кто кого?
– Да ить это как выйдет, – засмущался Иван, оглядывая казначея.
– То-то и оно, как выйдет. Может, он тебя, может, ты его. А может, еще ссилишься и жилу надорвешь. Через пяток же лет он с тобой и бороться не станет, верно? Так и у нас с Ахматом… Сдержать его надо, и в этом Иван Юрьевич правый.
– Хм, сдержать и денег не дать! – буркнул Патрикеев. – Это только с дурным духом так можно, и то не всегда.
– Да нет, дать придется, – усмехнулся Иван Васильевич, – но ее все, а так, для позолоты обиды. На остальные же коней у татар откупить, пущай по весне табуны на Москву гонят – надо нам свою конную рать крепить. Подсчитаешь все до копейки, Владимир Григорьевич, и мне особо доложишь. А ты, Иван Юрьич, проследи, чтоб границу с Диким полем пуще берегли. Пошли к порубежным князьям, пусть людей своих поставят лес валить, завалы да засеки делать. С весны у Коломны и Каширы, куда поганые завсегда суются, рати постоянно держать. Дать разноряд, людей подобрать и снарядить. Это, князь Данила, твое будет дело. Сколь оружия нужно и наряда ратного, прикинь и тоже мне особо доложи – дадим заказ московским и новгородским оружейникам. А ты, князь, – повернулся он к Хованскому, – снарядишь отряд из служилых татар и по весне отправишь в Казань к хану Обреиму. Пусть сидят там и ждут, а ежели Ахмат двинет на нас, то чтоб шли торопом Сарай его грабить… С Псковом же – как решили. Подкинешь им, Иван Юрьич, пищалей, тюфяков и зелья пушечного – пусть сами пока охраняются. И отпиши им от моего имени, чтоб впредь не дерзили и немца попусту не задирали. Не хулить, а юлить, и не на вече своем базарить, а со мной ссылаться по всякому пустяку – пусть время тянут…
Великий князь усталым движением руки отпустил советчиков. После их ухода он долго сидел в глубокой задумчивости. «Землю, конешно, надо покрепить, чтоб было чем ворогов встретить. Но еще лучше – унию эту богопротивную расстроить. Тут хитрющая хитрость надобна, ибо сии пауки давно уже общие тенета супротив меня сплетают. Сейчас у Ахмата в почете те, кто за войну с Москвою стоят. Надо, чаю, к ним упорнее приглядеться. Ведь недаром в Книге мудростей говорится: „Если желаешь, чтоб отвергнули чей-то совет, не тверди о нелепости оного. Очернением давшего совет ты быстрее преуспеешь в желаемом“. Значит, нужно попытаться опорочить Ахматовых советчиков, хотя бы главного из них – царевича Муртазу. Но как? Ахмат не дурак, чтоб поверить первому же навету…»
Иван Васильевич прошел в опочивальню и сотворил вечернюю молитву. Произнося по привычке святые слова, он мыслями остался там, в Орде. Один на один со своим самым злобным недругом Ахматом, которого так никогда и не видел. Позже, ворочаясь на своем одиноком ложе, он снова и снова думал об ордынской угрозе. Мысль послушно бежала по выстроенным хитросплетениям, пока не натыкалась на глухую стену. Тогда он возвращал ее к исходу и рассуждал сызнова.
«Ахмат сел на золотоордынский трон семь лет назад заместо своего брата Махмуда, которого собственноручно зарезал на охоте. У Махмуда было шесть жен и множество сыновей. Трех жен Ахмат взял себе, остальных раздал другим братьям. Племянникам же сохранил жизнь, немало удивив этим своих сторонников. Ведь закон монгольской ясы гласит: „Раздавивший гюрзу должен всю жизнь опасаться укуса ее змеенышей“. Однако в действиях Ахмата было больше мудрости, чем могло показаться с первого взгляда. Он рассорил двух старших племянников: Латифа, объявленного ранее наследником трона, вынудил бежать из Орды, а Муртазу приблизил к себе. Те начали грызться друг с другом и позабыли о священной мести. А младшие не думали о троне, зане были живы их старшие братья.
Сначала Латиф отсиживался в Крыму, затем с падением тамошнего хана Нур-Давлета перебрался в Литву. Если и были у него когда-нибудь честолюбивые замыслы, то в Литве они исчезли полностью. „Пиры ладить да баб гладить“ – вот, говорят, и все его заботы. Зачем же тогда он Казимиру? Ну, как-никак царевич, бывший наследник великого ханства, мало ли что… Постой-ка! – Иван Васильевич даже привстал с ложа. – Выходит, Казимиру выгодно Ахмата в поход толкать: из-под приподнятой задницы легче трон золотоордынский выдернуть, чтоб гультяя Латифа на него усадить. И Муртазе есть резон в том, чтоб его ветвь на троне сызнова уселась. Значит, Латиф и Муртаза могли войти меж собой в сговор, чтоб подговорить Ахмата к походу на Москву и в его отсутствие завладеть троном…
Ладно придумано… Если и не поверит Ахмат, так призадумается – дело-то не пустячное. Только надо похитрее все представить. Может, скажем, Латиф своему брату письмо написать и про задумки общие поведать. И может такое письмо ненароком в руки Ахматовы попасть. Глядишь, и остережется Ахмат. Год пройдет в мире – уже хорошо…
Теперь с другого конца пойдем. Ныне Казимир увяз в угорских делах, дак и в следующем годе нужно королю Матиашу помочь – пусть не перестает Казимира щекотать. Одной щекотки, правда, маловато. Вот папа римский, этот посильней подмогнуть может. Знаю, чего он о моей женитьбе печется: думает, что я от турского султана боронить его буду. А и леший с ним – пусть думает. Но надо, мыслю, написать ему через Фрязина про то, как Казимир с неверным ханом сношается и воевать меня хочет. Разве такое можно, пропишу, чтоб христианские волостители свару затеяли, когда масульманцы гроб господний зорить восхотели? Пусть папа остережет Казимира, тогда и женюсь на его греческой царевне…»
И тут же явилось великому князю лицо Алены Морозовой, родное, доверчивое. Вспорхнули густые ресницы, открыв большие печальные глаза. «А как же я?» – будто вопрошали они. Иван Васильевич тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Не вольны государи в делах сердечных! – стал оправдываться он. – Последний тать счастливее меня, ибо под рубищем сердце свободное имеет. Оно ему суженую вещает, мне же – люди высчитывают». Однако видения не исчезали. Память воскрешала то плавный изгиб Алениных плеч, то мягкую теплоту ее ласкового тела. Он ощутил вдруг такую безысходную тоску, что готов был сорваться со своего ложа и безоглядно помчаться в темноту. Его остановил суровый взгляд Николы угодника, хмурившегося с кедрового киота и, как показалось, грозившего ему топким пальцем. «Отче Николае, – прошептал Иван Васильевич, – яви мне образ кротости и воздержания и даруй ми дух целомудрия, смиренномудрия и терпения». Но долго еще в эту ночь пытала его память, лишь под самое утро усталость оковала распаленный мозг.
На следующий день поднялся он, против обыкновения, поздно. Дневной свет разогнал бесовское наваждение, и даже иконный Никола подобрел ликом. От ночного бдения остались только две мысли: послать в Литовское княжество людей на поиски Латифа и быстрее спровадить папских послов, передав с ними жалобу на Казимира. Великий князь посетил церковь, выстоял там всю обедню, горячо молясь за успешное свершение своих задумок, а когда возвратился, доложили ему об Антонии, просящем приема по неотложному делу. Он велел позвать папского посла.
Антоний вбежал в приемную палату и быстро заговорил, размахивая руками. Толмач перевел:
– Просит-де Антоний выдать охранные грамоты для обратного проезда, а что, говорит, дело с царевной недоладилось, то пущай это один господь бог решает. Им же, папским слугам, здеся оставаться боле немочно.
– Что так? – поднял брови великий князь.
– Говорит, что неправые дела у тебя на Москве творятся, – объяснял переводчик. – Нынче поутру схватили фряжских людей – лекаря Просини да денежника Баттисту. Повели в застенок, стали бить-пытать и жизни лишать. Он тоже теперь быть убитому бойца.
– Добро, – ответил великий князь после недолгого раздумья, – дам тебе грамоты, но перед дорогой кнутом велю отстегать! – А когда Антоний что-то залопотал с возмущением, продолжил: – Да я тут ни при чем! Папу своего ругай, зачем он дураков таких в послы отряжает! Ежели тебя собака, к примеру, покусает, тоже на меня обидишься и отъедешь, дела не докончив?
Антоний помялся и заговорил уже с меньшим пылом.
– Говорит, что погорячился, и просит за то прощения, – перевел толмач. – Да ведь тоже не дело, говорит, чужеземцев забижать, они ему земляки, и должен он им помогать…
– С этого бы и начинал, – проворчал великий князь, – а то пугать вздумал своим отъездом. Куда как расстроились. Ладно, скажи ему, что самолично разберусь во всем. И пусть начинает в дорогу взаправду готовиться, а то, гляжу, у него от долгого сидения дурь стала выплескиваться…
Иван Васильевич вызвал Хованского и учинил ему жестокий разнос, зачем он людей фряжских без ведома в поруб бросил. Хованский открыл было рот для объяснения, но великий князь не стал слушать.
– Через твои убойные руки всем моим делам выходит поруха. Чужеземцы – глаза и уши своих государей, что те про нас скажут? Я велел сманывать к нам разных умельцев из фряжских и немецких земель, так ведь забоятся ехать сюда, услышав про твое злобство. Я и с папой римским дело лажу, чтоб он Казимира остерег. А захочет ли он помочь, прослышав, как у нас его земляков избивают? Прикажи выпустить немедля, а каков есть у них грех, я на себя возьму…
Хованский развел руками:
– Не могу исполнить твой приказ, государь. Понеже эти два фряжца черное дело замыслили и должны за него ответ держать.
– Да ты, никак, ослушаться меня вздумал?! – воскликнул Иван Васильевич. – Побереги голову, князь! Она не мне, но тебе еще может пригодиться. Немедленно выпусти фряжцев!
– Эх, государь! Ты из-за змеев треклятых слугу верного от себя гонишь, а того не ведаешь, что змеи в самое сердце тебя жалить восхотели – боярышню Морозову извести замыслили!
– Что? – вскочил с места великий князь.
Хованский зачастил:
– Как лекарь твой в загородном доме объявился, Фрязин ему письмо послал с приказом боярышню убить. Я сначала подумал, что не об ней приказ, а об злодее Селезневе, кто дружину твою побил. Но нынче встренул Лукомского, тот меня на верный путь и навел. Слышал он, как фряжские люди на тебя обижались: им скорей возвернуться к себе домой хочется, а ты свое дело с женитьбой на ихней царевне никак решить не можешь. И все потому-де, что у тебя на Москве своя зазноба имеется. И слышал Лукомский их слова, что кабы зазнобу ту сгубить, так и все дело бы скорей потекло. Узнавши про такое, я велел схватить злодеев, чтобы обо всех их кознях доподлинно вызнать, а ты меня и слухать не хочешь.
– Вызнал что-нибудь? – хрипло спросил князь.
– Молчат покуда, ну да ведь и не таким языки развязывали…
– А с Аленой что?
– С утра вроде живая была, – пожал плечами Хованский.
Великий князь мчался к загородному дому, и лишь одна мысль сверлила его: «Вот она расплата за мой грех! Но, боже, будь справедлив во гневе и воздай должное по делам каждого. Пощади голубицу безвинную и возложи карающую десницу на мои плечи!» С приближением к дому тревога все сильнее охватывала его. Смиренная мольба сменилась мыслями о мщении. «За каждый упавший волос ответят мне чужеземные злоумышленники. Не расплетать их дьявольские узлы, а разом обрубить путы – вот как надобно сделать. Бросившие искры сами сгорят в пламени…»
Неожиданный приезд великого князя вызвал переполох. Он не стал выспрашивать слуг, а, соскочив с коня, бросился в верхние покои. Проскочил мимо сенных девушек и отворил дверь. Алена, живая и невредимая, поднялась ему навстречу. Он оглядел высокую статную женщину в нарядном праздничном шушуне. Из-под венца, расшитого жемчужными поднизями, радостно блестели ее глаза.
– А я ровно чуяла, что ты приедешь, государь, оттого и принарядилась, – пропела она.
– Как ты? – выкрикнул Иван Васильевич, все еще не веря видимому благополучию.
– Бог миловал, государь. Вчерась-то страсти такие были: Евсея, ключника твово, досмерти убили, стремянного Василия поранили…
– Ну а ты как?
– Никак, – горько вздохнула она. – Я тебе-то не шибко нужна, не то что кому.
Иван Васильевич прижал ее к себе.
– Соскучал я, ладушка, так тревожно мне стало, – заговорил он, а сам все трогал руками, вроде бы не доверял своим глазам.
Стал расстегивать шушун и, не выдержав, рванул в стороны. Золотыми искрами посыпались застежки. Он отодвинул ее от себя и осмотрел – все было на месте.
– Ой, Ваня, – охнула Алена, – иконки-то хоть занавесь…
– Забыл ты меня навовсе, – говорила Алена, ласково перебирая его волосы. – Я все глазоньки повыплакала, тебя поджидаючи. Али уж так тебе заморская царевна глянулась? Али думаешь, медом она наскрозь промазана?
– Грешно тебе печаловаться, Аленушка, – отвечал он, – нет того дня, чтоб не воспомнил тебя. Иной раз в неурочную пору явишься ты, когда люди кругом и о важных государских делах разговор идет. Обдаст меня тогда жаром с головы до пят, и речи в мысли не идут. Затаюсь, чтоб себя не выдать, и сижу молчком. Хуже всего по ночам, когда один на один со своей памятью остаюсь, от которой ни спрятаться, ни убежать…
Как-то уж исстари повелось, что мужчины более говорят о любви, чем проявляют ее. Иван не лгал, когда рассказывал о своей тоске и частых мыслях, составлявших маленький, скрытый ото всех кусочек его бытия. Он очень дорожил им, поэтому упрек Алены вызвал досаду. «Кабы ведала ты, чего стоит мне заноза эта сердечная», – подумал он и неожиданно для себя заговорил о том, как три дня назад, ехавши сюда, чудом избежал разбойного нападения, о происках папских послов и своих опасениях за ее жизнь.
Алена глотала горькие слезы.
– Прости мне попреки, свет мой ясный. Не знала, не ведала, сколь горька для тебя моя любовь. Я всю жизнь без остаточка тебе положила, потому и хотела, чтобы ты не токмо светил, но и согревал меня чаще! – Она прильнула к нему и горячо зашептала жаркие слова.
Закипела Иванова кровь. «И что же это такое? – думал он, вдыхая знакомый ромашковый запах ее волос. – Где сокрыты те искры, от которых я, как высушенное смолье, полыхаю? Чай, не юноша – уже серебро в бороде мельтешит. Знать, накрепко вцепилась любовь и выпущать никак не хочет. Так почему я, волоститель большой земли, должен искать себе жену в тридевятой дали? Неужто не дано мне простого человечьего счастья?.. Отошлю-ка я восвояси злоумных чужеземцев да и женюсь на Алене. Она из первородных московских боярынь, допрежние государи часто на таких женились. Кто мне воспретить посмеет?»
– О чем ты задумался, Ваня? – спросила Алена, и он рассказал. – Нет-нет, – с неожиданной решительностью возразила она, – не надо попусту тешить себя! – И, встретив его недоуменный взгляд, заговорила: – Сам ведь сказал, что через римского папу остеречь Казимира хочешь. Рази сможешь сделать такое, коли царевну его отвергнешь? А владыка? А бояре? Для иных любовь наша – что бельмо на глазу!
Иван отмахнулся:
– Не больно-то гожа на папу надежа, владыка супротив не пойдет, ну а боярам я глаза прочищу. Не прочистятся, так вон вырву!
– Что ты, Ваня, страсти такие говоришь? Любовь – дело чистое, нельзя ее кровью пятнать.
– Ну-ну, – обнял ее Иван, – тебе только с голубями жить, а на моем пути разные гады ползают. Будет, как сказал!
Ему стало радостно и легко, как бывает у человека, который после долгих сомнений принимает твердое решение.
Вечером в одной из жарко натопленных горниц – великий князь любил тепло – шел разговор о событиях, происшедших в загородном доме. Были расспрошены Василий с Матвеем и приехавший князь Хованский. Иван Васильевич сидел, устало прикрыв глаза. Мысли бежали вразброд, и ладу в них никак не намечалось. Он чувствовал противостояние хитрого врага, который, подобно пауку, ткал замысловатые тенета. Кончики и обрывки нитей, за которые удалось зацепиться, должны были где-то сплетаться: ведь недаром в руках этого купчишки – как там его, Лебедев, что ли? – оказалось и письмо боярских крамольников, и письмо лекарю с убойным приказом. Но где он, этот узел? Будто бы назло те, которые могли прояснить дело, оказались мертвыми. «Нет, эти тенета просто не распутать, – подумал великий князь, – голову натрудишь, время потеряешь и о главном забудешь. А главное пока одно: вбить клин промеж Ахмата и Казимира».








