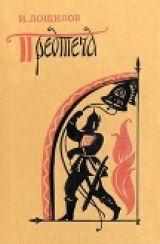
Текст книги "Предтеча (Повесть)"
Автор книги: Игорь Лощилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Война с Новгородом и неожиданная решительность действий Ивана III заставила Казимира почаще смотреть в сторону своего восточного соседа. Но все силы его были прикованы к югу, где шла отчаянная борьба за чешский престол между венгерским королем Матиашем Корвиным и сыном Казимира Владиславом. Между тем русского медведя необходимо было остеречь. В июле 1471 года в Большую Орду был послан пронырливый татарин Кирей Кривой, служивший прежде московскому князю, но изгнанный им за чрезмерное мздоимство. Кирей должен был склонить Ахмата к унии с Казимиром и подговорить его к совместному походу. В это же время в Москве объявился и Лукомский, посланный королем для разрешения споров, которые вели между собой русские и литовские порубежные князья. Однако главной его задачей было содействие затеянной унии. Впрочем, у папы римского, стоявшего за спиной короля, были свои дальние цели. Познакомил с ними Лукомского папский легат, на беседу к которому его пригласили перед самым отъездом в Москву.
«Святая римская церковь, – вкрадчиво говорил папский посланец, – пытается объединить всех христиан для борьбы с турками. И русским в этой борьбе должно принадлежать главное место. Папа устраивает брак московского государя с царевной Софией, надеясь, что та поможет склонить его на унию с нашей церковью, как то предусмотрено Флорентийским собором. Но признаюсь, мой друг, что надежда слишком слаба. Последние события показали, что в лице Ивана мы имеем перед собой хитрого, коварного и сильного врага. Поэтому делайте все, чтобы расшатывать его власть. У московского государя четыре взрослых брата. Вряд ли каждый из них не мечтает втайне о великокняжеском престоле. Найдите самого коварного из них, разожгите в нем честолюбивые замыслы, сделайте его знаменем всех недовольных, а их много в каждом государстве. Неумеренные честолюбцы, жадные мздоимцы, бесстыдные распутники, еретики, заблудшие – не гнушайтесь ничьей помощью: грех во славу божью – не грех. Не стесняйтесь в средствах и физическом устранении неугодных, включая и самого Ивана, но старайтесь не запятнать своих рук – святая церковь заинтересована в их чистоте. Народ – это стадо овец, а те не всегда понимают своего истинного предназначения – служить нам пищей и одеждой. Они сопротивляются и изливают свой гнев на пастырей, поэтому будьте крайне осторожны, мой друг».
В Москве у Лукомского сразу же появилось много знакомых. Одни хотели узнать о родственниках, живших в Литовском княжестве, другие спешили задобрить королевского посланца для своей пользы при решении порубежных обидных дел, третьи просто любопытствовали о жизни соседей. С их помощью Лукомский быстро разобрался в отношениях между членами великокняжеской семьи.
У Василия Темного было пять сыновей. Старшие – Иван и Юрий, с детства привлеченные отцом к государственным делам, рано вышли из-под опеки матери – великой княгини Марии Ярославны. Она же всю свою любовь перенесла на третьего сына – Андрея. Появление младших сыновей – Бориса и Андрея Меньшего не изменило привязанности матери, и немудрено: красивый, ловкий и статный юноша Андрей Большой вызывал общее восхищение. Все давалось ему легко, и младшие братья безоговорочно признавали его первенство. Иван – тот государь по закону, и чтить его нужно было, как отца, а Андрей – свой, близкий, присный, ему не только поклонялись, его любили.
О, Лукомскому был хорошо знаком этот род людей, щедро наделенных с рождения. Из них при счастливых обстоятельствах выходят великие мужи, а при несчастных, что случается чаще, – великие хульники и тлители. Их отвага превращается в наглость, гордость – в тщеславие, прямота – в грубость, ловкость – в изворотливость, острословие – в язвительность. Братья держали меж собой нелюбье, и Лукомский, узнавши об этом, решил влезть в доверие к Андрею Большому. Обстоятельства способствовали его намерениям: Иван Васильевич, уходя в новгородский поход, оставил стеречь Москву своего малолетнего сына и князя Андрея. Лукомский преподнес ему в дар рыцарское снаряжение, выполненное знаменитыми ганзейскими мастерами, и пожелал при этом быть неуязвимым от всех врагов. «От моих врагов немецкое железо бессильно», – ответил ему князь Андрей. Позже, за обедом, которым по традиции угощали посла, он уже в шутку продолжил: «Знатный твой дар, господин, только сам видишь, ни к чему он мне: в походы меня не берут, а московских баб стеречь лучше без железок». «В любви такие железки ни к чему, это верно, – подхватил Лукомский, – однако ты молод и походов на твой век хватит. Если, конечно, выдержишь нонешнюю осаду», – добавил он под общий смех.
Они стали часто встречаться на загородных прогулках. Там князь Андрей с интересом слушал рассказы Лукомского о последних событиях за рубежами Московского государства. В них неизменно присутствовали истории о борьбе за державный престол, причем Лукомский всегда был на стороне претендентов, обладающих сомнительными правами. Он восхищался отвагой герцога Бургундского, ведущего долголетнюю борьбу против тирании своего брата французского короля Людовика. «Герцога, чьи доблесть и воинское искусство позволили одержать недавно блистательную победу над королевскими войсками, называют теперь не иначе как Карл Смелый, и это имя, – подчеркивал Лукомский, – является сейчас самым модным в Европе». Он ставил в пример государственную мудрость Эдуарда, согнавшего весной этого года с английского престола своего слабоумного братца Генриха и приказавшего умертвить последнего. «Слабый государь на престоле – это несчастье для всего народа, и интересы всеобщего блага не дают ему права на жизнь». «Но как же закон и наследное право?» – слабо возражал князь Андрей. «А-а… – пренебрежительно махнул рукой Лукомский, – сила – вот лучшее право, так было всегда. Вспомни, как объяснил права на византийские земли нонешний султан Мехмед: „Оба берега Босфора принадлежат мне: тот, восточный, потому что на нем живут османы, а этот, западный, потому что греки не умеют его защищать“».
В перерывах между беседами с князем Андреем Лукомский охотно посещал московских бояр. Среди них было много недовольных строгой властью московского князя. Вскоре к местным недовольцам прибавились назначенные к высылке опальные новгородские бояре. Они не торопились в отведенные им места и под разными предлогами застревали в Москве. В пьяном застолье велись смелые разговоры, но в деле боярство всегда было трусовато. Этот вечер, когда ему наконец-то удалось составить письмо к золотоордынскому хану и подговорить Селезнева к нападению, был самым удачным за все время московской жизни. Когда стало известно, что великий князь сумел избежать ловушки, Лукомский почувствовал сначала только досаду – там неуспех, где дело наспех! Но когда заговорили о пленении предводителя разбойной ватаги, он не на шутку встревожился: ведь если Селезнев проговорится под пытками, то великий князь узнает, кто был истинным вдохновителем разбойного нападения. Конечно, можно надеяться, что ненависть Селезнева к Ивану не позволит выдать своих друзей, однако для меньшего опаса следовало бы запечатать его губы более надежным способом.
«Яшка-то зельно, видать, убитый, – рассуждал Лукомский, – иначе напрямки бы к пыточникам повезли. Подлечат его в загородном доме и отправят к Хованскому в подвалы, Оно, конечно, можно по дороге перехватить, дак и Иван не дурак – поостережется… Нет, ждать не след, надобно своих людей немедля в загородный дом посылать. Известно, подстреленная птица клюет больнее, ну, мы дак этому селезню и вовсе клювик оторвем!»
Он отдал необходимые распоряжения и засобирался к Лыке, чтобы закончить дело с жалобным боярским письмом.
А Лыко все еще отмокал и бродил по вчерашним спуткам, наконец понял: одному их не распутать. Послал за приказчиком Федькой и в ожидании его направился в трапезную палату. Большинство вчерашних гостей уже сидели на своих местах, будто и не вставали. Они встретили хозяина громкими и радостными криками.
– Тризну по великокняжеским людям справляем, – объяснил Кошкин, схватил со стола большую медную ендову и протянул Лыке: – На-ка, князь, потризнуй с нами. – Но, заметив недоумение на лице хозяина, добавил: – Аль не слыхал?
– Об энтом-от разве что глухие не слышали, да и таким-от на пальцах все разобъяснили! – нахально выкрикнул Полуектов.
Лыко сурово глянул на выскочку – после такого вскрика как признаешься в неведении? – и неопределенно мотнул головой.
– Хотел раб божий Иван… с господом богом встренуться, – затянул Дионисий, смотря на Лыку через лебединое крылышко, – ан не вышло… ибо сказал господь… ты разум мой отверже… аз же отрину тебя…
– А по-нашему, зря отринул, – икнул Кошкин, осушая свой кубок.
Хоть и невнятны были полупьяные речи, туман в голове Лыки стал постепенно рассеиваться. А когда прибыл вызванный приказчик да порассказал о разговорах в соседней корчме, Лыко и вовсе оправился. К приезду Лукомского он уже сиял, как новый грош. Судя по тому, как продолжалось застолье, гости не знали о причастности Селезнева к нападению на великокняжескую дружину, и Лукомский не стал им говорить об этом, лишь о вчерашнем письме напомнил. Пока Лыко хлопал глазами, выскочил к нему Федька и протянул шелковый лоскут:
– Все сделано, князь, по твоему слову: письмецо боярское на аксамите изложено.
Лыко удовлетворенно крякнул, взял лоскут и протянул Лукомскому:
– У меня дело не задерживается: коли сказано, то и сделано. Вот с ним, – указал он на Федьку, – и пошлем его по назначению.
Лукомский оценивающе поглядел на Федьку и сказал:
– Парень вроде бойкий, да хватит ли разумения? Сам, поди, знаешь, что цена сему письму не одна боярская голова.
Лыко потрепал приказчика по плечу.
– Чего-чего, а разумения у него с избытком! – И рассказал о Федькиной проделке с продажей соседского дома.
– Ловок, плут! – засмеялся Лукомский.
Но Дионисий неожиданно осудил:
– Человек он… разумный и ловкий… да ведь господа обманул… вместо службы ему… деньги на питие пущает… а это большой грех…
– Да ну? – удивился Лыко. – Я, сколь тебя знаю, все в этом грехе вижу. Если ж ты, божий слуга, свое добро на молитвы не изводишь, чего ж мирских за такое попрекать?
– Негоже хозяину такие речи гостю говорить! – обиделся потерявший свою важность Дионисий. – Мы пришли к тебе по-доброму, честь оказали, а ты?
Он посмотрел на Полуектова, ища у него одобрения своим словам, и тот согласно кивнул. Лыку этот кивок особенно возмутил.
– Это ты-то, трава придорожная, мне, князю, честь оказал? – Он тяжело задышал и рванул ворот рубахи – Ну-ка, убирайся с глав моих, покуда я голову тебе не открутил!
Полуектов мигом выскочил из-за стола. Дионисий тоже потянулся к двери.
– Спасибо за угощеньице-от, князь, – проговорил кланяясь Полуектов.
– Э-э… благодарствую… э-э… – начал было Дионисий.
– Иди уж, – махнул рукой Лыко, – за дверью доблеешь, а мне с князем договорить надо. Надоели, сил нет, – попытался оправдать он свою горячность, – цельных два дня, почитай, со стола не вылезают и пустое долдонят. Не поймут, что нашему делу посторонний глаз помеха… – Лыко огляделся по сторонам и наклонился в сторону своего приказчика: – Хочу я тебе, Федор, дело важное доверить – письмецо сие захватить и до самого царя Ахмата довести. Ва-ажное письмецо! Сполнишь дело – большим человеком сделаю, ну а предаться вздумаешь – жизни лишу и весь твой род под корень изведу! Понял?
– Чего ж не понять? Исполню как надо – мне жизня еще нужна, а честь не помешает.
Лыко протянул лоскут Федьке:
– Зашей в шапку, тут же зашей и не снимай ее даже в мыльне.
– Будь спокоен, князь, – сказал Федька, вспарывая подкладку, – мне не впервой письма таскать. Ныне даже Фрязин бумагу для лекаря доверил, только он пощедрей твоего оказался.
– Это для какого же лекаря? – вдруг насторожился Лукомский.
– Для великокняжеского. Он, сказывают, сейчас в евонном загородном доме разбойного главаря сшивает. Наша артель завтра туды по торговому делу заедет. Фрязин как услыхал про то, задрожал от радости, бумагу сунул и полную горсть серебра насыпал.
– Бумага при тебе? – протянул руку Лукомский.
– При мне. Да вить обещался доставить…
– Отдай! – Лыко стукнул кулаком по столу.
Федька выхватил из кармана свернутый уголком листок и передал Лукомскому. Тот повертел листок и сломал печать. Это было обычное деловое письмо с требованием срочной уплаты какого-то долга, и Лукомский хотел уже вернуть его Федьке. Как вдруг ему в голову пришла мысль, что случай дает счастливую возможность быстро и без особых хлопот устранить многознающего Селезнева – нужно было только намекнуть об этом Просини. «В жизни всяко выходит, – подумал Лукомский, приписав пару слов на письме итальянца, – враг лечит, а друг калечит». И сказал Федьке:
– Я тут свой привет лекарю приписал, доведешь до него, как обещался. Только не сам, а через кого-нибудь. Главное – письмо Ахмату береги, во все же другие дела не суйся. Вот, держи на дорогу! – И Лукомский сунул Федьке увесистый мешочек с деньгами.
Глава 3
ПОТЕХА
«…Веселые с мед, и с бубны, и с сурны, и со всякими бесовскими играми с иных городов торговые люди и веселые приезжают на тот великий день, а от того бесчиния великого и пьянства многие крестьянские души от пьянства и от убойства умирают…»
Из поповской челобитной
 В тот же день, когда учинился разбой, в загородный дом великого князя прибыл под крепкой сторожей крытый возок. Объявился фряжский лекарь, а с ним стремянный Василий да прохожий Матвей, что упредил о разбое. Челядь шепталась по углам: вроде бы побитого злодея привезли для лечебы, – по ничего путного вызнать не смогла, так с пустыми охами и пошла спать. Вместе с нею стихли и приезжие.
В тот же день, когда учинился разбой, в загородный дом великого князя прибыл под крепкой сторожей крытый возок. Объявился фряжский лекарь, а с ним стремянный Василий да прохожий Матвей, что упредил о разбое. Челядь шепталась по углам: вроде бы побитого злодея привезли для лечебы, – по ничего путного вызнать не смогла, так с пустыми охами и пошла спать. Вместе с нею стихли и приезжие.
Матвей прободрствовал почти всю ночь, но ничего опасного не выслушал. Рядом беззвучно спал стремянный великого князя, в соседних покоях по-иноземному высвистывал носом фряжский лекарь, на дворе время от времени протяжно перекликались часовые, под полом деловито пищали мыши – мирная ночная жизнь. Забылся Матвей лишь на склоне ночи, после вторых петухов, а вскоре мутные предутренние звуки просыпающегося дома вновь разбудили его. Замычали коровы на скотном дворе, заскрипел колодезный журавль, зашумели бабы в поварне, захлопали двери. Он полежал немного, не спеша оделся и вышел во двор.
Солнце уже встало. Его свет, разобранный подступившими елями в веселые и дружные снопы, яркими бликами сверкал на стеклах верхнего этажа, золотил гребешок недавно построенного вокруг дома частокола, ослепительно вспыхивал на бердышах часовых. Свежесть прозрачного осеннего утра разогнала последние остатки дремы, наполнила тело бодростью. Матвей пробежал через двор к сторожевой вышке, одним махом одолел ее свежеоструганные и все еще душистые ступени, остановился на верхней площадке и огляделся.
Вокруг разливалось широкое лесное море, в зеленую ткань которого вплеталось золото кленов, багрянец осин, нежная розовость бересклета. Над ложбинами, лугами и речными долинами висели белые клочья тумана. Рядом катилась Яуза, терпеливо ворочая водяные колеса мельниц, тянувшихся по реке до самого пристанища, а за ним разливалась широкая вода Москвы-реки, по которой уже бежали ранние лодчонки. Лесной покров, окутавший землю до самого окоема, изредка прорывался куполами церквей, островерхими звонницами и монастырскими постройками. Ближе всех казались стены Андронникова монастыря, опоясавшие холм на левом берегу Яузы. Там уже зазвонили к заутрене – ветер доносил слабые, по чистые звуки колоколов Спасского собора. Ниже по Яузе, у самого ее устья, виднелся небесный купол церкви Никиты Мученика. Дальше, за Москвой-рекой, хмурились чуть различимые башни монастыря Иоанна под бором, а все, что за ним, тонуло уже в синеватой дымке.
Правее Замоскворечья на высоком холме виднелся Московский кремль. Его башни, колокольни и терема, утопающие в зелени садов, казались издали ярким осенним букетом, перевязанным белой лентой. Воображение Матвея дополняло скрытую далью, но хорошо знакомую картину. Златоверхий набережный терем с его причудливыми башенками и переходами представлялся сказочным дворцом, вынырнувшим из речного омута и взобравшимся через зеленый подол на гребень холма. По краям, словно шлемы дальних сторожевых, высились купола церкви Иоанна Предтечи и Благовещенского собора. В среднем ряду взметнулись грозными палицами маковки Архангельского собора, церкви Иоанна Лествичника и Рождества богородицы. Еще ближе пронзали небо острые пики Москворецкой, Тимофеевской и Фроловской башен. И к этому могучему воинству из расступившихся окрест лесов бежали разделенные кривыми улочками боярские хоромы, избенки, церквушки, сбиваясь у стен в тугие кучи и распадаясь вдали от них на отдельные маленькие островки. Вся эта родная картина, заслоненная от солнца синей утренней дымкой, наполнила Матвея какой-то неизъяснимой радостью.
Спустившись с вышки, он озорно подмигнул пожилой скотнице, которая, осердясь, погрозила ему кулаком, ущипнул пробегавшую мимо упругую девку, отвесил смешной иноземный поклон суровому, не по-человечески заросшему ключнику.
– Чего кобелишься-то? – позевывая, спросил тот.
– Хочу испросить у тебя самого какого ни есть наилучшего заморского вина, – улыбнулся ему Матвей.
– Тебе мальвазии или бургундского? – колыхнулась борода.
– Лучше бы греческого.
– Твое вино на скотном дворе но желобку течет, там и проси, – отвернулся ключник.
– Да я же не себе, – схватил его Матвей. – Мне государского лекаря Синего-Пресинего угостить надобно.
– А по мне хоть и вовсе зеленого угощай, только от меня отстань.
Матвей согнал с лица улыбку и неожиданно грозно проговорил:
– И бросят тебя во тьму внешнюю, и будет там плач великий и скрежет зубовный, ибо алкал я, и ты не дал мне есть, жаждал, а ты не напоил меня…
– Постой, – повернулся к нему ключник, видимо убоявшийся такой кары, – платить-то чем будешь? – Он внимательно оглядел Матвея и задержал свой взгляд на его узорчатом, шитом золотом пояске.
Матвей возвращался к себе, прижимая к груди большой кувшин и придерживая им расходившиеся полы своей ветхой полурясы. Василий, хмурый спросонья, встретил его хриплым упреком:
– Шляешься невесть где и всю ночь как мошкарь-толкун мельтешил.
Они так и не подружились. Василий никак не мог привыкнуть к мысли, что чернец, бродяга, которого он еще вчера мог безнаказанно выпороть, стал его неожиданным товарищем. Стремянный великого князя – должность немалая, и сам он непростого рода-племени – сын удельного князя Верейского, который пусть не в близком, но все же в родстве с самим великим князем: приходится тому троюродным дядей. При такой-то чести какая радость службу с безвестником нести, который своей отчины-дедины не ведает? Все одно что петуху с соколом в небесах летать. Как ни хлопать крыльями, выйдет петушку только за курами бегать да червей из земли выклевывать.
Он презрительно посмотрел на Матвея, пытающегося приспособить под кушак обрывок старой веревки, и съязвил:
– А поясок-то свой, никак, в нужнике обронил?
Но Матвей насмешки не принял.
– На вино выменял, – спокойно ответил он, – пусть лекарь государский позабавится и любопытство свое умерит, а то сует нос во все углы и про разные дела пытает.
– И не жалко пояска-то?
– А чего жалеть? Мне его наш настоятель в дорогу дал. Коли встретит тебя, сказал он мне, дурной человек и пограбить восхочет, то, ничего не найдя, может жизни с досады лишить. Ну а коли поясок увидит, возрадуется и отпустит тебя на все четыре стороны.
– Выходит, не встретился тебе дурной человек?
– Выходит, так. Они теперь из лесов все по городам разбежались.
Василий нахмурил брови – как это понимать? Вроде насмешничает над ним чернец. Но Матвей дружелюбно сказал:
– Очисти горло да лицо разъясни – утро вон как лучится, а я пока нашего дружка спроведаю.
Сладкое, душистое вино не успокоило Василия. «Этот народец – дерьмовый, – думал он, глядя вслед ушедшему Матвею. – За душой ничего нет, а все одно прыть свою показать тщится. Напредложит всякого, чтоб дельным казаться. На поверку же – одна пустота выходит. Иван Васильевич, правду сказать, приучил к тому: кто ему речь говорит, всех слушает. Буде сойдется – в дело ставит, не сойдется – пускает мимо ушей, но не наказывает болтуна и суда ему не дает. А надо бы отваживать пустое говорить…»
Его мысли были прерваны неожиданным появлением синьора Просини, чей вид никого в Москве не оставлял равнодушным. К узкой желтой куртке, с трудом вмещавшей дородную плоть лекаря, были привязаны шнурками два зеленых рукава, через боковые разрезы которых проглядывала красная рубашка. Толстое чрево Просини окружал широкий пояс с привязными карманами. Доходившая до бедер куртка кончалась короткими изжеванными штанами, а из них торчали кривые ноги, одетые в черные чулки и казавшиеся особенно тощими по сравнению с бочковидным туловищем.
– Чисто петух! – ахнул Василий, вставая навстречу гостю, и, пока тот что-то оживленно говорил, размахивая руками, вспомнил, как в первые дни своего московского житья Просини, пытаясь исправить форму ног, подшивал паклю к изнанке своих чулок.
Поведал об этом изумленным москвичам толмач Пишка, первоначально приставленный к лекарю для изъяснения и обучения русскому языку. Просини оказался способным учеником, но своей чрезмерной пытливостью настолько измучил Пишку, что тот в отместку учил его словам, совсем ненужным в лекарском деле. Месть открылась, и Пишка был отставлен, а Просини до сей еще поры путал слова и заставлял нередко краснеть привычных ко многому московских боярынь.
– Ты, господин синьор, передохни маленько, – вклинился Василий в речь лекаря, – и объясни толком, чего хочешь. Быстро больно говоришь, не уразумел я.
– Я ехал Московию исправлять здоровье грандуче[11]11
Granduca (итал.) – великий князь.
[Закрыть]московский Иван Васильевич. Вчера я лечил какой-то… веччо бронталоне, как это по-русски… а, старый хрыч! Теперь послан сюда лечить опасный вор, завтра, может, пошел лечить… карпо?
– Кого? – не понял Василий.
– Карпо, иль карпо. – Просини сделал пальцами рога и заблеял.
– Козу, что ли?
– Нет, муж коза.
– Козла, значит?
– Да-да, козел! Я послан сюда лечить опасный вор, а мне его не дают. Как я могу лечить без глаза? Я сейчас вставал и пошел на… корте… на двор, а меня не пускали. Здесь что… пригьоне?
– Чего?
– Ла пригьоне? – Просини изобразил пальцами решетку.
– Тюрьма, – догадался Василий. – Нет, здесь не тюрьма, это двор великого князя.
– Если не тюрьма, то пускайте меня. Или возверните меня грандуку. – Просини сложил молитвенно руки и просительно заглянул в лицо Василию: – Ла прего[12]12
La prego (итал.) – прошу вас.
[Закрыть], язви тя в корень! У грандуче мой друг Антоний, он едет домой Венецья. Я поеду с ним. Я не хочу лечить козел, я не хочу сидеть тюрьма! Уразумел?
– Не совсем еще, – протянул Василий. – Ты скажи-ка мне, господин синьор, сколько денег тебе великий князь платит?
– Три рубля за месяц.
– А мне и полтины не выходит. Потому б я за твои деньги не токмо козла, гадюку бы ядовитую лечил. И другое возьми в рассуждение: тебе платят, значит, на службе состоишь. Куды надо – посылают, кого надо – лечишь. Так что обиды твоей в этом деле нет, не туды загибаешь…
– Туды твою растуды, – уточнил Просини.
– Тем паче! – сдержал улыбку Василий. – Сполняй свою службу смирно и не выкобенивайся. Теперь уразумел?
– Не понял. Что есть вы-ко-бе-ни-вай-ся?
– Ну это как тебе сказать?! – Василий покрутил растопыренными пальцами и передернул в недоумении плечами. – Словом, не трепыхайся…
– А сейчас понял! – оживился Просини. – Ты хотел сказать… нон джэларе… не мьёрзни! Так? Русский язык такой трудный, имеет такой длинный слова, по красивый слова! Не вы-ко-бе-ни-вай-ся, – протянул он с видимым удовольствием. – О, я уже знаю много красивый слова: лас-ко-сер-ди-е[13]13
Ласкосердие – чревоугодие.
[Закрыть], о-халь-ник, со-ро-ко-уст[14]14
Сорокоуст – заупокойная служба,
[Закрыть]…
Василий затосковал, поняв, что быстро отделаться от лекаря ему не удастся. Избавление пришло внезапно: увидев входившего Матвея, он ткнул в него пальцем и оборвал Просини:
– Вот ему все расскажешь, что хотел, а мне недосуг: надо службу справлять!
– Давай поговорим, синьор лекарь, – сразу же отозвался Матвей. – У меня для тебя и гостинец припасен, – похлопал он по кувшину к явному неудовольствию Василия.
Третий час сидел Матвей с лекарем. За вином и разговорами время шло быстро. Сначала говорили о болезнях и лекарском деле. Просипи, подняв указательный палец и глядя поверх Матвея, важно поучал:
– Допрежде считали, что всякий болезнь происходит оттого, что в теле нарушился смесь… ликвидо… э… как это? Буль-буль-буль?
– Жидкости…
– Да, жидкости… Теперь считают, что всякий болезнь происходит от нарушения ход… элементо…
– Частиц…
– Правильно, так. Когда этот частиц выходит из тела, его надо убирать, так? Потому медичина стал очень страшный. Его главный струменто, – Просини похлопал по своим карманам, – ножик, иголка, огонь… Где болит – резай, где растет – коли, что нарвет – пали…
– По-твоему выходит, что лечить болезнь можно только снаружи? А если изнутри болит?
– О, тогда молись. Изнутри один бог знает, что делать.
– Как же так? – возражал Матвей. – У нас на Руси испокон веков и грызь, и ломоту, и сухотку лечат.
– Как лечат?
– Травами разными. У нас всяк травознай ведает, что боярышник, к примеру, и ландыш сердцу помогают, мать-и-мачеха – легким, крушина и ольховые шишки – желудку…
– Травами не лечат, а колдуют! – перебил Просини. – У нас тоже травы знают. Еще Альбертус Магнус[15]15
Альберт Великий – монах-доминиканец – философ, богослов, врач.
[Закрыть]писал: сорви лилию, смешай с соком лавра, подложи под навоз, получишь червяк, посуши, сделай… м-м-м… полвэрэ… порошок и положи кому-то в одежда – тот человек никогда не заснет. Или настоять корень мандрагора и выпить – не станешь видным… Или положи в цветок роза горчица и повесь на дерево рядом с нога мышка – дерево не даст плод…
– Сказок много разных, – заспорил Матвей. – А травы – верное зелье и помощь большую дают, коли их правильно применять. Про ту же мандрагору пишут, что она боль утоляет и при болезнях почек помогает… «Ты бы лучше про это ведал, а не пустое молол», – добавил он про себя.
– Всякий трава – колдовский зелье, – не сдавался Просипи. – Мы у себя воюем с ла стрэго… ведьма. Мы их горим на костер, у вас их тоже много…
«И надо же, чтоб такое невежество было привезено сюда из дальней стороны, чтобы лечить самого великого князя! – думал Матвей, распаляясь неожиданной злобой. – Еще и деньги небось немалые за свою лечебу берет. А какой из него лекарь? Жги, режь, коли – мясник, да и только! Ишь за ворот закладывает и не хмелеет! Право, мясник. Глядит на меня и не видит – важный очень. Сидел бы я тут с тобой, индюком этаким, кабы не нужда! В отхожем месте и то рядом не сел бы, тьфу!»
Вдоволь наругавшись, Матвей тяжело вздохнул, налил полные кружки и, изобразив на лице улыбку, примирительно заговорил:
– Бог с ними, с ведьмами да с травами. Выпьем лучше за то, чтоб тебе в пашей стране хорошо жилось, чтоб здоровье нашего государя хорошо берег и себя не забывал, понял?
– Понял, понял, – растрогался Просини. – Ты добрый человек, Матвеек.
– Ну будь здоров!
– Пошел к едрене фене! – живо откликнулся Просини.
– Чего же ты ругаешься?
– Зачем – ругаешься? Мне так Пшика учил отвечать. Си стья бене![16]16
Si stia bene! (итал.) – Будь здоров!
[Закрыть] Пошел к едрене фене! – Он осушил залпом кружку, икнул и продолжал: – О, русский– хороший народ. У вас богатый страна, много мех, хлеб, мясо. Только в ваш страна мясо продают не на вес, а на глаза. У вас красивый женщина и крепкий мужчина. Вы добрые, только немного грубые и еще – у вас очень крепкий вино. Да-да!.. У нас пьют не меньше, но слабый вино, такой, как этот. Его много пьешь – пуз знать дает, – он похлопал себя по животу, – а голова ясный. Ваш мед пьешь, пуз знать не дает. Потом сразу ударяет по голова – бам-бам! – и сделался совсем дурак… А теперь я хочу пить твой здоровье!
– Не хватит ли, синьор трезвенник? – съехидничал Матвей.
– Нет, тебе хватит – у тебя пуз маленький. А у меня пуз большой, он мне еще ничего не говорит. Будь здоров, Матвеёк!
– Пошел к едрене фене! – с удовольствием отозвался Матвей.
Так сидели они, беседуя, когда во дворе послышались громкие звуки рога, вскрики и удары бубна. Подойдя к окну, Матвей увидел, что в распахнутые ворота вползает небольшой обоз. Впереди него шло несколько скоморохов: гудочник, гусельник, плясец и доводчик с медведем. Обитатели великокняжеского двора спешили навстречу, выкрикивая радостные приветствия, только местный священник истово плевался и, растопырив руки, пытался безуспешно задержать свою паству. Скоморошьи игрища были здесь, видно, не редкостью, потому что толпа привычно повалила в центр двора и стала образовывать полукруг. Туда же подъехал и возок скоморохов.
При первых звуках музыки Просини оживился, что-то быстро залопотал, попытался запеть. С пением не вышло, он подскочил к Матвею, оттолкнул его, начал открывать окно. Наконец после суматошной борьбы с запором оно отворилось, и в комнату ворвался свежий ветер с разноголосым шумом затеваемой потехи.
– Ого-го!.. – замахал руками Просини. – Веселиться будем тут, на том свете не дадут!
«Вот и тебе, знать, дурь в голову ударила, – подумал Матвей. – Пора усугублять!»
Он наполнил кружку вином и протянул Просини. Тот выпил, утерся и посмотрел на Матвея:
– А ты что же?
Матвей покачал головой, запахнулся – ему стало зябко. Просини застыл, что-то вспоминая, потом вдруг опять засуетился, расстегнул куртку, снял ее и протянул Матвею:
– Не вы-ко-бе-ни-вай-ся, Матвеек! – отчетливо проговорил он. – Возьми мой куртка и грейся.
За утро Матвей уже успел попривыкнуть к странностям речи своего собеседника. Удивили его не слова, а забота великокняжеского лекаря. «Может, ты вовсе и неплохой человек, – подумал он, кутаясь в куртку и ощущая ее непривычный запах, – но упоить я тебя должен сейчас обязательно! Чтоб не путался под ногами и дела нашего не портил. Так что не обессудь…»
Он снова налил вина и сказал:
– Во Фрязии искусный и добрый народ. Выпьем за твою родину, синьор!
Глаза Просини увлажнились, он всхлипнул и стал что-то тихонько бормотать. Матвей встал и подошел к окну. Во дворе уже все было готово к началу представления – замолкли гудочники, стихли зрители. Дюжий поводчик, взобравшись на камень, объявил, что показ будет про то, как новгородцев от латынянства отвратили.
– Пришедши латинский бискуп на новгородскую землю! – крикнул он.
И, откуда ни возьмись, явилась ряженая коза. «Бискуп» стал громко мекать, что должно было означать латинскую проповедь.
– А ины новгородцы слушать его богопротивные речи стали, – продолжал поводчик.
Стоявший до этого спокойно медведь поднялся на задние лапы, начал прислушиваться и вдруг заворчал – сначала тихо, утробно, потом перешел на рев. Вскоре они с козой ревели во все свои глотки, а толпа стала хохотать. И чем дольше они ревели, тем громче хохотали зрители.








