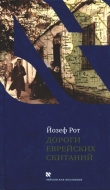Текст книги "Рассказы израильских писателей"
Автор книги: Иехуда Бурла
Соавторы: Яков Хургин,К. Цетник,Иехошуа Бар-Иосеф,Беньямин Тамуз,Йицхак Ави-Давид,Йицхак Орпаз,Иехуда Яари,Мириам Бернштейн-Кохен,Иехудит Хендель,Аарон Апельфельд
Жанр:
Народные сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Даям отвел глаза. Они смыкались от усталости.
Когда он вернулся в свой поселок, уже стемнело. Все ставни были закрыты. Он зашагал по тропинке и осторожно прикрыл за собой калитку, будто боялся кого-то потревожить. Во дворе напротив сердито залаяла собака.
Даям вошел в дом. Дебора сидела на кухне и дремала. Голова ее покоилась на плече, и, как все последние дни, казалось, что она бодрствует во сне. На погашенной керосинке стоял суп, над ним еще клубился пар.
Даям вошел в детскую. Здесь уже был Миха. Он крепко спал, прикрытый белым одеялом. В темноте его личико светилось. На нем лежала печать усталости. Отец нагнулся над сыном и прижал свою голову к холодной спинке кроватки. Внезапно в ставни ударил ветер, с шумом сомкнув обе створки. Ребенок испуганно повернул головку. Даям выпрямился, поправил соскользнувшее одеяло, хранившее тепло детского тельца, и на минутку прикрыл им свои озябшие руки.
Я. Хургин
Самир
Пер. с иврита Л. Вильскер-Шумский

Самир появился на свет на пустыре, лежащем между двумя цитрусовыми садами. Пустырь своей формой напоминал треугольник, две стороны которого окаймляли кипарисы со срезанными верхушками, а основанием служила асфальтовая дорога. Летом на пустыре разрастались колючки и терновник. К концу лета они превращались в густую чащу, похожую на исполинскую паутину, которая на каждое дуновение ветра отзывалась раздраженным шелестом. В дождливую пору здесь сваливали испорченные апельсины. Кучи сгнивших фруктов издавали едкий, кислый запах и бросали на черный асфальт дороги оранжевые блики.
Однажды утром на этом пустыре появились четыре жалких шалаша. Все они были сделаны из разноцветных тряпок, грязных мешков и ржавой жести, подобранной на разных свалках. Два серых осла, исхудавших настолько, что кости торчали у них со всех сторон, стояли недвижимо, привязанные к кипарисам. Большая собака с подрезанными ушами время от времени лениво лаяла. Женщины разжигали костер. Босые, долговязые мужчины заканчивали сооружение шалашей.
Кто же были эти случайные жители пустыря? Если судить по их одежде и нравам, это были не бедуины и не цыгане. Возможно, они принадлежали к какому-нибудь забытому клану или неизвестной доныне народности, явившейся сюда из глубин Аравийской пустыни. Женщины были все украшены тяжелыми ожерельями из каких-то древних монет и полумесяцев, сквозь ноздри у них были продеты большие кольца, как это часто делают у животных. Глаза мужчин были подведены сурьмой, а длинные волосы, смазанные липким, пахучим скипидаром, спускались вниз черными косами.
Люди эти жили по определенно установленному порядку. Их шалаши пустовали почти весь день. Мужчины работали, как правило, на поденной работе у владельцев цитрусовых садов. Кое-кто, правда, промышлял и другими неугодными государству занятиями. Женщины с большими мешками на спине расхаживали по ближним мошавам, где жили евреи. Они рылись там в мусорных ящиках. Кроме того, они с большой ловкостью превращали в свою собственность все, что плохо лежало.
Как-то одна женщина из этого лагеря вернулась из своей очередной прогулки позже обычного. В мешке, который висел у нее за спиной, что-то надрывно пищало. Ноги ее были испачканы кровью. Она родила прямо в поле по дороге домой. Только один-единственный крик вырвался у нее из груди. Зубами она перекусила пуповину, слюной смыла с новорожденного кровь, оторванным от платья куском крепко запеленала ребенка и бросила его в мешок, как бросала туда все, что находила в мусорных ящиках. Отдохнув немного, она поднялась и поплелась домой, оставив в пыли оттиск своего тела и кровавый послед. Непрекращающийся писк за спиной сопровождал ее всю дорогу.
Новорожденный был мальчик – да будет благословен всемилостивейший аллах. Две финиковые ветки, поставленные возле косяков у входа в одну из палаток, извещали всех, что именно в этой палатке ее обитатели удостоились величайшей милости аллаха.
Новорожденный был похож на кусок мяса с небольшой черной гривой, из-под которой пара черных глаз блестела диким огоньком, как глаза лесного зверька. Это и был Самир. С первой минуты своего появления на свет его сопровождало неутолимое чувство голода. Груди матери были вечно пустыми. Когда он их сосал, они сворачивались в складки, падая на его лицо словно порожние меха. И почти всегда он плакал, плакал, когда не спал и когда спал, когда лежал на сооруженной из веток постели у входа в шалаш и когда его носили в мешке за спиной. Бывало, мать для его успокоения плевала на палец и совала палец ему в рот. На какое-то мгновение плач утихал. Самир по-звериному втягивал в рот палец, а потом кричал еще сильнее.
Одни мухи доставляли Самиру удовольствие. На пустыре мухи плодились мириадами. Никто их не уничтожал, и ничто им не мешало. Они носились сплошным роем и без помех облепляли спины и морды ослов. Но ни одно ухо не шевелилось, ни один хвост не двигался. Прогонять их было бесполезно. И собака это тоже поняла и спокойно дремала, лишь изредка издавая ленивый и недовольный лай. Мужчины, женщины, дети – все, занимаясь каким-нибудь делом или беседуя друг с другом, никакого внимания не обращали на мух, пусть себе хоть в рот лезут.
Самир ловил мух, чтобы их есть; он ловил их сознательно, в силу голода, который один управлял его слабеньким тельцем. Обычно он лежал на тряпках у входа в палатку. Его рот был широко раскрыт, напоминая мухоловку. Так раскрывают свои ловушки некоторые растения, которые питаются насекомыми. Черные глаза Самира внимательно следили за мушиными полетами, и каждая клетка его тела, каждое его движение интуитивно стремились поймать зазевавшееся насекомое. Его рот автоматически закрывался, как только туда попадала муха. И тогда его лицо морщилось от удовольствия.
Спустя несколько месяцев палатки исчезли с пустыря так же внезапно, как и появились. Осталось лишь грязное тряпье, переплетение следов да кучи почерневшего человеческого кала. Палатки появлялись время от времени в разных уголках страны, то в горах, то в долинах. Они появлялись внезапно, внезапно и исчезали, с определенной последовательностью, тихо и таинственно, словно тени. Это было как мираж, как эхо далеких, давно минувших дней, что всплывают иногда лишь в памяти времен.
С каждой новой остановкой Самир рос. Его худощавая, вечно голая фигурка вытянулась. Лишь впереди, словно приклеенный, пучился большой живот, из которого безобразно торчал огромный отросток пуповины, который так и не был в свое время удален. Лохматые волосы, темный блеск глаз, вечно угрюмая и тупая серьезность лица, которому были чужды смех и улыбка, обыкновение мчаться с ловкостью мыши на своих тоненьких, как щепки, ногах – все это придавало Самиру облик зверька. Во время переездов он сидел вместе с другими детьми на одном из ослов. Когда мать пускалась в очередные поиски, она носила его за спиной в кармане мешка, заменявшего Самиру люльку.
По мере того как Самир рос, росло у него и чувство голода. И он всегда плакал, даже не плакал, а выл. Выл во сне и наяву, на спине осла и у матери за спиною. Выл он как-то особенно, так воют кошки или шакалы. И к вою его все привыкли, как привыкли к мириадам мух, осаждавших лагерь. Кстати, теперь Самир научился ловить их руками. Когда мать рылась в мусорных ящиках, Самир был тут же. Его голое тельце буквально тонуло в разноцветной смеси кухонных отбросов, которые вызывали отвращение. Но Самир чувствовал себя здесь превосходно, опьяненный зловонием. Только голод его мучил еще больше. Он глотал все, что можно было жевать, и наконец сделался опытным хищником. В выборе жертв он не проявлял щепетильности. Все, что двигалось, шло в пищу: жуки, ящерицы, лягушки… Нет, Самир не брезговал ничем.
Самиру исполнилось семь лет. В последние два года он стал привлекать внимание родителей. Они стали замечать в нем признаки самостоятельности. Теперь, сопровождая свою мать во время ее странствий, он держался за ее юбку сзади и ловко маневрировал, не путаясь в ее ногах. Когда они бывали в городе, Самиру предоставлялась полная свобода. Пока мать была занята своими поисками, Самир прогуливался по улицам и собирал все, что попадалось под руку. Свои находки он прятал в маленькую, сделанную для него матерью сумку, которая закреплялась на голове и спускалась на плечи. В этой сумке находили приют различные предметы, хозяева коих неосторожно оставили их на окнах или во дворе. Сумка всегда была переполнена всяким добром, за исключением съестных припасов. Последние Самир уничтожал тут же, как только находил.
Однажды отец надел на него мешок, которому была придана форма абы, дал ему палку и посадил на осла. Мать накрасила его ресницы, из-за чего глаза Самира казались еще более жгучими, смазала скипидаром волосы и заплела их в косы. Затем повесила ему на шею ожерелье для красоты и от злого глаза. Это была грязная нитка, на которой болтались синие стекляшки. С этого дня Самир стал мужчиной, он «вышел в люди». В тот же день родители вывели его в большой мир.
Осел пересекал заброшенные горные дорожки. На осле сидели отец и Самир во всей своей мужской красоте. Так они добрались до отдаленной деревни. Тут отец слез с осла и исчез в ближайшем дворе. Спустя некоторое время пригласили Самира. И вот ему стало известно, что его отдали внаймы в помощники пастуха. Мизерную плату наличными взял отец. А Самиру было обещано получать за свой труд хлеб и крышу над головой.
Отец исчез – уехал на том же осле после того, как в качестве прощального дара наградил сына легким шлепком по спине. А Самир остался. Ему выделили место в темном сарае, который служил также курятником и стойлом для осла.
Наступили дождливые дни. Мешок, который до сих пор висел у Самира на спине, теперь был накинут на голову. Из-под мешка виднелись тонкие, как щепки, вернее, как обугленные головешки, ноги.
Каждое утро Самир выходил вместе с пастухом. За деревней пастух часто скрывался в ближайшей пещере, где наслаждался предобеденным сном, и тогда вся ответственность за скот возлагалась на Самира, маленькую живую точку, сопровождавшую стадо.
На обед Самир получал всегда три лепешки. Он прятал свой обед на груди и с этой минуты центром его жизни становилось данное сокровище. К нему было направлено все его внимание. Теперь здесь билось его сердце и отсюда отдавались жизненные распоряжения всему телу и чувствам.
Никогда еще не доводилось Самиру съесть свой «обед» в один присест. Он щипал лепешки осторожно и с трепетом клал небольшие кусочки в рот, заполненный слюной. Ему хотелось бы сохранить свое сокровище навсегда, но лепешки быстро исчезали. Обнаружив, что все съедено, Самир впадал в ярость. Дрожащими руками развязывал он тряпку и подбирал все крошки. И вскоре Самира снова одолевало прежнее чувство голода. И он начинал опять выть. Телята и козы смотрели на него с удивлением, а он стоял и протяжно выл, удовлетворенно воспринимая несущееся из расщелин эхо.
Чувство голода, зарождавшееся где-то в желудке, сменялось странным ознобом. Внимание Самира обострялось. Запах травы и теплого, свежего навоза, бил в нос и по вискам и оглушал его. Все эти ощущения, подобно острому ножу, кромсали его тело на части, задевая каждый нерв. В эти мгновения коровы прекращали жевать травы. Те, какие стояли от Самира неподалеку, пятились назад, а лежавшие на земле вставали и собирались в круг, испуганные, тесно прижавшись друг к другу. Слюна, как тонкая паутина, свисала с их губ. Что-то зловещее, звериное в облике Самира пугало их. Только передаваемый из поколения в поколение инстинкт самозащиты, когда животное подвергается нападению хищника, мог так проявлять себя. И тут Самир срывался с места, дрожа и скрежеща зубами. Он носился по полю, и протяжный вой нарушал тишину.
– Люди! Я голоден… голоден… голоден!..
В начале весны Самиру поручили пасти небольшое стадо коз вместе с козлятами. Он погнал стадо в долину, где сохранилась еще мягкая и сочная трава. На более высоких местах первые порывы хамсина уже уничтожили траву. Узкая долина служила руслом для вади[48]48
Вади – безводные русла рек.
[Закрыть]. Со всех сторон она была окружена крутыми горами, склоны которых кое-где были покрыты серыми каменистыми выступами и прошлогодними колючками. А внизу лежала свежая, ласкающая глаз зелень молодой травки, окрашенной россыпью различных цветов. Голое русло вади было усеяно гравием и снесенными водой со скал каменьями, а берега уже густо заросли травой и цветами, над которыми гнулись под ветром кусты олеандра с красными розами, одинокие оливы и редкие ивы.
Угрюмые и тяжелые тучи спустились около полудня в долину. Их густая тень стерла все цвета, сохранив лишь пустынную серость каменистых полян. Ветер налетел, словно брошенный с крутого склона кусок скалы. Одинокое старое фиговое дерево, голое и морщинистое, наклонилось, будто запросило о помощи. Небесные водяные меха, не выдержав, лопнули, и, сопровождаемый молниями и громом, полил крупный летний дождь. Большие капли, словно выстреленные из рогатки, сильно ударили по земле. Самир сунул два пальца в рот и издал протяжный свист. Это был сигнал тревоги. Разбредшееся стадо, услышав свист, быстро собралось вокруг пастуха. И пастух и стадо, сразу промокшие и продрогшие, поспешили укрыться в ближайшей пещере.
Козы скучились внутри пещеры. Козел начал было приставать к одной козочке, но против обыкновения натолкнулся на полное равнодушие. Холодно, мокро – какой уж тут флирт!
Самир вначале сел у входа. Но тут было холодно, и он отошел в глубь пещеры, к козлятам. Они сразу обступили его. Козел стоял позади в застывшей позе и лишь время от времени изредка чихал. У Самира еще осталась одна лепешка из его дневного рациона, и он стал неторопливо отщипывать от нее маленькие кусочки. Жевал он медленно, чтобы как можно дольше продлить удовольствие.
Вход в пещеру казался отгороженным от прочего мира сплошной дождевой сеткой. Вади воскрес. Буйные водяные лошади со спутанными гривами с шумом мчались по руслу ручья.
Лепешка кончилась, и Самира снова одолело чувство голода. А тут еще этот холод, бросающий тело в дрожь. В пещере было тихо. Козы бесшумно бродили то туда, то сюда, лизали стены и щипали на них мох. Козлята теснились у маток. Воцарилась таинственная тишина, которая еще больше подчеркивала шум извне. Тогда Самир снова завыл. Казалось, что вой шел не только изо рта, но и из глаз, рук, ног… Ошеломленные, застыли на месте козы. А там, за дождевой сеткой, кричала еще река, словно это был сам беспокойный Самбатион[49]49
Самбатион – название легендарной реки.
[Закрыть]. Самир сидел съежившись, покрытый промокшей мешковиной, и монотонно выл, как воет голодный шакал.
Дождь не прекращался. Вади с грохотом нес грязную пенистую воду, которая все больше выходила из берегов, заливая расщелины.
Проникший в пещеру запах напоенной влагой земли увеличивал у Самира чувство голода. И он выл почти беспрестанно, во весь голос. Он уже охрип, но все еще выл. И вдруг он умолк и сбросил с себя мешок. Голый, он смотрел на стадо глазами зверя. Его тупой и угрюмый взгляд сеял страх. Испуганные козы потянулись к выходу, словно кто-то их подстегнул кнутом. Возглавил отступление козел, а стадо потянулось за ним. У выхода из пещеры перед сеткой дождя козел остановился, потом вышел наружу и тотчас же, мгновенно промокший, юркнул обратно, как бы толкая стадо назад. Козы попятились в глубь пещеры.
Один Самир не двигался. Его блестящие глаза все время пристально глядели на коз, как бы выискивая жертву. И вот они, словно раскаленный клинок, пронзили одного крохотного козленка. Тот, словно чуя беду, сорвался с места и тревожно заблеял. Он нашел спасение между ногами своей матери и из-под ее брюха испуганно поглядывал на Самира.
Самир нащупал острый камень, зажал его в руке и ворвался в стадо. Он поймал задрожавшего от страха, блеющего козленка и с силой бросил его наземь. Первый же удар камнем размозжил козленку голову. Тогда Самир попытался камнем снять шкурку и разделать тушку, но у него ничего не получалось. Потеряв терпение, он впал в ярость и уже бессмысленно стал наносить удары камнем по голове. Он бил и ругался, посылая кому-то проклятья. Наконец ему удалось сделать несколько рваных надрезов. Запахло свежей кровью.
Ошеломленные козы с тупым удивлением глядели на происходящее. Рогатая голова козла застыла посреди стада. И только его ноги от беспокойства часто меняли точки опоры.
Самир, отшвырнув в сторону камень, с рыком голодного зверя набросился на разорванного козленка. Он весь дрожал, когда впивался зубами и ногтями в свежее мясо, и громко чавкал.
Но в середине трапезы на Самира неизвестно почему нашел страх. Он в ужасе бросился к выходу и выбежал из пещеры под дождь. Он даже забыл набросить на тело мешковину. Кого он боится и куда он бежит? Этого он не знал. Его щепкообразные ноги быстро несли его по скользкой тропинке у склона горы. Он бежал и кричал: «Мама!»
И тут у него вдруг началась рвота. Все, что он только что съел, желудок выбросил на землю.
А вокруг Самира высились серые и мокрые скалы. Они затаились, словно звери, чей покой внезапно нарушили. Его все время преследовал гром…
Одинокое фиговое дерево, что росло внизу, в долине, подняло к небу свои омытые дождем ветви…
Ш. Цаббар
Охранник, который не хотел продавать фалафел[50]50
Фалафел – восточное острое блюдо.
[Закрыть]
(Из записной книжки репортера)
Пер. с иврита Л. Вильскер-Шумский

Однажды мне позвонил секретарь «Союза строителей» Авраам Дроян.
– Тебе следует обязательно посмотреть выставку народного творчества жителей деревни Кефар-Сабба.
– Почему мне следует ее посмотреть?
– Потому что весь мир должен знать, чем занимаются люди из Кефар-Саббы в свободное от работы время и какие у них золотые руки. Кроме того, учти, что весь сбор от этой выставки идет на благотворительные нужды.
– Хорошо, – согласился я, со словом «следует» спорить трудно.
Мы условились о дне поездки. Дроян должен был заехать за мной, и мы вместе поедем в эту Кефар-Саббу.
В назначенный день Дроян попросил меня выйти из дому раньше, так как он должен был еще до поездки побывать в качестве свидетеля на суде.
По дороге Дроян рассказал мне, по какому делу ему придется давать свидетельские показания. Вот что он мне сказал.
Среди членов «Союза охранников» был один опытный страж по имени Шимон Кохен. За ним закрепилась слава преданного и бдительного сторожа. Как он, бывало, мчался по полям на лошади со своей верной породистой овчаркой! Это был идеальный охранник, о каком можно было только мечтать. Все были довольны работой Кохена, пока однажды – а это случилось четыре года назад – его не перевели в район Раананы.
Во время объездов полей Раананы Кохену довелось побывать в арабской деревне Тира, где ему приглянулась одна арабская девушка. Вскоре он женился на ней. Хотя мы народ просвещенный и свободный от предрассудков, заметил мой собеседник, нельзя было просто воспринять брак сторожа-еврея с арабской девушкой. Злые языки оклеветали Кохена. Пошел слух, будто он вовсе и не Кохен. Более того, что он вовсе не еврей, а черкес, который назвал себя Кохеном, чтобы ввести в заблуждение людей. Никто не смог этого доказать, но тот факт, что из всех женщин нашей страны он нашел возможным выбрать себе в жены арабскую девушку, уже послужил убедительным доводом, что у него не все благополучно.
И вот работа Шимона Кохена вдруг перестала удовлетворять жителей Раананы и «Союз охранников». Его стал подозревать в воровстве. Эти обвинения никем не были доказаны, но никем и не оспаривались, за исключением самого Кохена. Однако этого было достаточно, чтобы его снять с работы.
С тех пор прошло четыре года. И все время Кохен стучался в двери городского совета Раананы и «Союза охранников». Он умолял, чтобы его вернули на прежнюю работу, но все оставались глухи к его просьбам.
Некоторе время тому назад, – рассказывал мне Дроян, – когда я был в Кефар-Саббе, я встретился с председателем раананского совета и обсуждал с ним вопрос об охране в этой местности. И вот в кабинет вошел Кохен и снова попросил нас, чтобы мы поручили ему охрану местности. Он не просил – это не то слово, – он умолял, утверждая, что ему нечем кормить своих детей.
Я ему ответил, – продолжал Дроян, – что ему нельзя поручить охрану, так как жители Раананы подозревают его в воровстве. Нельзя же заставить их взять сторожем человека, которому они не доверяют. Я знаком с Кохеном много лет и должен тебе сказать, что все время мы гордились им, считали его образцовым служащим. То же самое я говорил и председателю совета, но что делать, если теперь Кохена считают вором?
Тут Кохен не вытерпел:
«Если я ворую, то почему меня не передают полиции? И как вы можете утверждать, что не даете мне работу потому, что подозреваете меня в воровстве, когда именно тот сторож, которого вы взяли вместо меня, – известный вор-рецидивист, сидевший не раз в тюрьме за кражи?»
В ту минуту, когда Кохен это сказал, дверь приоткрылась и вошел сторож, о котором только что шла речь.
«Вот! – воскликнул Кохен. – Вот он сам! Спросите у него, правда это или нет.»
«Да, я был вором, – ответил вошедший, – и крупным вором. Я взломал сто восемьдесят квартир! У меня была такая отмычка, что всякую дверь открывала. Да вы можете справиться в полиции. Они все меня знают. Не было такой квартиры, в которую я не смог бы забраться. И это еще не все. Я и развратничал и другие номера выкидывал. Ну и что? Во время последних выборов я заявил в МАПАЙ[51]51
МАПАЙ – аббревиатура слов, обозначающих «Рабочая партия Израиля».
[Закрыть]: „Довольно, если вы сделаете меня охранником, я больше не стану воровать. Никогда!“
„Вот видите!“ – крикнул Кохен.
Убедившись, что Кохен прав, я рассказал тогда историю, которую помню еще со времен турок. Это рассказ о старом арабе, который что-то украл. Его поймали и дали ему „флакс“. А „флакс“ – это удары по пяткам, вызывающие сильную боль. Араб лежал на земле, полицейские били его, а сержант громко считал удары. Но, любопытно, араб после каждого полученного удара кричал: „Ой, спина моя, ой, спина!“
Удивленный сержант спросил его: „Почему ты кричишь: „Ой, спина моя!“, когда тебя бьют по ногам?“ Тебе следовало бы кричать: „Ой, ноги мои!“»
Но араб ответил: «Спина-то как раз у меня и больная, а будь она здоровая, вы не посмели бы бить меня по ногам».
Я рассказал эту историю с надеждой, что Кохен извлечет из нее мораль: у кого сильная спина, того нельзя бить по ногам. Но Кохен ничего не захотел понять. Как только я умолк, он поднялся и, крикнув: «Вы еще обо мне услышите!», вышел из кабинета.
Спустя полчаса он вернулся с тремя детьми. Усадив их за стол, он сказал:
«Если вы мне не даете работу, чтобы я мог прокормить детей, возьмите их себе и кормите сами». – И сразу ушел.
Потом его долго искали, а теперь в Кефар-Саббе против него возбуждено судебное дело за то, что он бросил детей. И судья пригласил меня дать по этому делу свидетельское показание.
Эту историю Дроян рассказал мне по дороге, когда мы ехали в его легковой машине. Когда Дроян направился в суд, я последовал за ним, чтобы посмотреть, чем кончится дело.
В коридоре, прилегающем к залу заседаний, возле полицейского на скамье сидел Кохен. Это был красивый худощавый мужчина с легкой сединой на висках. Он был одет в поношенный китель и выцветшие брюки цвета хаки. Увидев Дрояна, он встал и сказал ему:
– Вот видишь, Дроян? Если б ты мне дал работу, не вышла бы вся эта история. Ведь не мог же я смотреть, как мои дети погибают от голода.
– Но я тебе уже говорил, – ответил Дроян, – что работу охранника я не могу тебе дать. Если все говорят, что ты вор, этого нельзя делать. Посиди спокойно несколько лет, и, если о тебе ничего дурного говорить не будут, может быть, мы что-нибудь для тебя сделаем.
– Но что мне теперь делать?
– Ты можешь, например, купить лошадь и повозку, продавать фалафел или что-нибудь другое.
Когда Кохен услышал эти слова, он страшно побледнел. Я знал, что происходило в душе у Кохена, этого отважного стража. Ведь это он когда-то мчался на лихом коне по полям с винтовкой за спиной, опоясанный патронными лентами, а вслед за ним стлалась в беге его огромная овчарка. И такому человеку предлагают продавать фалафел? Таскать овощи на базар?! Это ведь все равно что предложить Наполеону открыть продовольственную лавку!
Между тем в зал заседаний вызвали Дрояна. Я вошел вслед за ним. Зал был переполнен. В это время разбиралось другое дело, и мы с трудом нашли для себя место на задней скамейке.
Но вот судья – доктор Бухвит – вызвал Дрояна, пригласил его занять место свидетеля и рассказать подробнейшим образом, что ему известно о Шимоне Кохене и в особенности восстановить подробно тот разговор, который имел место в кабинете председателя совета Раананы. Когда Дроян закончил свои показания, судья его спросил, предложил ли он в тот раз Кохену отдать своих детей в приют, если ему нечем их кормить?
Дроян ответил, что он ничего подобного не предлагал. Судья, видимо, ждал этот ответ, он прикрикнул на Кохена и начал свою нравоучительную речь так громко, что дверные косяки задрожали.
– Ты видишь, Кохен, какой ты лгун? С той минуты, как ты мне это сказал, я знал, что ты лжешь, но я хотел, чтобы это подтвердил и свидетель. Теперь я доказал тебе, что ты лгун и лентяй. Ты ведь знал, что тебе работу в охране не дадут. Так почему ты не пошел на другую работу? Этот свидетель дал тебе хороший совет, а ты его не послушал. Ты хотел работу в охране, а когда тебе сказали, что это невозможно, ты бросил детей на произвол судьбы и еще посмел лгать в суде! Поэтому я выношу такое решение: посадить тебя в тюрьму на шесть месяцев. Два месяца ты отсидишь сразу, а четыре месяца получишь условно, и если в течение двух лет ты еще раз оставишь детей, то будешь заключен в тюрьму еще на четыре месяца!
На этом речь закончилась, и судья приказал полицейскому вывести обвиняемого в коридор.
Мы тоже вышли в коридор, Дроян хотел было что-то сказать Кохену, но тот так и кипел от негодования.
– Я им еще покажу, где раки зимуют, – выдавил он из себя. – Теперь я из тюрьмы уже не выйду. Если они меня выпустят, я снова туда попаду. Я не могу оставаться на воле, когда у моих детей нет куска хлеба!
Мы видели, что нам здесь делать нечего, и пошли к машине Дрояна, чтобы ехать на выставку. Но когда мы сели в машину, нам стало не по себе. Что-то внутри нас восстало против жестокой несправедливости, свидетелями которой мы стали. Я был взбешен и сказал Дрояну, что необходимо достать для Кохена адвоката, который подал бы жалобу на это судебное решение. Ведь ясно же всякому, что, если б у него был адвокат, дело приняло бы другой оборот.
– Давай вернемся, – сказал я Дрояну. – Я хочу спросить Кохена, согласен ли он, чтобы я ему нанял адвоката, который от его имени подал бы кассацию.
Мы вышли из машины и вернулись в полицейский участок. Кохен сидел в коридоре возле охранявшего его полицейского, в той же позе, в которой мы оставили его пять минут назад. Лицо его будто окаменело, глаза уставились в окно, в какую-то невидимую точку.
Я подошел к нему и потянул его за рукав. Кохен повернул лицо ко мне, но глазами он еще как бы упирался в ту невидимую точку.
– Меня зовут Цаббар, – сказал я ему. – Я случайно присутствовал на суде и хочу спросить, согласитесь ли вы, если я найму вам адвоката для подачи кассационной жалобы.
Глаза Кохена продолжали неотрывно смотреть в окно на небо, где сидит бог и управляет весами правосудия. Наконец он мне ответил:
– Нет, мне не нужен адвокат.
Вот и все. Рассказ закончен, хотя он и не имеет конца. Я знаю, что найдутся люди, которые будут удивляться, читая этот рассказ, так как в нем они найдут самих себя. И Дроян будет удивляться. Наверно, он скажет: «Мне не понять этого Цаббара. Я взял его с собой на выставку, кружил с ним по улицам Кефар-Саббы, потратил на него весь день, а он о чем пишет? О суде Кохена?»
Но об этом уже написано в Пятикнижии, где сказано об одном человеке, который отправился искать ослиц, а нашел чудищ[52]52
Писатель нарочно саркастически смешивает здесь сюжеты различных библейских сказаний.
[Закрыть].