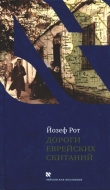Текст книги "Рассказы израильских писателей"
Автор книги: Иехуда Бурла
Соавторы: Яков Хургин,К. Цетник,Иехошуа Бар-Иосеф,Беньямин Тамуз,Йицхак Ави-Давид,Йицхак Орпаз,Иехуда Яари,Мириам Бернштейн-Кохен,Иехудит Хендель,Аарон Апельфельд
Жанр:
Народные сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
X. Хазаз
Румье и Шалом[41]41
Действие рассказа происходит в конце 30-х – начале 40-х годов. В нем использована одна из сюжетных линий романа писателя «Живущая в садах».
[Закрыть]
Пер. с иврита А. Белов

Жена Циона Наама вернулась с работы вечером. Она служила прислугой. Тощая, болезненная, она еле держалась на ногах от усталости. Навстречу ей по улице шла орава малышей. Заметив ее еще издали, они со всех ног бросились к ней. Не прошло и минуты, как они уже окружили мать, толкая друг друга, хватаясь ручонками за ее платье, – шумная, веселая и непоседливая компания. Это были дети нищеты, – оборванные, в царапинах, ссадинах и синяках, вечно голодные, но не унывающие, чуть ли не с колыбели предоставленные самим себе, драчуны и забияки, всегда готовые принять на свою голову ругань и побои и не считающие это даже за наказание. С шумом и визгом, с взаимными жалобами и упреками, они сопровождали мать, наперебой выкладывая ей все свои детские обиды, будто эта слабая и худая женщина была их высшим судьей, беспристрастным и справедливым, который каждому воздаст должное – строго накажет нечестивых и наградит праведных.
Так гурьбой они дошли до дому.
Шестилетний Юсеф, которому на вид можно было дать не более четырех, низкорослый, худой, с перепачканным лицом и огромными глазами, теребил мать за руку, желая привлечь ее внимание.
– Мам, а мам! – тормошил он ее за платье, вертясь под ногами. – Нисим побил меня. Он толкнул меня в спину, а я упал лицом на пол и набил шишку…
– Я знаю, он плохой. – Мать погладила Юсефа по головке. – А я тебе говорила – не играй с ним.
– Я ему ничего не сделал, – продолжал Юсеф, и его огромные глаза еще больше округлились. – Он пришел и забрал мой хлеб.
– Вру-у-ун! – перебил Нисим и насупился. – Не слушай его, мама, он врет. Он первый схватил мою шапку и выбросил во двор.
Нисиму было лет девять, у него было выразительное и приятное лицо и быстрые умные глаза. Его мятая шапочка была сдвинута набекрень, а на лице играла озорная и чуть виноватая улыбка.
– Да, да, мама, – сказала Мазаль, беря у матери корзинку. Она считала своим долгом вмешаться в спор, так как была самой старшей. Ей шел уже двенадцатый год, и на ней лежали все обязанности по дому и по уходу за малышами. Это была девочка с худеньким личиком, в разодранном платьице, босая. – Я сама видела, как Нисим толкнул его в спину. Юсеф упал и так заорал, что можно было оглохнуть. Нисим прямо какой-то разбойник!
– А тебе чего надо? – пробормотал «разбойник», опустив глаза. – Ты тоже врешь!
– Нет, это ты врешь! Ты хотел отнять у него хлеб.
– Хлеб? – с деланным удивлением переспросил Нисим. – Очень нужен мне его хлеб.
– Ну, я-то тебя знаю! – повернулась к нему мать. – Ты у нас мастер на такие штучки!.. Говорила я вам, ведите себя смирно. А вы что делаете? Приставить к вам полицейского, что ли? Мало того, что я целый день работаю как вол, прихожу домой разбитая, без сил… и дома от вас ни минуты покоя нет. Только и слышишь крик да перебранку. Черт бы вас всех побрал!
– И она еще вмешивается! – набросился Нисим на сестру. – Она нас всегда бросает и уходит играть с подружками, а еще жалуется! Дрянь такая!..
– Хватит! – цыкнула на детей мать. – А как Саадия? Он ведь вел себя хорошо?
– Такой же разбойник, – ответила Мазаль. – Все время бегает по улице, с одной панели на другую. А кругом машины. Просто чудо, что до сих пор его не раздавило. А сегодня опять чуть не попал под колеса. Он очень нехороший, мама. Если б ты знала! Срывает у детей шапки и бросает их на мостовую под автобусы, а дети бегут за шапками. Сегодня днем какая-то машина чуть было не раздавила сразу двоих!
– Чтоб тебе провалиться! – повернулась Наама к Саадия. Это был четырехлетний мальчуган, на вид тихий, даже застенчивый. – Это правда? Мне ты говоришь, что идешь в синагогу, а сам шляешься черт знает где. Я тебе всегда верила, а ты, оказывается, хулиган и обманщик!.. Погоди, я тебе покажу!
Тут Наама увидела свою самую младшую дочурку, двухлетнюю рахитичную девочку с большим животом и кривыми ножками. Малышка ковыляла ей навстречу, переваливаясь с боку на бок, как утка.
– Иди, иди ко мне, маленькая моя! – Лицо матери просветлело. Она нагнулась и, взяв девочку на руки, стала ее целовать и нежно гладить. – Где ты была, радость моя? Чем кормила тебя сегодня твоя сестра, ненаглядная моя?
– Дай мне копеечку, хочу стручков, – пролепетала малышка, обвив шею матери своими тоненькими ручонками. – Дай копеечку.
– Дать копеечку? Ты хочешь стручков? – Мать нежно прижала девочку к груди, покрывая поцелуями. – Пойди к лавочнику и скажи, чтобы он дал тебе стручков, а я потом с ним расплачусь.
– Не пойду! – Малышка сморщила личико; казалось, она вот-вот расплачется. – Он мне не даст.
– Даст, моя ненаглядная, не бойся. Нет у меня сейчас копеечки. А он даст. Он мне верит и всегда дает в долг. Я с ним вчера расплатилась. Ты скажи ему: «Мама просила дать мне стручков на копеечку». И он даст.
Когда они вошли в дом, дети схватили корзину и начали в ней рыться. Тщательно исследовав ее содержимое, они извлекли из корзины несколько помидоров, огурцов и кулек с чечевицей.
– Положите на место! – закричала на них Наама. – Это на ужин и на завтрак.
– Дай нам по полпомидора! – стали наперебой, жалостливыми голосами упрашивать ее дети.
– Нет, не сейчас. Обождите немного. Это на ужин. Каждый получит свою долю. А я еще сварю чечевицу. Я купила на рынке чечевицу.
– Пожалуйста, мамочка, по одной половинке, только по половинке, – настойчиво требовали дети. – Нам хочется сейчас.
Мать отрезала каждому из детей по ломтю хлеба и по половине помидора. Пока дети с аппетитом уплетали хлеб, она разожгла примус и поставила варить чечевицу. Потом зажгла лампу и стала собирать грязное белье, чтобы ночью, когда все уснут, заняться стиркой. Тем временем вернулась с работы ее старшая дочь, шестнадцатилетняя Румье.
– Хорошо, что ты пришла, доченька, – выпрямилась Наама, почувствовав, что у нее сильно ноет спина. – А то я уже совсем сбилась с ног. Как быть со стиркой? Взгляни только, какая груда! Я прямо полуживая, еле на ногах держусь. Когда мы успеем все это выстирать? Не иначе как ночью. Хорошо, что ты пришла, доченька. Ты мне поможешь?
– Хорошо, мама, я тебе помогу, – ответила Румье, окруженная ребятишками, с шумом и гамом цеплявшимися за ее платье. – Я понимаю, тебе тяжело. Но сейчас я должна идти в вечернюю школу.
– Ох, ты, горе мое! – Наама в отчаянии всплеснула руками. – Кто же мне поможет? Взгляни, какая груда!
– Но я сейчас должна идти на занятия. Вот когда вернусь из школы, обязательно помогу.
– Наверно, после того, как я подохну, ты придешь мне помогать?..
– Что же делать?
– Ладно, иди, тебе виднее. – Теперь в голосе матери звучали не только нотки укоризны, но и одобрения. Выговаривая дочери, она в то же время как бы оправдывала ее.
Румье с минуту постояла в нерешительности, раздумывая, за что ей взяться. Потом торопливо вышла во двор и принесла два ведра воды. После этого она быстро переоделась, подкрасила губы, посматривая в ручное зеркальце, и вышла из дому.
– Ну и проваливай, принцесса! – сердито закричала ей вслед Мазаль, может, из чувства зависти, а может, из-за обиды за мать. – Проваливай, ты нам не нужна!
– Заткнись! Хватит! – набросилась на нее Наама. – Вылей лучше помои и принеси еще воды!
Комната, где жила семья Циона, служила одновременно и кухней, и спальней, и столовой. Она была узкой и длинной. Почти всю комнату занимали кровати с разношерстными матрацами и одеялами. Сейчас комната была наполнена визгом и криком малышей. Заморив червячка, детвора была в отменном настроении, и в ожидании ужина каждый развлекался, как мог: одни громко спорили, пуская в ход кулачки и давая подножки, другие забирались под кровати, под стол и стулья, ползали, кувыркались, визжали. Для уставшей и истерзанной заботами матери этот шум был невыносим.
– Вы меня совсем доконаете! – закричала она, раздавая направо и налево подзатыльники. – И откуда эта напасть на мою голову! Пропади вы пропадом!
Тем временем пришел Цион. Лицо его было злым. Он не счел нужным даже поздороваться, давая всем почувствовать, что он здесь главный, муж своей жены, отец своих детей и все должны перед ним трепетать. Увидев отца, дети сразу притихли и забились в уголок.
Тем временем сварилась чечевица, вся семья собралась ужинать. Восседая во главе стола на самом почетном месте, Цион протянул руку к кастрюле. Но его опередила Наама: делая вид, что не замечает мужа, она разделила чечевицу на порции, но о муже, кажется, совсем забыла. И сразу же между супругами началась одна из тех стычек, которые давно стали в этом доме привычными и обыденными.
– Да сотрется твое имя среди отцов! – закричала Наама, побагровев от злости. – Ты только и знаешь пить да есть. И бессовестно жрешь все, что я готовлю детям.
– А ты что хотела, ведьма, чтоб я помер с голоду?
– Ну и подыхай! И откуда только ты взялся на мою голову? Детей-то ты умеешь делать, болячка тебе в бок, а вот позаботиться о них даже в голову не приходит!
– Что мне, идти воровать, что ли?
– Кабы искал, нашел бы работу! Было бы только желание! Как делают все люди? Достают хоть из-под земли, а домой приносят.
– Пошла ты ко всем чертям! Прямо злодейка какая-то!
– Сам ты злодей, если бросаешь на произвол судьбы собственных детей.
– А ты разве жена? Сука, да и только!
– Будь проклят тот день, когда я тебя увидела! – Наама вышла из-за стола и уселась на кровати; из глаз у нее полились слезы. – Никогда б не видеть твоей рожи! И какая мне от тебя польза? Я ведь работаю не ради тебя, а ради детей!..
Один за другим поднялись со своих мест дети и, угрюмые, с вытянутыми лицами, сбились в кучку возле матери. А самая маленькая, взобравшись на кровать, стала тормошить мать:
– Мам, а мам, зачем ты плачешь?
– Все из-за твоего отца, – ответила Наама, вытирая слезы.
– Она оплакивает живого папу, – уточнил со своего места Цион.
– Ну ладно, хватит! Марш по местам! И сразу же спать! – прикрикнула Наама на детей.
Мигом сбросив с себя жалкое тряпье, дети улеглись, встревоженные и возбужденные, не смея больше пикнуть.
Когда все уснули, Наама встала и занялась хозяйством. Она долго возилась вокруг жужжащего примуса, грела воду, что-то полоскала, мыла, терла, чистила. Груда грязного белья становилась меньше, а Румье все не возвращалась.
Наама погасила примус, задула лампу и легла на свое ложе между малышами. Несколько минут она ворочалась, и кровать под ней скрипела. Но вот она начала дремать. В это время к ней бесшумно подошел Цион и положил руку на ее высохшую грудь.
– Что тебе надо? – встрепенулась Наама, приподняв голову.
– Я только прикрыл тебя, – прошептал Цион, нагнувшись над ней.
– Ты с ума сошел! Убирайся к себе!
– А почему бы нам не побыть вместе?..
– Уходи! – повысила она голос. – Кобель!
– Ты разве не жена мне?
– Убирайся к черту! – оттолкнула она его ногой.
Ее голос разбудил детей, и Цион шмыгнул к себе под одеяло.
– Мам, а мам… – заговорила самая маленькая. – Что хотел папа?
– Он кобель! Он совсем с ума сошел! – вырвалось у нее.
– Он хотел тебя побить?
– Он сумасшедший. Спи, доченька, спи!
Наама и Румье были кормилицами всей семьи. К тому же на их плечах лежали все заботы о доме. Когда Румье была еще совсем маленькой – ей едва минуло девять лет, – мать уже впрягла ее в работу, сделав своей помощницей. Так она и выросла, зная лишь утомительный и однообразный труд.
Она росла, лишенная всех радостей детства: игрушек и игр, беззаботного смеха, шалостей и проказ, веселья, ласки, общества подруг – всего, что так мило чуткому детскому сердцу. Она была худощавой смуглянкой, с выразительным, будто вырезанным из камня, лицом и чуть раскосыми глазами, горевшими, как у молодой необъезженной лошади. Взгляд ее был смелым и привлекательным. Ее черные, пышные волосы густо нависали надо лбом и были коротко подстрижены сзади. Губы у нее были, пожалуй, слишком пухлые, но рельефно очерченные и какие-то манящие, будто опаленные знойным ветром.
Ее нельзя было причислить к красавицам. Во всяком случае, такая красота не ценилась в квартале йеменитов, где жила Румье. Но все в ней удивляло и поражало, как удивляет и поражает прекрасный цветок, выросший в пустыне. Весь облик ее заставлял почему-то вспоминать первозданный дикий мир на заре человеческой истории.
По натуре Румье была веселой, жизнерадостной и очень приветливой. Она любила шутку, острое слово, легко сходилась с людьми и тянулась ко всему, что доставляет радость. Сильная и неуемная жажда жизни била в ней ключом, изливаясь через край. Она была неистощима на выдумки и легкомысленные проказы. В часы досуга ее звонкий смех и задорные песенки звучали на всю улицу. Но счастливые минуты в ее жизни были очень редки. Непосильный труд, беспросветная нищета, отвратительные ссоры родителей надломили и ожесточили девушку, пригнули к земле ее голову, наложили неизгладимую печать грусти на выражение лица. Чаще всего она ходила хмурой и мрачной, подобно ненастному дню.
Не по годам рано Румье стала задумываться над разными жизненными проблемами и размышлять о таких вещах, которые были выше ее понимания. Ведь никто не учил ее, никто не наставлял, а она была девушкой наблюдательной и не могла не видеть, как много странного, непонятного и явно несправедливого происходит в мире.
Вот рядом два квартала. Они расположены на расстоянии десяти минут ходьбы друг от друга. Почему же так по-разному живут в них люди?[42]42
Речь идет о кварталах европейских евреев (их называют ашкеназитами) и евреев-йеменитов.
[Закрыть]– размышляла девушка. Один – широкий, просторный, чистый, другой – узкий, грязный, тесный. В одном люди пьют и едят досыта, в другом терпят муки голода. В одном царят радость и веселье, в другом – печаль и страдание. Почему? В чем тут дело? Там – избранные, а здесь – отверженные? Там – образованные, а здесь – круглые невежды? Там – праведники, а здесь – грешники? Может быть, так происходит потому, что одних бог любит и милует, а других ненавидит и карает?..
Румье не могла найти ответа на эти вопросы. Мысленно она протестовала, жаловалась, ожесточенно с кем-то спорила, но объяснения всему этому так и не находила. И в ее сердце зрела глухая вражда к жалкому кварталу, в котором она жила. Для нее он стал воплощением всего самого уродливого в жизни, злосчастным местом, где тебя на каждом шагу подстерегает беда. И она стала все настойчивее думать о том, как бы вырваться отсюда и изменить свою жизнь.
Время от времени она делилась своими мыслями с матерью, стараясь заручиться ее поддержкой.
– Вот мы все работаем и работаем, – жаловалась она. – А что я имею за свой каторжный труд? Учиться не училась и ничего не знаю. Выросла большой и осталась такой же глупой ослицей… Когда мои сверстницы учились, я работала прислугой, нянчила чужих детей. Какой смысл в такой жизни? И вообще в нашем квартале среди этой голытьбы и нищеты чему я могу научиться? И чему люди добрые могут научиться у меня? Когда я ухожу на работу и покидаю наш квартал, у меня такое чувство, что я выхожу из выгребной ямы. Я по-другому начинаю дышать, ходить и совсем иначе себя чувствую. А когда после работы я возвращаюсь домой, то уже на полпути у меня начинает сжиматься сердце. Опять нужда, опять страдания, опять ругань… Сироты, вдовы, безнадзорные дети… Почему бог так гневается на наш несчастный квартал? Я этого не понимаю. Здесь о чем-нибудь веселом даже поговорить-то нельзя. Только заговоришь – и сразу сыплются на тебя охи да вздохи. Вот я и думаю, за что на мою долю выпало все это? За какие грехи? Нет, я так больше не могу. Как только стану чуть постарше, брошу все и убегу куда глаза глядят; уеду в другое место и буду жить по-человечески…
– Как же ты, доченька, оставишь нас? – с горестным недоумением спрашивала мать. – Ты наша опора, ты, слава господу, помогаешь семье. И мы надеемся, что недалек тот час, когда придет твой суженый и ты выйдешь замуж, заведешь свою семью…
– Вот ты умная, – отвечала Румье, – а рассуждаешь, как все бабы. Ты думаешь, что я когда-нибудь выйду замуж, да еще за йеменита? Да ни за что на свете! Чтобы я живьем полезла в могилу и загубила свою молодость? О замужестве ты лучше и не заикайся… Как ведут себя йемениты? Они живут, ни о чем не думая, и даже не хотят думать. Не то чтобы смотреть далеко вперед, они и о завтрашнем дне не позаботятся. Йемениту только бы плодить детей да тянуть арак. Это он умеет! Нет, мне не нужна такая жизнь. Лучше уж я останусь старой девой, чем так жить!
– А ты думаешь, что тебя возьмет ашкеназит? – с издевкой спросила Наама. – Нет, он возьмет образованную барышню из своих, а не тебя – худущую, темнокожую, малограмотную служанку.
– Я об этом не думаю, но и за йеменита никогда не пойду. Даже если бы мне угрожали виселицей. Вот, пожалуйста, живой пример – ты сама. Как ты выглядишь? Кожа да кости. А почему? За какие грехи? Потому что ты только работаешь да рожаешь детей… Разве так можно? Отвечай! Что же ты молчишь?
– А что поделаешь, доченька, – говорила Наама, глубоко вздыхая. – Такова воля божья. Такая судьба определена нам святым писанием. Мы ведь не такие, как ашкеназитки. Вместо того чтобы рожать детей, они делают черт знает что. Есть у них для этого всякого рода ухищрения, я даже не знаю какие. Разве они не могут рожать, как и мы? Да в десять раз больше! Ведь у них еды вдоволь, и какой только хочешь, – и сливки, и масло, и сыр, и мясо, и рыба… А молока у них больше, чем у нас воды… Вот они и нежатся. И куда только идет все это добро? А мы из другого теста. С первого дня рождения, можно сказать, наша пища – немного ячменя да полбы. Зато у нас много забот и хлопот. Вся наша жизнь – сплошное проклятие, а между тем чуть ли не каждый четверг мы рожаем детей. Почему так получается? Потому что мы свято блюдем божьи заповеди, а всевышний повелел нам плодиться и размножаться. Если ашкеназиты не хотят выполнять эту заповедь, какое нам до них дело? Пусть себе не соблюдают, а мы обязаны! Слышишь, о-бя-за-ны!.. Такова воля всевышнего. Ты теперь уже совсем взрослая, все понимаешь, и я хочу, из любви к тебе, дочь моя, чтобы ты была такой же, как я, и свято соблюдала божьи заповеди. Придет время, и ты, с божьей помощью и его милостью, выйдешь замуж за йеменита. И тогда ты поймешь, что никто не может сравниться с йеменитом! Когда ты выйдешь замуж и вы останетесь вдвоем, ты услышишь, как он читает благословения! Ведь у нас ни шагу не делают без молитвы – все во имя святости господней и его заповедей. А ты думала, что лучше жить, как эти скоты ашкеназиты? Упаси тебя боже и помилуй! Йеменит к тебе не прикоснется без благодарственной молитвы, без благословения. У него лишь одна мысль – выполнить божью волю! Как же ты так говоришь, глупенькая…
Однажды Румье подошла на улице к группе девушек-йемениток, которые стояли на перекрестке и внимательно слушали какого-то парня. Румье тоже остановилась послушать, о чем он говорит.
Юноше было лет восемнадцать, он был чем-то крайне взволнован. Его поднятое кверху лицо казалось от загара коричневым, голова у него была обнажена[43]43
Ходить с обнаженной головой, по представлению набожных евреев, грешно.
[Закрыть]. Синий спортивный костюм – блуза и короткие брюки – сидел на нем очень складно.
Парень с жаром рассказывал о задачах трудовой молодежи и молодежных организаций, говорил о вечерних школах, о кибуцах и сельскохозяйственных кооперативах. Девушки забросали его вопросами, перебивая друг друга, перескакивая с пятого на десятое. Они спорили в меру своих сил и знаний, и чувствовалось, что им очень хочется подольше постоять тут и поговорить с этим незнакомым парнем. Парень охотно отвечал на все их вопросы, а попутно рассказал и о себе, о том, что ему самому пришлось испытать и пережить. Он рассказал и о том, как он и его друзья, такие же рабочие ребята, осели на землю и на коллективных началах основали новое сельскохозяйственное поселение. Они вместе работают и живут сообща, хотя у каждого есть своя специальность. У них одна общая столовая, общий гардероб, общая касса…
– И нет никакого неравенства? – перебила его Румье.
– Неравенства? Между кем и кем? – удивленно спросил парень.
– Между членами вашего кибуца. Между одним человеком и другим. Между ашкеназитом и йеменитом или, скажем, курдом…
– Неравенства в кибуце нет и быть не может, – ответил парень.
– Рассказывай сказки… Даже в Гистадруте и то не все равны, – не отступала Румье. – Например, ашкеназиты и все остальные. Сколько в Гистадруте членов из восточных общин? Тысячи и тысячи! А вот все служащие Гистадрута – только ашкеназиты.
– Это верно, – согласился парень.
– Вот видишь! – с победоносным видом воскликнула девушка. – А это несправедливо.
– Погоди, погоди, – пытался объяснить парень. – Ты сначала разберись, почему так получилось…
– Почему? Да очень просто. Потому что раньше всех сюда приехали ашкеназиты. Они организовали Гистадрут, они там и хозяйничают.
– Ты уверена?
– На все сто процентов.
– Ошибаешься. Ты только посмотри…
– Нет, не ошибаюсь! – перебила его Румье. – Все знают, что это так, и ты мне зубы не заговаривай… Везде у нас есть люди первого и второго сорта. Счастливчики и неудачники, и в кибуце тоже. Возьмем хоть меня. Да разве я в кибуце превратилась бы в ашкеназитку? А ашкеназитки разве станут когда-нибудь такими смуглокожими, как я? И захочет ли парень из ашкеназитов жениться на мне? Он обязательно возьмет ашкеназитку.
– Почему ты так думаешь? А может быть, возьмет? – подзадорил ее парень.
– Почему, почему… Потому что соображать надо! – Резко повернувшись, Румье оборвала спор и под дружный смех девушек пошла своей дорогой.
После этой встречи Румье несколько дней после работы не сразу шла домой, как это делала всегда, а прогуливалась по улицам, пока не наступало время занятий в вечерней школе. На душе у нее было тревожно, будто она чего-то ждала, а чего – и сама толком не знала.
Пестрая толпа двигалась по центральной улице, где-то смыкавшейся с небом. Улица то круто шла в гору, то плавно спускалась вниз. Подъемы чередовались со спусками, и горизонт то суживался, то расширялся, а дома, казалось, бежали наперегонки, сливаясь в бескрайней дали с горизонтом.
На главной улице в этот час было по-особому оживленно. Взад и вперед прогуливались парочки, гурьбой шествовали веселые компании, мелькали одинокие фигуры юношей и девушек, степенно двигались пожилые люди. Встречные потоки перекрещивались, сталкивались и наподобие ручейков растекались в разные стороны, разъединяя, а затем вновь соединяя друзей и знакомых. Глядя на эту нарядную, жизнерадостную, смеющуюся толпу, можно было подумать, что на свете нет ни нужды, ни бедности, ни тяжкого труда, ни людских страданий. Румье казалось, что все эти люди созданы одновременно, в один и тот же час, и все они родились под счастливой звездой. Все они преуспевают, дела у них идут отлично, говорят они умно и интересно, и все как один приветливы, учтивы и желают друг другу только добра. Ничто их не тяготит, всем легко на душе. Всем, всем, кроме нее… Только она одна здесь несчастная, лишняя, никому не нужная… И нет для нее на всем свете ни счастья, ни радостей, ни добра. Ничего, ничего…
«Такая уж у меня доля, – тяжело вздохнув, подумала Румье. – И все потому, что я родилась у таких родителей и живу в этом проклятом квартале. И ничего не поделаешь, против судьбы не пойдешь».
Румье нырнула в самую гущу гуляющих и стала присматриваться. Многое открывается наблюдательному глазу в предвечерний час, и особенно молодой, жадной к жизни девушке, когда она, предоставленная самой себе, бродит вот по такой шумной улице.
И кого только здесь ни встретишь! Вот идут расфранченные дамы, они напоминают какие-то диковинные розы, а вот те, плоские и сухопарые, подобны чадящим головешкам… Вот стройные пышнобедрые девушки, и тут же худые, изможденные, тощие, как палки. Она видит медлительных и быстрых, скромных и расфранченных, незаметных и ярких, как цветочная клумба. Эти-то, видно, никогда и не рожали… А какие на них шляпки! Какие прически! А мужчины… Иные напоминают клоунов, на лицах других – печать глупости, эти так наклюкались, что еле держатся на ногах, а те, видно, настолько пусты и легкомысленны, что с ними и говорить-то не о чем…
Нет, все люди разные, это только с первого взгляда уличная толпа кажется чем-то единым.
Некоторые из проходящих поглядывают на Румье и при этом как-то странно подмигивают ей, словно куда-то приглашая. Их безмолвные намеки она отлично понимает. Попадаются и такие, что даже загораживают ей дорогу и шепчут на ухо комплименты.
Вот за ней увязалось несколько арабских парней.
– Куда спешишь, девушка?.. – Слова их ласковы, а маслянистые глаза бесстыдно и цинично разглядывают ее. – Пойдем с нами! Мы покатаем тебя на такси!
– Отстаньте! – Румье ускорила шаг, оставив позади подвыпившую компанию.
Нудаил, суетливый старик-йеменит, которого можно встретить в любой час и в любом месте (может, его зовут Авраам или Иаков, но прозвали его Нудаилом). Увидев Румье на улице, он счел своим долгом подойти к ней и сказать:
– И ты, Зереш[44]44
Зереш – жена нечестивого Амана, который был, по библейскому преданию, первым министром персидского царя Артаксеркса.
[Закрыть], стала уже такой, как все? От горшка два вершка, а уж примчалась сюда… Так вот ты какая!
– Чего тебе надо от меня, Аман? – отпарировала Румье. – Старый козел, по бороде слюни текут, а вздумал меня учить уму-разуму.
– Ах ты, негодница! – выругался старик и затряс головой.
Две накрашенные женщины в пестрых платьях прошли мимо, виляя бедрами и обмахиваясь веерами. Они вызывающе громко говорили по-английски.
«Хвастаются, что умеют немного болтать по-иностранному, – неприязненно подумала Румье. – Видно, научились у английских солдат… Потаскухи! Если бы я захотела быть такой, то научилась бы говорить получше!..»
Купив мороженого и осторожно слизывая его кончиком языка, Румье медленно продолжала свой путь. Она бережно держала бумажный стаканчик с двумя сладкими и холодными шариками. Мороженое немного развеяло ее печаль и заставило на время забыть о снедающей ее тоске и о смутных, неосознанных желаниях.
«Ничего! – утешала она себя. – Попить, что ли, газированной водички?»
Она сошла с тротуара и направилась к киоску на противоположной стороне улицы… Но тут ей преградил дорогу велосипедист. Резко затормозив, он радостно воскликнул:
– Мириам![45]45
Мириам – соответствует йеменитской форме еврейского имени Румье.
[Закрыть]
Это был тот самый парень, с которым она три дня тому назад вступила на улице в спор.
– Это ты? – с деланным удивлением спросила Румье и почему-то покраснела.
– Я самый. – Парень соскочил с велосипеда и протянул ей руку. – Здравствуй! Меня зовут Шалом. Третьего дня мы с тобой повздорили на улице. Помнишь?
– Помню.
– Ты куда идешь? – спросил он так просто, будто они уже давно знакомы и он в курсе всех ее дел.
– Вон туда, – она показала рукой в сторону киоска. – Выпить газированной водички.
– Ну что же! – Он улыбнулся, обнажив белые как снег зубы. – Пожалуй, и я выпью.
Провожая ее, он начал разговор на ту же тему, на какую они спорили при первой встрече. Он говорил, как заправский агитатор, у которого в запасе неиссякаемый источник убедительных доказательств.
Начало смеркаться. Шалом говорил все меньше и тише, потом и вовсе умолк. Так они шагали рядом, молчаливые, задумчивые, погруженные в странную грусть, будто возникшую от неумолимо надвигавшейся ночи.
Солнце медленно скрывалось за горизонтом. Небо раскололось на две половины, восточную и западную. На одной господствовал багряный закат, на другой появились синие, голубые, пурпурно-красные оттенки. Краски сгущались, постепенно захватывая и заполняя все пространство и придавая небу куполообразный вид. В вечерних сумерках по-особому светился каждый дом, и в низине и на возвышенности. Каждый дом выступал отдельно, залитый красным, зеленым или фиолетовым светом, и было в этом что-то тревожное, предвещавшее бурю. Черепичные крыши загорелись ярко-красным огнем, отчего все они казались блестящими и немного влажными. Какая-то фиолетовая дымка опускалась на город, обволакивая все городские здания. Краски на небе непрерывно менялись. На смену яркому румянцу приходила фиолетовая бледность, багрянец сменялся густо-сиреневой краской, пурпур уступал место лимонной желтизне, светло-зеленый цвет оттеснял синеву… Мало-помалу все краски блекли и гасли, их смывала серовато-жемчужная бледность. Только на западном крае неба еще лежала кроваво-красная лужица, одинокая и грустная. В воздухе повеяло прохладой. Сильнее подул ветер, он порывисто налетал и исчезал, чтобы через минуту снова напомнить о себе. Становилось все темнее, небо начало сливаться с землей. Мир словно распадался на глазах, все реальное и сущее исчезало, уступая место таинственному и непонятному. Вот уже не видно ни людей, ни улиц, все как бы растворилось в ночной тьме; остались только пустота да воспоминания о промелькнувшей жизни на земле…
Из груди Шалома вырвался вздох, и он едва слышно произнес:
– Да… До чего хороша наша страна!
Румье ничего не ответила. Она медленно шла рядом, думая о чем-то своем, сокровенном. Дойдя до здания вечерней школы, они остановились.
– Вот я и пришла, – сказала тихо Румье чуть охрипшим голосом. – Мне пора…
С тех пор они стали постоянно гулять вместе. Каждый день после работы они встречались и говорили о жизни, о волнующих их проблемах и сами не заметили, как со всем пылом юности полюбили друг друга.
Румье преобразилась. Ее как будто подменили. Девушке теперь казалось, что весь мир создан для нее одной. На смену печали пришли радость, мечты о счастье, волшебные грезы, беспричинное веселье, сладостная грусть и все прочее, что в таких случаях наполняет юное сердце…
Каждый день они гуляли до поздней ночи. Ночная тьма сближала их, оберегала от нескромных взоров. Ночь как бы наделяла влюбленных своими тайнами, а звезды в небе, казалось, только для того и были созданы, чтобы светить им. Продолжительные беседы чередовались горячими объятиями и пламенными, обжигающими поцелуями, от которых кружилась голова.
Наама почувствовала, что ее дочь точно попутала нечистая сила. Неспроста ведь лицо Румье теперь всегда светится, стан выпрямился, и всем, решительно всем на свете она сейчас довольна. Неспроста она стала такой чувствительной и даже чуть растерянной, хотя внутри у нее – мать это видит – пылает огонь. И рассуждает Румье уже не так, как раньше, и большую часть ночи проводит неизвестно где… Тут что-то неладно. И все же Наама сочла нужным некоторое время молча понаблюдать и не вмешиваться. Она ждала, пока дочь не заговорит сама.
Но вот однажды Наама встретила ее на улице в обществе какого-то юноши. Подозвав дочь, она спросила:
– Кто этот парень?
Румье не успела ответить. Шалом заговорил первым.
– Я сын Мусы Машраки. Вы, наверно, знали мою семью.
– Сын Мусы? – Наама посмотрела на него с удивлением. – Твоя мать Захара, дочь Мари Харуна? Ваш дом стоял в конце Альмашмаа? Как же, помню, помню. Я хорошо знала вашу семью. Когда вы сюда переехали?