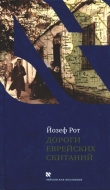Текст книги "Рассказы израильских писателей"
Автор книги: Иехуда Бурла
Соавторы: Яков Хургин,К. Цетник,Иехошуа Бар-Иосеф,Беньямин Тамуз,Йицхак Ави-Давид,Йицхак Орпаз,Иехуда Яари,Мириам Бернштейн-Кохен,Иехудит Хендель,Аарон Апельфельд
Жанр:
Народные сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
После трех дней тщетных и бесплодных блужданий по улицам Шалом наконец встретил Румье, когда она возвращалась с работы. Он окликнул ее:
– Мириам!
В голосе его звучала радость, смешанная с тревогой.
Увидев его, Румье испугалась, но сразу овладела собой к прошла мимо с каменным лицом, будто никогда его и не знала.
– Мириам! Мириам! – Он шел за ней, в его глазах стояли слезы. – Послушай… Послушай…
Она сделала вид, что не слышит и не видит его, и продолжала идти своей дорогой.
– Прости меня… – умолял он ее. – Я во всем виноват. Я ошибся…
Она повернулась к нему и холодно сказала:
– Мне некогда. Я спешу.
– Минутку… Одну минутку… Я должен тебе что-то сказать.
– Ничего не хочу слушать. – Она нахмурилась и крепко сжала пальцы, чтобы скрыть волнение.
– Но я должен с тобой поговорить… – сказал он жалобно. – Я должен!
– Не надо!
– Но я так страдаю…
– А какое мне дело? – бросила она в пространство.
– Но ведь нельзя же так! Я схожу с ума…
– А при чем тут я? И что тебе от меня надо?
– Я сделаю все, как ты сказала. Я пошлю свата.
– Что-о? – спросила она с таким удивлением, будто Шалом свалился с луны. – Свата? Какого свата? Не нужно мне никаких сватов.
– Не говори так, прошу тебя… – Голос Шалома задрожал, его душили слезы.
– Оставь эти глупости! – Они подошли к ее дому. – Ну, я пришла.
– Ты сегодня вечером будешь в школе? – Он умоляюще посмотрел на нее. – Прошу тебя, приходи! Я буду тебя ждать.
Она ничего не ответила. Как серна, скачками бросилась вниз по откосу и через минуту исчезла за калиткой своего двора.
Он увидел ее в тот же вечер после занятий среди шумной компании юношей и девушек. Шалом почти насильно заставил ее перейти с ним на другую сторону улицы. Некоторое время они шли молча, и сердца обоих учащенно бились.
– Какая темень! – Он взял ее под руку. – Ни зги не видно.
– А мне все видно, – ответила она, высвобождая руку.
Он заговорил торопливо и сбивчиво, словно боясь, что она прервет его, не выслушает до конца и убежит.
– Мириам… Прости меня… Умоляю… Прости. Ты ведь моя, моя… Ну, пусть я ошибся. Я в самом деле очень виноват. Но пойми, ведь я тебя люблю… Без тебя нет мне жизни… Я не думал, что ты так рассердишься на мои слова.
Она ничего не ответила. Ей хотелось, чтобы он высказался до конца.
– Хорошо. Ты на меня сердишься, – продолжал он. – Ладно, сердись… Только не будь так холодна со мною. Сердись! Ругай меня! Кричи на меня! Делай со мной что хочешь… Но нельзя же так. Ты поняла? Я больше не могу… Радость моя… Ты ведь самая прекрасная на свете! Забудь все, что произошло. Я пошлю свата. У меня есть на примете человек, он мой родственник. Он этим займется, и все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо. Мы будем счастливы!
– Ты пошлешь свата? – начала она насмешливо, с раздражением. – А в кибуце разве тебя не подымут на смех?
– Да, подымут.
– Вот как! – в голосе ее звучала издевка. – Значит, раньше ты этого боялся, а теперь идешь на это? Бедненький! Зачем же ты приносишь себя в жертву?
– Это не жертва. Ради тебя я готов сделать в тысячу раз больше. Я тебя люблю. Ты даже не знаешь, как я тебя люблю! Я не ем, не сплю, не имею ни минуты покоя, просто с ума схожу! Что я могу поделать? Поверь мне, если ты не согласишься, уйду в солдаты. Я не хотел тебе говорить, но это у меня твердо решено.
Румье на миг остановилась, взяла его обеими руками за уши и тихо сказала:
– Бедненький ты мой… Девушка дергает парня за уши, а он, дурень, молчит и терпит…
Шалом с силой привлек ее к себе и стал осыпать поцелуями.
– Моя… Моя… Моя… – шептал он в исступлении, будто забыл все другие слова. – Моя… Моя…
– Сумасшедший! Просто сумасшедший! – Опустив голову ему на грудь, она тихо сквозь слезы сказала: – Ты погубил меня! Ты взял мое сердце… А я так боялась… Милый… Родной…
Проснувшись рано утром, когда было еще темно, Наама торопливо зажгла примус и вышла на улицу. Вскоре она вернулась, неся нарезанный хлеб, сложенный башенкой. Теперь она уже не присела ни на минуту – готовила для семьи завтрак, обед, стараясь сделать все так, чтобы до ее возвращения с работы дети могли обойтись без нее.
В окно, выходившее на запад, стал проникать свет, тусклый и бледный, какой бывает в облачный день или в сумерки.
Малыши стали просыпаться. Они уже лежали как попало; голова одного покоилась у ног другого, одеяла сползли в сторону, и отовсюду торчали ручки и ножки, и трудно было понять, кому они принадлежат. Прошло еще несколько минут, и дети соскочили с кровати, заполнив весь дом своим шумом и криком.
Не прекращая работы, Наама цыкнула на них, мимоходом дала одному шлепка, другому подзатыльника, торопясь на работу. Больше всех досталось Мазаль. Так уж получалось, что эта девочка была всегда козлом отпущения, ибо среди взрослых она была маленькой, а среди маленьких считалась взрослой… Но, по правде говоря, на ней, как на старшей, до прихода матери, держался весь дом.
Когда наступило время идти на работу, Наама напоследок еще раз окинула взглядом всю семью.
– А… где Румье? – спохватилась вдруг она. Лицо ее выражало озабоченность и тревогу. Она с недоумением развела руками, посмотрела по сторонам, и глаза ее расширились.
– О, горе мне! Что же это такое? Неужели она не ночевала дома? О, горе мне!
Наама стояла, будто пригвожденная к месту, в полной растерянности, чувствуя, что пол уходит у нее из-под ног.
– Мазаль! Мазаль! – не своим голосом закричала она.
– Что такое? – недовольно откликнулась Мазаль со двора.
– Ты видела Румье? Подойди-ка сюда, негодница!
– Румье? – переспросила Мазаль, остановившись у входа. – Румье? Нет, не видела. Да она и не приходила еще.
– Неужели она не ночевала дома?.. – Руки у Наамы опустились, губы дрожали. – Ее нет!.. О, горе мне!
– Она не приходила, мама, – ответила Мазаль многозначительно, как говорят о подобных делах старушки, – она не приходила ночевать.
– Где она могла так задержаться? – Лицо Наамы искривила гримаса. Она с трудом сдерживала слезы. – Где же она провела ночь? О, меня хватит удар… Дрянь! Безбожница! Лучше бы мне умереть, чем дожить до этого… Да, я и умру, и умру… Какой позор!.. Нет, нет, этого не может быть!
– По-моему, мама, она все еще гуляет, – ответила Мазаль тоном взрослой, – Ей нравится гулять со своим парнем по ночам. Она ведь завела себе парня. Говорят, он очень красивый!..
– Замолчи! – накинулась на нее мать. – Ты тоже такая растешь! Прикуси лучше язык! Она, вероятно, очень поздно вернулась и уже ушла на работу…
– Мы бы услышали… – без тени смущения возразила Мазаль. – Я всегда слышу, когда она встает. Даже если кругом темно.
– Куда же она делась? – Наама заметалась по комнате. – Где мне ее искать? Где искать?
– Может быть, она утонула, – рассудительно ответил Нисим. – А может быть, ее убили…
– Что мне делать, что мне делать? – причитала Наама. – Я ведь должна идти на работу. Как я смогу сегодня работать? О, горе мне, горе мне!
Мазаль ударилась головой о косяк двери и тоже начала причитать.
– О, горе мне, горе мне!
Вслед за ней заплакали малыши.
– Замолчите, черти! – набросилась на них мать и шлепнула Юсефа, который оказался под рукой. – Быстро всем одеться и завтракать! Мазаль, накорми их! Пусть они сначала съедят черствый хлеб. А я пойду… И буду оплакивать свою судьбу. Я ведь должна идти работать… А что?.. Бросить работу и искать эту дрянь? Сгореть бы ей в аду!.. Она загубила мою жизнь… Куда идти, к кому обратиться, кого спрашивать?.. Пусть бог накажет ее за все мои страдания! Пусть душа ее горит в огне! Пусть ее тело трясется в лихорадке!
Весь день Наама не могла успокоиться и тайком от хозяйки вздыхала и плакала, ни на минуту не переставая думать о дочери.
Вечером, закончив работу, Наама побежала к хозяйке дочери, но там Румье не было. В этот день она вообще не появлялась. Наама опрометью бросилась домой – может быть, дочь уже пришла. Но вышедшая ей навстречу Мазаль сказала, что Румье не приходила. Больше того, нет и ее вещей: пижамы и сорочек.
– Я знаю, она удрала в кибуц, – сказала Мазаль. – В субботу я слышала, как она говорила подруге, что обязательно уйдет в кибуц.
– И пижамы нет? – Наама часто заморгала глазами, застыв на месте. Она чувствовала, что у нее холодеют руки и подкашиваются ноги.
– Ага. И сорочек, оранжевой и голубой. И чулок. Она все взяла…
Несколько минут мать стояла молча, не замечая столпившихся вокруг нее детей. Напрасно они тормошили ее, пытаясь привлечь к себе внимание.
– Глаза бы мои вас всех не видели! – отвернулась она от детей. – И откуда вы взялись, пропадите вы пропадом!
Даже не взглянув на детей, она пошла бродить по кварталу в надежде узнать что-нибудь о Румье. Женщина останавливала подруг дочери, попадавшихся ей навстречу, задавая всем один и тот же вопрос:
– Не видала ли ты Румье? Она мне очень нужна…
Совершенно разбитая, когда уже совсем стемнело, она вернулась домой, накормила детей и уселась в уголок. Слезы неудержимо потекли по ее щекам.
В это время кто-то постучал в дверь. Вошел высокий парень. Дети застыли с ложками в руках, с любопытством уставившись на незнакомого гостя.
– Это, наверно, ее парень, – шепнула Мазаль.
– Добрый вечер, – поздоровался вошедший. – Здесь живет Наама?
– Здесь. – Наама сорвалась с места и подбегала к парню. – Что случилось?
– Привет вам от вашей дочери.
– Какой еще привет? – На ее болезненном лице появилось злое выражение. – Бог не даст ей добра ни в этой, ни в загробной жизни. Где она?
– Она в кибуце. Очень хорошо устроилась, – сказал парень, разглядывая малышей. – У нее там постоянная работа, и она всем обеспечена.
– Что ей там нужно? Что она там потеряла?
– Поверьте, там ей будет хорошо. И не беспокойтесь за нее. Время от времени она будет вас навещать. Чего же вы расстраиваетесь? Дай бог, чтобы и другие еврейские девушки поступали бы так, как Румье.
– Ладно уж, хватит… Ни с кем не посчиталась, все сделала по-своему. – Голос Наамы звучал надломленно. – Что ж, пусть живет себе как знает. А где же этот кибуц?
– Она сама вам обо всем напишет, – сказал парень.
– А ты почему не говоришь? Боишься? – вмешался в разговор Нисим. – Я тоже хочу в кибуц.
– И я хочу! – сказал Юсеф.
– Замолчите! – цыкнула на них Наама. – А тебе спасибо за добрые вести, что принес…
Парень не успел попрощаться, как вошла соседка. Она попросила спичку. Наама дала ей четыре спички, но та не уходила, все чего-то ждала.
– А где же Румье? – спросила соседка, оглядываясь по сторонам.
– А ты разве не знаешь? – повернулась к ней Наама. – Румье уехала в кибуц. Там, говорят, очень хорошо. Они ее очень звали, вот она и согласилась. И хорошо устроилась… Что ж, ведь и там еврейская страна. Что здесь, что там…
– А на праздники она приедет? – допытывалась соседка.
– А как же, – с жаром ответила Наама. – Праздники она будет справлять у нас. А после праздников снова вернется туда. А то как же… Там, говорят, очень хорошо. Все они работают, живут дружно, один другому помогает… И едят все вместе. Слава богу, не так, как здесь. У наших городских девушек нет другого занятия, как разгуливать с англичанами да с арабами. А там, в кибуце, одни только евреи… Все будет хорошо, только было бы здоровье. Я знаю свою дочь. Когда она была еще совсем крохотной, уже было видно, что растет умный ребенок. Никогда она дурно не наступала. Румье всегда помнит, чья она дочь… Уверена, что она не осрамит нашу семью. Румье в десять раз умнее меня.
Когда соседка вышла, детям захотелось пошалить. Они были сыты. К тому же им показалось, что мать успокоилась, и та тревога, которая целый день царила в их доме, исчезла. Кто-то шумно запел, кто-то стал ему аккомпанировать на ведре, кто-то прыгнул кому-то на спину, кто-то стал танцевать и кувыркаться… И тогда Наама излила на них весь свой гнев. Как из рога изобилия, посыпались тычки и подзатыльники, сопровождаемые проклятиями. С визгом и плачем укладывались малыши в постели, а через несколько минут все уже спали. В комнате стало тихо.
Тогда Наама уселась на пол[47]47
В знак траура евреи сидят на полу или на низких скамейках.
[Закрыть], опустила голову на колени и, раскачиваясь из стороны в сторону, начала вполголоса причитать:
– Где же ты, доченька, голубка моя, где? Как же ты оставила родную мать и пошла к чужим людям? Ты ведь их совсем не знаешь. Или ты лишилась разума, что ввергла нас в такое горе? Разве ты можешь работать в поле? Разве есть у тебя для этого силы? О, горе мне! Свет ты моих очей! Моя красотка, моя ненаглядная! Ты наше солнышко светлое! Ты оконце, откуда к нам проникал свет! А теперь дома совсем темно. Только один день без тебя – и уже темно… Не вижу я твоей улыбки, не слышу твоего смеха. Где твое личико? Как я смогу жить в этом доме, когда тебя нет рядом со мной? Ты же у меня правая рука, моя главная помощница. Во всем, во всем… На кого мне сейчас положиться? На кого мне сейчас опереться?
Вдруг поднялась с кровати Мазаль. Она подошла к матери и сказала:
– Мама, не плачь! Не расстраивайся! Я буду работать у госпожи вместо Румье. Я буду зарабатывать и приносить домой деньги. Я ведь уже взрослая.
– А кто останется с детьми? – Наама подняла залитое слезами лицо и продолжала, всхлипывая – Кто будет их кормить? Кто за ними присмотрит?
– Ничего, мама, – успокаивала ее девочка. – Мы закроем дверь на ключ, чтобы они не могли выйти. И они целый день будут спать и не смогут даже выйти во двор. Не беспокойся за них, мама. А я пойду работать. С завтрашнего дня я уже начну зарабатывать и приносить домой деньги. Довольно, мама, не плачь! Хватит, мама, ведь после слез у тебя всегда болят глаза.
– Хорошо, доченька, хорошо. – Наама краешком платка вытерла слезы. – Иди, поспи. Я больше не буду плакать. Бог нам поможет. Он не оставит нас… А против судьбы не пойдешь. Видно, так уж на роду написано…
И. Хендель
Братская могила
Пер. с иврита А. Белов

Он поднялся с кровати и, приставив ладонь ко лбу козырьком, прикрыл глаза, будто ему мешал яркий свет, хотя в комнате было еще темно. Его сухие, как валежник, пальцы в предутренней мгле казались морщинистыми. Одеваясь в темноте и осторожно нащупывая ногами ботинки, он слышал, как по желобу стекают дождевые капли. В черные проемы окон не заглядывали звезды: небо было затянуто облаками.
Даям осторожно нагнулся над кроватью жены и прикрыл ее обнажившееся плечо. Белые края пододеяльника отсвечивали в темноте, и он увидел, что ее веки дрожат. Со дня гибели их старшего сына Йоси сна плохо спала, и, даже когда ей удавалось задремать, у нее дрожали веки, будто она бодрствовала и во сне.
На цыпочках он вышел из комнаты, легонько нажав на ручку двери, чтобы не звякнул замок. В темной, без окон передней на минуту остановился и нащупал рукой стену. Она кольнула его неприятным холодком. В узкой передней он несколько раз натыкался на стену, пока не нашел дверь, ведущую в кухню. Повернул выключатель и плотно зажмурил глаза, будто совсем отвык от света.
На столе в беспорядке лежали остатки ужина, а в раковине была сложена грязная посуда. У Деборы сейчас нередко накапливаются немытые тарелки за несколько дней. Кажется, что она потеряла счет времени. Иногда она забывает подать к обеду суп. Спохватившись, вечером ставит его на огонь и подает к ужину. Иногда она засыпает на своем кресле, склонив голову на плечо. Когда через несколько минут просыпается, глаза у нее красные, воспаленные.
На кухне беспорядок. На самом видном месте стоят ее сапоги, к которым прилипли комья грязи. Даям осторожно, чтобы не разбудить жену, отнес их в коридор и вернулся на кухню. Он долго, но тщетно искал на всех полках спички. Раньше на каждом шагу натыкался на них, а теперь они словно исчезли.
Опершись о стену, он стоит в раздумье. Лицо у него землистого цвета, черные глаза глядят устало, веки в темных прожилках.
Он повернулся к окну и посмотрел на улицу.
Теперь, когда прошел траур, маленький Миха вернется домой. Его отослали к знакомым, чтобы не тревожить без нужды впечатлительную душу ребенка. Когда Миха вернется, Дебора будет вынуждена снова заняться хозяйством, вовремя готовить обед для малыша, стирать…
Такова жизнь… Двадцать лет они растили Йоси. День за днем, месяц за месяцем. Иногда он болел, и они звали врача. Иногда дрался с товарищами и приходил весь в царапинах. И вот он вырос, покинул отчий дом – и его не стало…
Даям весь согнулся, будто хотел соединить воедино какие-то внутренние разрывы. От сильного порыва ветра задребезжали стекла, потом наступила еще более тягостная тишина. На перила балкона присела тонкокрылая птичка. Она встряхнула головкой – и посыпались мелкие капли.
Наконец-то он нашел спички. Они оказались у него в кармане. Даям зажег керосинку, поставил чайник и приготовился бриться. Всю неделю траура он не заглядывал в зеркало, и сейчас его обросшее лицо выглядело каким-то чужим. Он хорошенько намылил щеки, провел по коже бритвой и неожиданно порезался. Когда он побрился, лицо его в зеркале выглядело еще более странным. Оно было пепельно-серым; на нем выделялись вздутые фиолетовые вены и впалые глаза.
Чайник на керосинке тихонько засвистел, вода закипела. Он налил стакан чаю и поставил на стол. Лампочка отсвечивала в подкрашенном заваркой кипятке красноватым светом. Даям глядел на стакан, совсем забыв о чае. Он спохватился, когда чай уже остыл. Наклонив голову, начал торопливо глотать тепловатую жидкость. Она застревала в горле, глотать было трудно.
Он открыл дверь и вышел на веранду. Холодный ветер пронял его насквозь. Взявшись за перила, он почувствовал, как утренняя свежесть резким холодом прошлась по рукам. На мгновение показалось, будто он плывет, погрузившись всем телом в холодный и влажный воздух. Он отдернул руки, торопливо вошел в комнату и тяжело опустился на низкую скамейку для ног, стоявшую посреди кухни. Так он сидел, опершись локтями на колени и опустив голову. Потом с трудом поднялся и закашлялся.
– Да, это было все так, – прошептал он. – Йоси должен был в тот вечер уйти в отпуск. А он отказался.
Даям торопливо взял со стола сверток с едой, схватил свой плащ и вышел на улицу.
В долине дул слабый ветер. Вершины гор были окутаны белесым туманом. Окна домов тускло поблескивали, как погашенные фонари.
Даям свернул с шоссе на боковую тропинку. До места укладки труб – два километра. Он придет вовремя. Тропинка вилась по склону большого холма, потом кружила у его подножия. Кусты внизу шевелились, напоминая издали могучих диковинных птиц. На шоссе показалась машина, яркий свет ее фар позолотил кусочек склона и исчез.
Тусклые, блеклые краски покрывали долину. Даям поднял воротник и съежился. Глаза его вбирали в себя бледноватую серость раннего утра, а побелевшие и покрытые трещинками губы шептали одно слово – «Йоси».
Он дошел до места, где тропинка круто поворачивала. Отсюда хорошо просматривалась вся долина, она казалась озером, погруженным в туман. Бывало, Даям смотрел на Йоси снизу вверх, а звал его «мой маленький сынок». Это всегда смешило Йоси, ведь он был на три головы выше отца. Сын хватал отца в охапку, легко подымал его и безудержно смеялся.
Однажды он вернулся домой верхом на осле, которого нашел где-то в поле. Целый день он чистил и тер ему спину жесткой щеткой, окатил его несколькими ведрами воды, а затем ласково провел рукой по его ослиным ушам.
Тогда Йоси было десять лет.
Поехав однажды во время каникул к дедушке, он каждую неделю писал домой письма неровным детским почерком, крупными буквами. «Папа, как поживает хромая телка?..» Или: «А не забываешь ли ты, папа, кормить щенка?»
Теперь он видит парня в спецовке. Йоси хлопочет вокруг трубы нового водовода, который они оба, отец и сын, прокладывают в Негеве. Из трубы полилась сильная струя. Йоси хватает пригоршнями холодную воду, смачивает лицо и громко смеется: «Смотрите, вода, вода, вода!..»
Порывшись в кармане, Даям вынул старую, изрядно потертую газетную вырезку. Он расправил ее на ладони и поднес очень близко к глазам, как это делают близорукие люди. В газете была напечатана фотография юноши, стоявшего на холме. Всклокоченная шевелюра, в руке сигнальный фонарь… Отец зажал газету в ладонях и закрыл глаза.
…Это было ночью, когда Йоси вернулся домой после восхождения на Иехиам. Растянувшись на диване, вспотевший, в перепачканной одежде, он восторженно восклицал: «Ой, папа, если бы ты был с нами! С ума можно сойти от красоты! Особенно при закате солнца… Прошу тебя, папа, зажги душ… Я такой грязный и потный… Зажги, пожалуйста, папочка, душ….»
Даям снова открыл газету и потрогал фотографию, проведя пальцем по ниспадавшим на лоб волосам. «Мальчик мой дорогой, сама судьба влекла тебя туда…» А сейчас он там… И всю ночь лил на него дождь…
Всю ночь лил на него дождь.
Даям медленно шел по склону. Морщинки на лбу покрылись потом, он вытер лоб рукой. Ветер бросил ему в лицо несколько слетевших с дерева листочков. Он подумал: да, слишком рано, пожалуй, приду я сегодня на работу. Пальцы его разглаживали помятую газету.
Он увидел большие трубы, лежавшие возле траншеи. Черные и толстые, они блестели от дождевых капель. Даям снял плащ, положил его на камень, присел и стал дожидаться товарищей.
Дождь давно перестал, но земля еще не высохла. Она была усеяна цветами. Покрытые росинками, они сверкали на склоне горы, как звездочки. Даям вдыхал в себя утренние ароматы и, сам того не замечая, барабанил пальцами по камню. Кажется, сегодня, после многих дней ненастья, будет светлый солнечный день.
Тем временем начали подходить рабочие. Кто-то, желая выразить свое сочувствие, молча пожал ему руку. Даям в знак признательности склонил голову. Все рабочие молча подходили к нему и пожимали руку, и он каждого благодарил кивком головы.
Один, у которого сын был убит еще в начале зимы, подошел к Даяму и стал с ним рядом с поникшей головой.
– Вот так, – сказал он и непроизвольно плечом своим коснулся его плеча. Оба осиротевших отца посмотрели друг на друга и отвели глаза. – Вот так, – снова повторил тот, прикоснулся к его руке, повернулся и ушел.
Рабочие сбросили с себя куртки и плащи.
После дождливых дней немного прояснилось, и белесые куски неба, освещенные солнцем, постепенно голубели. С востока над горами и с запада над морем собирались тучи, но гладь долины, облаченной в зеленый наряд, была залита светом.
Начался трудовой день.
У концов трубы встали по четыре человека. Один выкрикивал: – Раз, два, взяли! – и вся восьмерка дружно толкала трубу к откосу траншеи.
Труба шевелилась, как гигантское живое существо, давила своей тяжестью мелкую щебенку, с неприятным скрипом рассыпавшуюся в порошок, мяла траву и в конце концов, тяжелая и неповоротливая, с глухим и громким гулом скатывалась в траншею.
Ладони Даяма пылали, будто он держал на них горячие уголья.
– Ну, дальше!
Снова дружно вздымаются восемь пар рук. И вот уже другая огромная труба начинает шевелиться, медленно ползет и с глухим коротким стуком падает в траншею.
– Ну, теперь ставьте треногу. Вот так. А вы влезайте в траншею, надо приподнять цепь… Довольно. Вот так. Хватит!..
Вторая труба на мгновение приподнята, и рабочие сильно бьют по ее свободному концу, пока она не входит в жерло первой. Раздается острый, противный лязг. И вот уже две трубы плотно соединились. Они покоятся на дне траншеи, как допотопные пресмыкающиеся.
– Ну, дальше.
Да, дальше. Две трубы уже уложены. До обеда надо уложить еще четыре. Потом перерыв и отдых. Начинают плавить олово. Он, Даям, будет на укладке труб.
– Только бы не было дождя, – говорит кто-то. – Уж лучше, когда солнце.
Да, когда солнце, лучше.
На сером, иссеченном глубокими морщинами лице Даяма появилась страдальческая гримаса, как у человека, у которого вдруг сильно заболела спина.
Еще две трубы. Потом обед. Солнце сегодня ласковое. Если не будет дождя, сегодня они рано управятся с заданием. Потом он пойдет домой. Может быть, сегодня привезут сверток с одеждой Йоси. Его получит Дебора. Лучше уж он сам поедет и возьмет одежду. На кладбище сейчас можно проехать – дорога открыта. Да эти трубы очень тяжелые, а его руки совсем отвыкли от них.
Он согнулся над очередной трубой.
– Раз, два, взяли…
Даям застыл на месте, тяжелый и серый, как эти камни вокруг. Он глядит на скатывающуюся вниз трубу.
Рабочие сбрасывают с себя свитеры и кладут их на камни.
Жарко. Очень жарко. Он тоже снимает свитер.
– Который час? – спрашивает кто-то.
– Десять.
– Десять? Неужели уже десять? Сегодня очень быстро пробежало утро.
Да, очень быстро. Теперь можно немного отдохнуть. Нет, лучше, пожалуй, покончить с этой трубой, а уж потом отдыхать. Да, так будет лучше. Тем временем можно будет расплавить олово. Да. За дело!
Рабочие тяжело дышат. На бровях и подбородках сверкают капельки пота. Трубу слегка приподнимают, чтобы сдвинуть с места, скатывают в траншею и сильными ударами смыкают с предыдущей трубой. На все эти манипуляции железная громада отвечает глухим скрежетом и резким лязгом.
Ну, теперь можно немного отдохнуть. А другие тем временем заделывают оловом стык.
Даям вытирает вспотевшее лицо. Волосы у него тоже потные. До чего быстро он стал уставать…
Кто-то говорит:
– Ух, я весь вспотел. Для этих труб нужны железные руки… А какой поднялся ветер! Итак, кто будет рыть лунки?
– Я буду рыть…
– Ты хочешь рыть лунки, Даям? А может, тебе все же лучше остаться на укладке труб? Впрочем, как знаешь. Земля здесь мягкая.
Да, земля мягкая.
Ветер понемногу усиливается. Даям роет землю. Он копает небольшие канавки в местах соединения труб. Работает неспеша. Наберет лопату земли – и в сторону. Каждый взмах лопатой отдается на трубе тяжелым и шумным толчком. Трубы лежат сейчас сплошной массивной полосой, тускло-матовой и монолитной, наподобие огромной змеи, ползущей по траншее.
– Даям, уже полдень.
Да, уже полдень.
Солнце медленно вычерчивает где-то на небосклоне свой извечный круг. Иногда оно выплывает из-за облаков и светит ослепительно ярко.
Даям выходит из траншеи. Он вынимает принесенный из дому завтрак, садится на камень и начинает есть. Кто-то угощает его очищенными апельсинами, но Даям говорит:
– Нет, спасибо, у меня есть, – и жует свой бутерброд.
Те, кто уже поел, растянулись на плоских выступах скал и дремлют. Один задрал ноги кверху и лежит в изнеможении. Даям сидит на камне, лицом к солнцу. Ветер ласкает его лицо. Он вдыхает воздух полной грудью, подставляя себя солнечным лучам. Глядит на скалу, залитую солнцем, затем на светлый небосвод и мерно, спокойно дышит. И земля под ним словно живая, она тоже дышит. Она источает печаль и жизненную силу. Даям чувствует, что глаза его заволакивает пелена.
Да, теперь уже можно добраться до кладбища. Дорога открыта.
Он встает, набрасывает плащ и шагает по направлению к шоссе. Плащ свисает с плеча, ноги заплетаются. Даям останавливает первый же грузовик и взбирается на него.
– Вам до перекрестка? Теперь путь открыт. Там можно обождать.
Да, да, там можно обождать.
Он примостился в углу кузова. На перекрестке слез и снова стал ждать попутной машины. Небо покрылось тучами. Ветер усилился. Скоро будет дождь.
– Куда держите путь?.. Понятно… Спасибо. Я поеду с вами.
– Вам куда?.. На кладбище?.. Ладно. Забирайтесь. Только быстрее. Мы очень спешим.
Да, они очень спешат.
Даям бродит по кладбищу. Идет туда, куда его подталкивает ветер. А на равнине уже дождь. Он пришел с гор, потом снова вернулся в горы и покатился вниз по скалистым откосам. Ударил по ощетинившимся колючкам кустарников, и они сразу потускнели, задрожали, будто у них закружилась голова. Верхушки деревьев впали в неистовство. Затрепетали листья. Каждый листок дрожал за себя, за свою жизнь.
Ветер ударил по серым памятникам. Они высились, как маленькие заброшенные крепости в движущемся пространстве. Даям все еще не подходил к могиле сына. Он бесцельно бродил по кладбищу. Голова его была опущена, глаза смотрели в землю. А ветер свистел и ярился, нее более свирепея.
Даям идет вперед, потом возвращается. Он движется, как лунатик, по воле ветра. Но вот ударил ливень. Тогда он подошел к братской могиле и увидел, что дождь поливает и ее. На могиле уже выросла трава. Тяжело задышав, он опустился на колени, положил руку на землю и почувствовал, что она дрожит, как лист.
Земля источала острый запах.
Дождь бил Даяма по затылку, бил непрерывно. Даям припал к холмику, синевшему наподобие живого существа, которое мерзнет на холоде, и прижался к нему обеими руками, как к чему-то живому.
Внезапно резким движением он сорвал с себя плащ и прикрыл им могилу.
Всю ночь на могилу будет лить проливной дождь.
Он взял камень и положил его на плащ. Теперь его не унесет ветер. В эту минуту он почувствовал, что не один Йоси здесь покоится. Их было сорок восемь… Он ужаснулся, задрожав всем телом. Потом его обдало жаром. Глаза наполнились слезами.
А дождь все лил и лил.
Он встал и зашагал по направлению к шоссе. Дождь утихал, но тонкие струйки еще поливали все вокруг. Памятники среди деревьев напоминали хижины бедняков в холодный зимний день. В ветвях молодого кипариса спряталась дрожащая птичка. По спине Даяма покатились дождевые капли. Он почувствовал, что промок до нитки. Холодно. Стал под дерево, застегнулся на все пуговицы и оперся о влажный ствол. Посвежевшие ветви были полны жизни. С листьев стекали крупные капли.
На шоссе он остановил машину. Одну ногу поставил на ступеньку и, порывшись в кармане, сунул что-то водителю. В лицо ему ударил теплый пар, исходивший от людей в машине, острый запах пота и табачного дыма. Глаза его скользнули по лицам пассажиров. Он нашел свободное место и присел.
Спины людей, сидевших впереди, излучали тепло. Девушка о чем-то оживленно рассказывала своей спутнице, потом смеялась. Ее плечи при этом невольно вздрагивали. Как в тумане, он слышал ее смех, смотрел на ее спину и округлые плечи.
Мимо окон пробегали деревья и зеленые, коричневые, золотистые поля и огороды. В стороне от шоссе стояла разбитая машина. Даям не отрывал от нее глаз, пока она не скрылась из виду.
– Здесь погиб мой сын, – сказал он старику, сидевшему рядом.
– Вот как! – ответил старик, сдвинув на лоб шляпу. И добавил: – Каждый раз сердце болит, когда об этом слышишь.
– В тот вечер он должен был получить увольнительную, – прошептал Даям сухими губами. Он не знал, зачем это говорит.
– Вот как! – повторил старик. – Всегда гибнут самые лучшие… – Он закашлялся, прикрыв ладонью рот и что-то бормоча себе в седую бороду.
Въехав в пригород, машина замедлила бег. Даям смотрел на цветущие сады и на людей, идущих мимо домов. Вот идет женщина с тяжелой корзиной в руке, и он подумал, что, может быть, в той братской могиле лежит и ее сын. Много местных юношей погибло. Он смотрел вслед этой женщине, прижавшись лицом к стеклу. Сейчас тоска пересилила в нем боль. Он почувствовал, что невидимая глазом нить жизни, которую непрерывно прядет и ткет время, связала тот могильный холм с людьми, шагавшими по улице, с полями, мимо которых он проезжал, и с этой женщиной, несущей тяжелую корзину и свернувшей сейчас в палисадник по направлению к домику, в окнах которого зажглись огни.