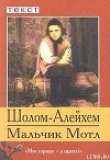Текст книги "Рассказы и сказки"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
7
С куском хлеба в руках вышла она из деревни. Подошла к лесу, но, боясь зверей, взобралась на дерево и решила переждать там до утра. Только было она устроилась, стала читать молитву, вдруг слышит – лай собак. Лай все ближе, ближе. Нехама поняла, что это помещики выехали на охоту, и спряталась глубже в листву. А охотники все ближе. Вдруг стая собак подбежала к дереву и давай неистово лаять. Вслед за ними к дереву подскакали два всадника – проверить, отчего рвутся и лают собаки. Это были два молодых помещика. Они влезли на дерево, стащили оттуда Нехаму и при свете костра стали разглядывать ее. И они увидели, что это еврейская девушка, очень красивая, но изголодавшаяся. Тогда они сказали ей, что ничего плохого, упаси боже, они ей не сделают, ибо она сияет, как звезда в ночи, что ее стоит лишь переодеть– и она будет, как королева, благоуханной, как роза. От этих разговоров у нее сердце замерло. Она услышала, как помещики стали ссориться между собой: каждый из них хотел взять ее к себе, каждый доказывал, что она принадлежит ему, так как его собака первая почуяла ее. Договорились разрешить спор поединком: она должна была достаться тому, кто останется в живых. Молодые люди стали друг против друга и уже готовы были стрелять, но вдруг передумали – лучше тянуть узелки. И один из них, вытянувший узелок, посадил ее на коня и галопом помчал к себе в замок. Она была в обмороке. И когда она проснулась на другое утро у помещика в замке…
8
Когда она очнулась у помещика в замке, она почувствовала, что она в его объятиях, что он целует ее… И она поняла, что все кончено, что спасенья ей нет. Тогда она стала молить его:
– Дорогой господин, я в твоих руках, и ты слишком силен, чтобы я могла сопротивляться, и сопротивляться не к чему… Об одном лишь молю тебя: сжалься надо мной – ты осквернил мое тело, не оскверняй мою душу… Оставь меня при моей вере, при моих мыслях. Дай мне думать, как я хочу.
Правда, помещик не совсем понял, чего она от него хочет, но он искренне полюбил ее, и он ей обещал. Он думал: какое мне до этого дело, жениться на ней я все равно не собираюсь. Однажды он купил для нее у еврея в Праге молитвенник и подарил ей. Нехама с радостью приняла подарок, но тут же положила его на стол. "Мои руки, – сказала она, – недостойны прикоснуться к святыне".
Помещик удивился, но промолчал.
Нехама жила совсем иной жизнью, не так, как сестра ее в Праге. У обеих опущенные глаза, обе ходят, как чужие, точно во сне. Но в то время как Малка грешила душой, не оскверняя тела, Нехама оскверняла тело, сохранив в чистоте душу.
Когда к ней подходил помещик, она закрывала глаза и думала: "Мама целует меня… Это она обнимает, это она целует меня… Это мать обучает меня молитве…"
Он требовал, чтобы она любила его.
Да, она любит, она крепко любит… маму. Вот она обнимает… маму. Она шепчет: "Давай, мамочка, еще раз повторим молитву: "Благословен господь". Из грешных уст ее, однако, эти слова не сходят… В душе витают они, эти слова. Там светят они, глубоко, глубоко внутри.
9
Люди не вечны. Обеим сестрам не суждено было долго жить. А когда их души отделились от тела, душа младшей сестры, Малки, оскверненная грехом, вылетела из белого тела черным вороном и мгновенно канула куда-то в преисподнюю. А душа старшей, Нехамы, белая, чистая, как снег, освободившись от тела, плавно взмыла голубем ввысь, в беспредельное небо… У врат неба она в трепете остановилась, но милосердие господне явилось к ней и открыло врата ей. Оно утешило ее и вытерло слезы на ее очах.
Обо всем этом люди на земле не знали… Пражской богачке были устроены роскошные похороны. Над телом ее была произнесена надгробная речь. Похоронили ее на почетном месте между знатными покойницами, а в годовщину ее смерти воздвигли большой памятник, на котором начертали ей хвалу и славу.
А когда помещик прислал в Прагу тело старшей сестры, кладбищенский служка не захотел прикоснуться к этому грешному телу, и для его омовения были наняты простые носильщики. Завернули покойницу в старый мешок и бросили в яму под забором,
10
Через некоторое время, когда для расширения улицы была отчуждена часть кладбища, стали раскапывать могилы для переноски останков в другое место. Могильщик, отрывший могилу Нехамы у забора, нашел в ней только череп. От тела и костей и пылинки не осталось. И когда могильщик нечаянно толкнул череп ногой, он куда-то укатился и вновь уже погребен не был. Могильщик же, отрывший могилу Малки, нашел ее тело нетленным. На ее устах как будто играла свежая улыбка.
– Вот это праведница, – говорили люди. – Даже черви не властны над ней.
Ибо так судят люди, которые глазами своими видят только то, что находится снаружи. Они никогда не знают, чем живет сердце человеческое и что происходит в нем.
Нехорошо
1915
Перевод с еврейского Л. Гольдберг.
Хотите, расскажу вам одну историю.
Но раньше должен вам объяснить, кто я такой.
Я портной.
Собственно говоря, не портной, и прародители мои портными не были. Вышло, однако, так, что всю премудрость, которой меня обучили в талмудторе, я позабыл; гроши, которые я получил в приданое, проел. Пришлось взяться за иглу.
Почему именно за иглу? Был у меня как раз сосед, который добывал себе пропитание иглой. В одном доме с ним жили.
В третьем углу, правда, жил сапожник. Но сапожное ремесло – дело трудное, да и грязное оно. Всегда чумазым ходишь.
Сосед мой из первого угла был дамским портным. Стал и я дамским портным.
За работу принялся не сразу – все чего-то выжидал. А вдруг я или жена моя на какую-нибудь находку набредем?! А пока, чтоб без дела не ходить, подсел к портняжному столу, попробовал пуговицу пришить, приметать кое-что, а потом – и сшить. Так понемножку и втянулся.
До того, чтоб сшить целую вещь, я не дошел и до сих пор этого не умею. Но заплату положить, выутюжить, вычистить, пятно вывести, даже мерку снять, – этому я научился. Это меня кормило и теперь еще кормит… Пусть кто-нибудь другой закройку делает. Не велика важность!
Жаловаться нечего, ремесло мое не из худших. Первое дело – весело: портной и песенки поет, и по деревням часто ходит, у панов бывает, – насмотришься всего да и поживешь в свое удовольствие. Не пропадаешь, как чумазый сапожник.
Ну, ладно! К несчастью, жена у меня тут, упаси господь вас и всех евреев, богу душу отдала. Беда!..
Но не об этом хотел я рассказать.
Что ж, остался я вдовцом. Живу один, в маленьком домишке, далеко, где-то за городом. Через край не льется, но жить можно. Встретишься с приятелем, выпьешь рюмочку, одолжишь пятиалтынный и опять живешь.
А тут приключилась такая история. Знаете поговорку: весь год под хмельком, а на пурим во рту ни капли. В доме ну ни полушки! Глупо, не могу же я все-таки ходить в пурим, не прополоснув глотки! Как-никак, а такое чудо! Царица Эсфирь, хоть и не была красавицей из красавиц, все же заслужила, чтобы мы в этот день не были трезвенниками.
Выхожу это я из дому и все думаю: к кому же мне из портных пойти?
По-настоящему весело у Арона Двосина. Водка там рекой течет. Он пьет, она пьет. Дочь, говорят, тоже непрочь рюмочку опрокинуть! Но вот как раз из-за этой дочери и неохота идти туда! Девице уже лет под тридцать, а может – с гаком, и сватается она ко мне. Стоит ей лишь увидеть меня, как глаза у нее сразу подернутся влагой, смотрит на меня, как овца на соль, – а то еще закатит очи, совсем зрачков не видать, одни белки – два блюдца сметаны, да и только…
Нет, к Арону Двосину я не ходок!.. К другим богачам-портным тем более! Смотрят они на тебя свысока, как оперенная сова на голого цыпленка… Действительно, скверно: поди угадай, кто из бедняков не ходит сейчас ряженым и у кого дома можно рюмку водки найти.
Голова у меня занята такими мыслями. И вот по ошибке, вместо того чтобы направиться в город, направляюсь в обратную сторону, выхожу за городскую черту… Иду все дальше, дальше.
Когда опомнился, я был уже далеко за городом. Вижу – лесок, вхожу в него. Зачем? Не знаю! Иду… Сам не знаю, куда иду.
Навстречу дровосек. Спрашиваю: далеко до корчмы? А мысли у меня такие: рюмку водки можно и за городом достать! А то, что у меня денег нет, это неважно. У хозяина корчмы можно работенку взять, а пока что в счет работы выпить. Не-еврей поверит!
А он, дровосек-то, говорит: недалеко.
Иду дальше. Передо мной две дороги: одна ведет направо, другая – налево. Иду направо. Я ведь портной, иглу держу в правой руке, ей предпочтенье!
Оказывается, лучше бы мне пойти налево. А может быть, и наоборот. Пошел бы налево, и самой истории не было бы.
Ну, значит, иду направо. Иду, иду.
Жажда меня уже давно томит, а тут еще есть захотелось.
К тому же холодно стало… Да так, что кости пронизывает. И вдруг – стоп! – ограда.
Железная ограда. Черные железные прутья с позолоченными верхушками, – прямо страх берет.
А вот и калитка. У калитки – колокол. Нe поленился – звоню.
Слышу, собаки лают. У меня даже коленки задрожали, хочу бежать. Но там, слышу, кричат на собак, чтоб замолчали. Стою. Я ведь не меламед, чтоб пугаться собак!
Появляется старик в охотничьей куртке с зелеными обшлагами, просовывает сквозь решетку седую голову со слезящимися глазами и спрашивает, кто я такой.
Говорю: портной.
– А что тебе нужно?
– Водки выпить.
Старик смеется, показывает два ряда старых, кривых зубов. А в глазах искорки.
Значит, свой человек, думаю. У тебя тоже в глотке пересохло.
Надо получше с ним потолковать.
Я стою с этой стороны ограды, он – с той. Разговариваем. Я спрашиваю, он отвечает.
– Что тут такое?
– Замок.
– А ты кто?
– Привратник.
– А кто живет в замке?
– Графиня.
– Что за графиня?
– Красавица графиня.
– Красавица?
– И взбалмошная…
– Почему взбалмошная?
– Замуж не хочет! Никто ей не нравится.
Я смеюсь:
– Может быть, меня захочет?
– Попытайся, – говорит, – может быть, она тебе суждена.
И с этими словами отпирает калитку; впускает меня. Стоим уже оба по ту сторону.
Целая свора собак с высунутыми языками вертится вокруг нас. А мне чего бояться – ведь он тут, со мной!
– Я вдовец, – говорю я ему.
– Попытайся… многие уже пытались… Немцы, армяне, цыгане… Попытайся и ты… Может быть, тебе удача будет…
Смотрю на него и дивлюсь. Я-то шучу, человек я мастеровой, почему не пошутить? – а он принимает все за чистую монету.
Я опять за свое. Спрашиваю его, как насчет водки.
– Есть, – говорит, – в замке и водка, есть и мед, и вино… А женихов принимают прекрасно, кормят, поят… По-царски, – говорит.
Мне уже немножко не по себе становится.
Не пьян ли старик? Нет, трезв, взгляд ясный.
Говорю:
– Хватит, старик, брось шутить! У меня на самом деле в глотке пересохло! Да так, что голос, как жестяный, стал… И есть хочется, в кишках ветер гуляет!
– Ну, идем, – улыбается он, – идем. В еде да в питье недостатка не будет.
Я думаю, он ведет меня к себе, а он к замку ведет!
А замок – разве опишешь его! Да на это и моря чернил не хватит! Всё колонны, колонны, а на колоннах – золотые змеи, орлы, летучие мыши.
И все это с золотыми коронами на головах… Приводит он меня к крыльцу. Устлано оно все турецкими коврами. И сдает он меня на руки лакею.
– Жених! – говорит.
Лакей улыбается, ведет меня дальше.
О графине я, конечно, вовсе и не думаю. Но человек ведь я мастеровой, – хочется посмотреть…
Что ж, надо думать, меня тут не повесят! Пускай ведут!
И ведут меня из одного зала в другой: из зеленого в желтый, из желтого в красный, из красного в синий… Цвета так и мелькают перед глазами.
А мы все идем. Спешим. Ну, прямо бежим. Я уже и окраску залов перестал различать, некогда на мебель взглянуть, посмотреть на портреты, что на стенах. Все смешалось. Разноцветные пятна то встанут перед глазами, то исчезнут. Один лакей передает меня другому, другой – третьему…
Всему, однако, есть конец. Останавливаемся в одном зале – зал белый…
Справа, говорят, дверь в покои самой графини, а слева – дверь, чтоб выбросить из замка, если жених не понравится!
Гляжу, конечно, на ту дверь, которая ведет к графине. Вижу – в двери небольшое отверстие.
– А это зачем? – спрашиваю.
Через это отверстие, разъясняют мне, графиня разглядывает женихов…
– Ну, а как женихи видят графиню?
– Вот! – говорит лакей, вся одежда которого так и блестит, так и сверкает золотом, и указывает на портрет, что на стене.
Породистая, видать, баба. Богатырь… И взгляд такой повелительный, хоть и стоит она почему-то на коленях. А у губ ее этакое обольстительное что-то, и притягивает, как магнит.
Мне, как портному, немало ведь платьев приходилось примерять. Видал я женщин, видал не одну пани, но – что тут говорить! – такая мне и во сне не спилась.
Сам дьявол во плоти!
А сердце колотится, как у проклятого.
Я уже забыл, кто я такой, что я такое; кто она и что она; мне уже все равно!
Вытягиваюсь в струнку и жду ее, как еврей Мессию, как благочестивая душа царствия небесного.
Раздается звонок. Лакей объясняет: графиня идет. Берет он меня, ставит лицом против отверстия в двери, с улыбкой отвешивает мне поклон и исчезает.
А я стою, боюсь бровью шевельнуть. Простоял я там всего несколько секунд, но мне они показались годами… Опять звонок, и входит тот же самый лакей.
–~ Понравился!.. – говорит.
Меня чуть удар не хватил.
– Но… – говорит.
– Что, но?
– Грязен, сказала, велела в баню свести.
Долго вас томить не стану.
Видите ведь, что я и сейчас портняжничаю, – понятно, стало быть, что сватовство не состоялось… Но это самое "но" да баня все силы у меня вымотали.
Сперва меня мыли, чтоб грязь сошла, чтоб пот сошел… Что ж делать, – портной, был в пути, шел пешком. Однако тут скова начинается это "но".
Одежда моя ей не нравится.
Тогда я говорю: пошлю за субботней капотой, – важничаю, значит. Между нами говоря, субботней капоты у меня и ие было.
А она желает, чтобы я одел немецкое платье.
Но вот этого уж мне не хочется! С какой это стати я вдруг стану наряжаться в немецкое платье?
Но тут лукавый напоминает, что когда-то встретился мне раввин из Франкфурта-на-Майне; разъезжал он по свету, собирал пожертвования на ешибот. Так вот. этот раввин тоже был одет в немецкое платье. Ну, уж если раввину дозволено, то мне и подавно… Что ж, соглашаюсь.
Но мне велят еще сбросить и арбаканфес. Ну, что ж, подумал я, ведь и женщинам уготовано место в раю, а они обходятся без арбаканфеса. Отдал и его… раз ей этого за,-хотелось!
Затем меня спрашивают, умею ли я разговаривать на панском языке. Я говорю: конечно! Мне ведь приходилось шить у панов! Шить, гладить, примерки делать… Случалось и петь по-иански, и ссориться, и умолять, и зубр: заговаривать… А мне говорят, нет, этого мало! Надо еще уметь читать и писать!
Нанимают мне учителя… Учит он меня грамматике, а меня пот прошибает. Ну, ничего! Научиться-то я научусь, голова у меня еврейская… Однако тут-то, видите ли, и собака зарыта – заниматься науками приходится на голодный желудок… буквально на голодный желудок. Потому что, – это я забыл вам сказать, – хоть я и портной, но в замке я питаюсь одним лишь чаем– да картошкой. Какие тут могут быть разговоры, трефного ведь я есть не стану!.. Потому мне и трудно… Даже худеть начал…
Знаю уже немного из грамматики. Выговариваю уже "р" как следует, не картавлю. Но худею с каждым днем все больше.
Графине же хочется, чтоб я выглядел по-настоящему. Вот мне и велят есть.
Тут опять начинается история с лукавым.
Хлеб у иноверцев есть, – говорит он, – не велика беда… Во многих еврейских домах давно уже покупают немецкие булочки… О свинине и речи нет. Паны ведь и сами не едят свинины круглый год… А под пасху? К тому времени ты или привыкнешь, или прикинешься больным, ляжешь в постель и попросишь, чтоб тебе подали варенья! А может быть, ты до тех пор настолько понравишься графине, что она ради тебя тоже начнет есть кошерное и, тебе в угоду, еще и кугл сделает!
Сперва я его и слушать не хотел. Трефное есть я немножко побаиваюсь. Графиня – это дело преходящее, а ад ведь неизменен. Это уж навеки!
А он, бестия, ловит меня тогда на икре.
Что касается икры, тут я уж решительно ничего не понимаю. Может быть, она и от кошерной рыбы!
Икру-то ведь едят с луком!
И я чувствую, что больше не выдержу. Вот уже три недели, как я запаху лука и не нюхивал. Что же это за жизнь без лука?
Я и подумал: пусть дадут икры! А я буду есть лишь лук… Приличия ради, можно лизнуть черную икринку, а, может быть, я ее и выплюну…
Выплевывать, однако, не приходится… Ем икру. Ем ложкой и, действительно, начинаю понемногу поправляться.
Гляжу в зеркало – совсем на человека стал похож! Мало сказать, на человека! Прямо настоящий пан! Глаза ясные, видно, что выспался… Щеки – как яблочко красное! А плечи!
Но куда пейсы девались? Ей-богу, не знаю… Может быть, мне их во сне срезали. Борода тоже куда-то исчезла… Что ж печалиться? Портняжья бороденка моя и так немногого стоила! А стал я мужчина на загляденье… Обязательно понравлюсь графине.
Все-таки ангел добра меня еще не совсем покинул. Вот он и начинает ныть: как? не с еврейкой?
Тут появляется лукавый и зажимает ему рот:
– Что тут особенного? А дочь Итро? Скажешь, это было до того, как евреям дали священное писание? Но законоучитель Моисей – это ведь не портняжка какой-нибудь…
А царица Эсфирь тоже, кажется, была еврейкой. Шуточка сказать – царица Эсфирь! И все же она вышла замуж за не-еврея Ахашвейроша, за глупца Ахашвейроша… И все-таки в честь этого события праздник установили.
Так в чем же дело? Она делала добро евреям – ты тоже будешь делать добро.
У графини есть коровы – отдашь какому-нибудь еврею в аренду молочное хозяйство за небольшую плату. Есть у нее корчмы – посадишь туда евреев арендаторами за бесценок. Есть у нее леса – дашь и тут евреям заработать. Будешь им продавать хлеб с ноля! Ты не бойся, праздник установят!
Ангел добра, возможно, и ответил бы что-нибудь на это, да тут как раз графиня вошла. Стану я его слушать?..
А графиня сама-то, в жизни, в тысячу раз прекраснее портрета! Входит, а за ней лакей несет большой поднос. Иа подносе золотые кубки и бутылка старого вина.
Она хочет выпить со мной "лехаим"…
– Вино иноверцев? – вопит ангел добра.
– Дурак! – отвечает лукавый.
И в самом деле, что такое вино иноверцев после того, как я сбрил бороду, оделся и немецкое платье, ем трефное?
Я усаживаюсь у ее ног и пью…
"Лехаим" да "лехаим"!
Она наливает, я пью!
Выпил несколько кубков вина, стал целовать край ее платья… Графиня ведь – нельзя сразу!
Еще один кубок! Она протягивает мне уже сама кончики пальцев для поцелуя… Пальцы длинные, тонкие, бело-розовые… Словно пряник медовый!..
Спрашивает меня, хочу ли я выпить за ее здоровье из ее туфельки…
Хочу ли?!
Жаль только, что ножки у нес такие маленькие – туфельки малюсенькие! Не то что туфельку, – сапог мужицкий, сапожище водовоза выхлебал бы!
Что же я тогда? Пью сразу две туфельки, и еще раз две, и еще раз две.
Потом она спрашивает меня, умею ли я петь. Еще бы!
Какой же это портной не умеет петь? Голова кружится, язык заплетается, но петь нужно. Встаю и начинаю петь. Что я пою?
Старую свою песенку, все ее знают:
Чем и кем бы ни был я,
Евреем остаюсь.
Где и как ни жил бы я,
Богу я молюсь.
Услыхала она эту песенку, позвонила… Входят три лакея и, ни слова не говоря, хватают меня и выбрасывают вон в окно.
Падаю…
Хорошо, что упал я на мягкое; не то с этакой высоты– и костей бы не собрал!
Думается мне, упал я на стог сена, на высокую траву, а оказывается – вовсе на перину…
У Арона Двосина на постель упал!
Это был пьяный сон в пурим.
Ну его ко всем чертям!
Эх, не хотелось мне идти к Арону Двосину, а все-таки пошел. Но это еще куда ни шло!
Не велика беда!
Но говорят, что в пьяном виде я стал женихом дочки Арона Двосина, вот той, что глядит на меня "двумя блюдцами сметаны"… как овца на соль…
Это вот нехорошо!
Гнев женщины
1915
Перевод с еврейского Ария Брумберга.
Маленькая комната мрачна, как царящая в ней нужда, на которую плачется все в этих четырех стенах… На ободранном потолке торчит осиротевший крюк; на нем висела когда-то медная люстра. Громадная облупленная печь, «опоясанная в чреслах» грубым мешком, стоит, накренившись набок; она грустно глядит на своего мрачного соседа – на пустой черный очаг, где валяется опрокинутый горшок с обгорелыми краями да в стороне поломанная ложка. Эта жестяная героиня обрела честную смерть: она пала в борьбе с затвердевшей, черствой, вчерашней кашей!
Комната полна всякой рухляди: здесь красуется высокая кровать, завешенная рваными занавесками; сквозь дыры в них смотрят подушки, без" наволочек", своими красными, мутными от перьев глазами; стоит колыбель, в которой виднеется большая рыжеватая головка спящего ребенка; сундук, обитый жестью, с открытым висячим замком, – богатств больших там видно, уж нет; стоит стол с тремя табуретами. Деревянная мебель некогда была окрашена накрасно, теперь ома грязновато-серая… Прибавьте еще шкаф, бочку с водой, помойный ушат, кочергу с лопатой, – и вы поймете, что в эту комнату больше и булавки сунуть некуда…
И все-таки здесь еще "он" и "она".
Она, женщина средних лет, сидит на сундуке, заполнившем собою все пространство между кроватью и колыбелькой. Справа от нее единственное маленькое зеленое оконце, слева-стол. Она вяжет чулок, качает ногой колыбель и прислушивается, как он за столом читает талмуд. Он читает жалобно-певучим голосом, читает неспокойно, прерывисто, нервно. Часть слов он проглатывает, часть растягивает; одни охватывает разом, другие совсем пропускает; местами подчеркивает смысл и читает с любовью, местами сыплет
равнодушно, как горох из мешка. И все время в движении: то он выхватит из кармана свой бывший некогда целым красный платок, потрет им нос, сотрет пот с лица и со лба; то опустит платок на колени и примется крутить свои пейсы, дергать свою острую с легкой проседью бородку. Вот он вырвал волос, положил его на фолиант и принялся хлопать себя по коленям. Тут руки его ощутили платок. Ага! он бросает один конец его в рот и давай жевать; и тут же он беспрерывно перекидывает ногу на ногу.
И все время бледный лоб его морщится, на переносице ложится глубокая борозда, длинные веки почти исчезают под нависшей кожей лба. Вдруг ему кажется, что его кольнуло в груди, и он ударяет по ней правой рукой; потом хватает понюшку табаку, раскачивается еще больше, голос звенит, табурет кряхтит, стол поскрипывает!
Ребенок не просыпается, он привык к этой музыке.
А она, преждевременно состарившаяся жена, сидит и не нарадуется на мужа. Она не спускает с него глаз, ловит каждый звук его голоса… Время от времени она вздыхает:
"Вот, – думает она, – если бы он так годился для этого света, как для того, то и здесь мне было бы светло и хорошо… и здесь… Ну! – утешает она себя, – кто же это удостаивается вкусить от обеих трапез?.."
Она вслушивается. Ее морщинистое лицо также поминутно меняется: она тоже нервна!
Только что на лице ее было разлито безмерное удовольствие, она столько наслаждения черпала из его торы… И вдруг она вспоминает, что сегодня уже четверг, что на субботу нет ни гроша, – и райское сияние на ее лице все больше тускнеет, пока улыбка совсем не исчезает с ее лица. Потом она бросает взгляд через позеленевшее стекло – как там солнце – должно быть, поздно, а дома и ложки горячей воды нет. Спицы останавливаются в руке, мрачная тень покрывает ее лицо. Она бросает взгляд на ребенка: он спит уже неспокойно, он скоро проснется; для больного ребенка нет ни капли молока. Тень уже превратилась в тучу, спицы в ее руках начинают дрожать, прыгать…
А когда она еще вспоминает, что уже близка пасха… что сережки и подсвечники заложены, сундук пуст, люстра продана, то спицы начинают плясать убийственно скоро; туча становится темно-сизой, тяжелой; в маленьких серых глазах, чуть видных из-под платка на голове, показываются молнии!
Он все еще сидит и читает. Он не видит, что надвигается гроза, что опасность все увеличивается… что она вы пустила чулок из рук, начинает ломать свои исхудавшие пальцы, морщить лоб от боли; один глаз у нее закрывается, другой смотрит на мужа так остро, что, заметь он этот взгляд, он весь похолодел бы от ужаса… Он не видит, как дрожат ее посиневшие губы, как трясется челюсть, зуб на зуб у нее не попадает… как она сдерживает себя изо всех сил. Но гром так и рвется наружу, и достаточно малейшего повода, чтоб он вырвался из ее уст…
И этот повод нашелся…
Он читает: "Шма минейтлос"… и с тягучим припевом переводит: "Из этого, стало быть, вытекает"… Он хочет продолжить: "три", но ей уже достаточно слова "вытекает"… За него ухватилось наболевшее сердце; это слово упало, точно искра в порох.
Ее долготерпение лопается. Несчастное слово раскрывает все закрытые шлюзы, разбивает все затворы… Она вне себя. С пеной на губах подскакивает она к мужу, готовая вцепиться ему в лицо.
– Вытекает, говоришь ты, вытекает? А, чтоб ты вытек, боже мой! – кричит она хриплым от злости голосом. – Да, да, – продолжает она шипя, – скоро пасха… четверг-ребенок болен… ни капли молока!
У нее захватывает дыхание, впалая грудь высоко подымается, глаза мечут искры.
Он точно окаменел. Он вскакивает с табурета, бледный, задыхающийся от испуга, и начинает отступать к двери.
Они стоят друг против друга и смотрят: он остекляневшими от страха глазами, она – горящими от гнева. Он, однако, скоро замечает, что от злобы она не владеет ни языком, ни руками. Глаза его становятся все меньше. Он хватает конец платка в рот, отодвигается еще чуть и, с трудом переводя дыхание, бормочет:
– Слушай ты, женщина… знаешь ли ты, что значит "битул тойро"? – мешать мужу учить тору, а?… Все заработки, а?! а кто дает птице небесной?.. Все еще не верить в бога! все соблазны, все лишь этот мир… Глупая баба – злая!.. не давать мужу учить тору… за это ведь – ад!..
Она молчит, и он становится смелее. Лицо ее делается все бледнее, она дрожит все больше, и чем больше она дрожит и бледнеет, тем тверже и громче звучит его голос:
– Ад!.. Пламя!.. За язык повесят! Все четыре казни верховного судилища!..
Она молчит, лицо ее бело, как мел.
Он чувствует, что поступает нехорошо; что не должен так ее мучить, что это нечестно, но он уже не в силах сдержаться. Все злое, что у него было на душе, он теперь высыпает без всякого удержу.
– А ты знаешь, что это значит? – голос его становится громовым. – "Скило" – это значит: бросить в яму и закидать камнями! "Срейфо" – продолжает он и сам удивляется своей дерзости, – "срейфо" – значит: влить в нутро ложку растопленного, кипящего свинца! "Эрег" – отрубить голову мечом… вот так! – и он делает движение вокруг шеи. – А теперь "хенек"… удавить… слышишь? – удавить! Ты понимаешь теперь, что значит "битул тойро"! Все это за "битул тойро"!
У него у самого сердце сжимается от жалости к своей жертве, но он ведь в первый раз одерживает верх… Это его опьяняет. Такая глупая женщина! Он совершенно не знал до сих пор, что ее можно напугать…
– Вот что значит "битул тойро"! – выкрикивает он еще раз и сразу… умолкает – ведь она может прийти в себя и схватить метлу! Он бежит назад к столу, захлопывает фолиант и выбегает из комнаты.
– Я иду в синагогу! – кричит он ей уже более мягким голосом и захлопывает за собою дверь.
Крики и стук дверью разбудили больного ребенка. Он медленно поднимает отяжелевшие веки, желтое, как воск, личико у него искривилось, из опухшего носика начинает вырываться свистящее дыхание.
Но она точно окаменела. Она все еще вне себя стоит на одном месте и не слышит голоса ребенка.
– А! – вырывается, наконец, из ее сдавленной груди хриплый голос. – Вот как… ни этого света, ни того… вешать, говорит: он, горячая смола… свинец… говорит он! "Битул тойро!.."
– Вешать… ха-ха-ха! – вырывается у нее полный отчаяния крик. – Вешать, хорошо же, но здесь, сейчас!.. Все равно!.. зачем ждать?..
Ребенок начинает плакать все громче, но она ничего не слышит.
– Веревку! веревку! – кричит она и блуждающими глазами ищет по всем углам.
– Веревку где достать?.. Пусть он костей моих уж не найдет! Уйти хоть от здешнего ада!.. Пусть он знает! Пусть он станет матерью… пусть! Пусть я пропаду! Раз помирать!.. Один конец!.. Пусть уж будет конец раз навсегда!.. Веревку!..
И последнее слово вырывается из ее горла, как крик о помощи во время пожара.
Она вспоминает, где лежит веревка… да, под печкой… думали – на зиму печь перевязать, она, должно быть, еще там…
Она подбегает и находит веревку: о, радость – она клад нашла! Она бросает взгляд на потолок – крюк на месте… Нужно лишь вскочить на стол.
Она вскакивает…
Но сверху она вдруг видит, что испуганный, ослабевший ребенок поднялся, перегибается через колыбельку, хочет вылезть! Вот-вот он упадет!
– Мама! – едва вырывается из слабого горлышка ребенка.
Ее охватывает новый прилив гнева.
Она бросает веревку, соскакивает со стола, бежит к ребенку, кидает его головку назад на подушку и злобно кричит:
– Выродок! даже повеситься не даст! даже повеситься не даст спокойно! Сосать уже ему хочется! сосать!.. О! яд будешь тянуть из моей груди! яд!
– На, обжора, на! – выкрикивает она одним духом и сует ребенку в рот свою иссохшую грудь:
– На, тяни… терзай!