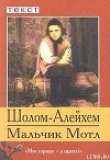Текст книги "Рассказы и сказки"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Если не выше ещё…
(Из хасидских рассказов)
1894
Перевод с еврейского С. Фруга.
И ежедневно на рассвете во время слихос немцовский рабби исчезал.
Его не видно было нигде: ни в синагоге, ни в обеих молельнях, ни при богослужении на частной квартире, а дома и подавно. Двери оставались открытыми, входил, кто хотел. Краж не случалось, хотя в доме не оставалось ни живой души.
– Где может быть рабби?
Где ему быть? Конечно, на небе. Мало ли дела у него там перед "страстными днями"! Мало ли о чем позаботиться надо! Евреям, не сглазить бы, нужно пропитание, спокойствие, здоровье; нужно удачно детей сосватать. Хотят евреи быть добрыми и богобоязненными. А грехи ведь велики, и дьявол тысячеглазый видит все и доносит и обвиняет…
Кому же заступиться, если не рабби?
Так думают все.
Но появился однажды литвак, – смеется. Ведь вы знаете литваков: книг нравоучительных не очень уважают, зато голову набивают себе талмудом да раввинской письменностью. И вот этот литвак приводит доказательства из талмуда, прямо в глаза тычет, что даже Моисей-законодатель – и тот при жизни не мог взойти на небо и достигал лишь высоты на десять локтей ниже небесного свода… Ну, поди спорь с литваком!
– Все-таки, – спрашивают литвака, – куда же девается рабби?
– Да мне что? – отвечает он, пожимая плечами. Но тут же (на что литвак способен!) решает разузнать, в чем дело.
* * *
В тот же день, сейчас же после вечерней молитвы, литвак прокрадывается в комнату рабби. залезает под кровать и лежит: надо обождать всю ночь и выяснить, куда девается рабби и чем он занимается в это время.
Другой, может быть, задремал, проспал бы момент, литвак же находчив: лежал и повторял наизусть целый талмудический трактат, – не помню уже, какой именно.
На рассвете слышит: стучат – зовут к слихос. Рабби давно уже не спит; с час слышно, как он вздыхает. Кто когда-нибудь слыхал вздохи немировского рабби, знает, сколько народной скорби, сколько мук в каждом его вздохе. Душа изнывает, внемля этим вздохам. Но у литвака ведь железное сердце, – слушает и продолжает лежать. Лежит и рабби; рабби на кровати, литвак под кроватью…
Вскоре слышит литвак, в доме заскрипели кровати; домашние поднимаются. Бормочут краткую утреннюю молитву… Слышен плеск омовения. Стучат, открываясь и закрываясь, двери. Все уходят. Опять тихо и темно. Сквозь щели ставней пробивается бледное лунное мерцание. Сознался литвак, что, когда он остался один с рабби, на него напал страх. Вся кожа на нем запупырилась, как у испуганного гуся, и корни волос на висках начали колоть, как иголки. Шутка ли сказать: во время слихос оставаться наедине с рабби в одной комнате.
Но литвак ведь упорен: дрожит, зуб на зуб не попадает, а лежит.
Наконец, рабби встает; умывает руки, тихо читает молитву, как надлежит всякому еврею. Потом подходит к платяному шкафу и вынимает оттуда узел… Из узла появляется мужицкое платье: холщевые портки, огромные сапожищи, сермяга, большая баранья шапка и широкий кожаный пояс, обитый медными штифтиками.
Рабби все это надевает на себя…
Из кармана сермяги торчит конец веревки, обыкновенной грубой веревки.
Рабби идет, литвак за ним!
Мимоходом рабби заходит в кухню, нагибается под кровать и вытаскивает оттуда топор. Он засовывает топор за пояс и выходит на улицу.
Литвак весь дрожит, но не отстает ни на шаг.
Робкая, благоговейная тишина царит в темных уличках. Кое-где вырывается стонущий звук слихос из какой-нибудь молельни… Кое-где из-за оконных стекол доносится стон больного… Рабби держится все больше в сторонке, в тени домов и заборов… Временами фигура его выходит из тени; литвак все шагает за ним.
И слышит литвак, как биение его собственного сердца сливается со– стуком тяжелых шагов, рабби, но он идет дальше. И так выходят они за город.
За городом – роща.
Рабби заворачивает туда и, пройдя шагов тридцать-сорок, останавливается возле дерева. Литвак вне себя от изумления: рабби вынимает из-за пояса топор и принимается рубить дерево. Рабби рубит, рубит; деревцо трещит и падает. Рабби разрубает его на поленья, затем, расколов, увязывает веревкой в вязанку и, вскинув ее на плечи, засовывает топор за пояс и направляется из лесу обратно в город.
В каком-то переулке рабби останавливается у бедной, полуразвалившейся избенки и стучит в окошко.
– Кто там? – раздается испуганный голос, и литвак слышит, что это голос больной женщины.
– Я, – отвечает рабби по-мужицки.
– Кто "я"? – опять спрашивают из избенки.
– Василь! – отвечает рабби.
– Какой такой Василь и что тебе надо?
– Дрова маю продаваты, – отвечает мнимый Василь по-украински, – вязанку дров… и дешево, почти даром…
И, не дожидаясь ответа, он заходит в избенку.
Литвак прокрадывается туда же. При сером утреннем полумраке перед ним – бедная комнатка с убогой и поломанной утварью; на постели, под грудой тряпья, больная женщина. И говорит она с отчаяньем Василю:
– Купить?.. А на что купить? Откуда мне, бедной вдове, взять деньги?
– Я тебе в долг поверю, отвечает переодетый рабби, – всего шесть грошей.
– А где я возьму, чтобы уплатить тебе? – стонет несчастная.
– Глупый ты человек! – строго возражает рабби. – Смотри, ты бедная, больная женщина, и я тебе верю в долг… Я уверен, что ты заплатишь… Ты имеешь такого великого и всесильного бога и… не доверяешь ему?! И не надеешься на него даже на какие-нибудь шесть грошей за вязанку дров!..
– А кто затопит? – жалобно спрашивает больная. – Разве я в силах встать? Сын не вернулся с работы…
– Я затоплю! – отвечает рабби.
Накладывая дрова в печь, рабби, стеня и вздыхая, прочитал первую главу из слихос. Когда же он затопил и дрова весело запылали, он уже несколько бодрее стал читать вторую главу.
Третью главу рабби прочитал, когда печка истопилась и он закрыл трубу.
Литвак, все это видевший, с тех пор остался уже навсегда немировским хасидом.
Впоследствии, когда, бывало, какой-нибудь хасид начнет рассказывать, что во время слихос немировский рабби поднимается каждое утро на небо, литвак уже не смеется, но тихо добавляет:
– Если не выше еще!..
Семейное счастье
1891
Перевод с еврейского А. Макаров.
Хаим – носильщик.
Когда он проходит по улице, согнувшись под ящиком с товаром, его совсем не видно: кажется, что ящик шагает сам на двух ногах. Тяжелое дыхание, однако, слышно издали.
Но вот он, сняв с себя ящик, ставит его наземь: он получает заработанные им гроши. Выпрямившись и глубоко вздохнув, он отвязывает полы халата, отирает пот с лица; затем, подойдя к колодцу, выпивает несколько глотков воды и забегает в какой-то двор. Там он становится возле стены и подымает громадную голову так, что кончик бороды, нос и козырек картуза у него на одной линии. Он кричит:
– Ханэ!
Под крышей открывается окошко, и маленькая женская головка в белом чепчике отвечает:
– Хаим?!
Муж и жена смотрят друг на друга с большой нежностью. "Любезничают", говорят соседи. Хаим бросает вверх свой заработок, завернутый в бумажку. Ханэ ловко хватает бумажку. Это ей не впервые.
– Молодчина! – говорит Хаим и продолжает стоять. Ему не хочется уходить.
– Ступай, Хаим, ступай! – улыбается Ханэ. – Мне нельзя отойти от больного ребенка… Я поставила люльку возле печки, рукою снимаю пену с горшка, ногою качаю…
– Как он, бедняжка, теперь?
– Ему лучше.
– Слава богу. А Геня?
– У швеи.
– А Иосель?
– В хедере.
Хаим опускает бороду и уходит, а Ханэ следит за ним, пока он не скроется.
По четвергам и пятницам разговор продолжается дольше.
– Сколько в бумажке? – спрашивает Ханэ.
– Двадцать два гроша.
– Боюсь, мало будет.
– А чего тебе недостает, Ханэ?
– Мазь нужно купить для ребенка за шесть грошей, свечей на субботу. Хала у меня уже есть, мясо тоже – полтора фунта. Ну, недостает водки для кидуш. Еше нет щепок.
– Щепок я тебе принесу; на базаре, верно, найдется.
– Потом еще нужно…
И она перечисляет, что ей нужно на субботу. В конце концов оказывается, что кидуш можно произнести над халой и что вообще можно обойтись без многих вещей. Главное – это свечи и мазь для ребенка.
Все же, когда дети здоровы и медные подсвечники не заложены, у мужа с женой бывают очень веселые субботы, особенно, если еще есть кугл. Ибо Ханэ большая мастерица готовить кугл. Сначала у нее постоянно недостает чего-нибудь: то муки, то яиц, то жира; но, в конце концов, получается чудесный, сладкий кугл; он тает во рту, "расходится по всем суставам".
– Это ангелы готовили, – говорит Ханэ, радостно улыбаясь.
– Да, ангелы, наверно, ангелы. Ты тоже ангел, Ханэ. Сколько ты терпишь из-за меня и детей; сколько раз они тебя огорчают, и я тоже, когда рассержусь. Но разве я слышу от тебя ругань, как иные от жен своих? И какие же у тебя радости от меня? Ты боса и гола, дети тоже. На что я годен? Даже субботних песен не умею петь, как следует.
– Но все же ты хороший отец и хорошим муж, – твердит Ханэ. – Пусть бог пошлет такой счастливый год мне и всем евреям. Состариться бы нам вместе, творец мира!
И пара смотрит друг другу в глаза гак тепло и нежно, словно они только что из-под венца.
После обеда они отдыхают. Проснувшись, Хаим отправляется в синагогу послушать тору.
Там меламед читает с простым народом "Алшех". Жарко. Лица еще заспаны, кое-кто еще дремлет, другие громко зевают. Но вот вдруг все оживляются: речь заходит о том свете, об аде, где нечестивых секут железными прутьями; о светлом рае, где благочестивые сидят в золотых венцах и изучают тору. Рты раскрыты, лица красны; затаив дыхание, все слушают, что будет на том свете. Хаим обыкновенно стоит возле печки. Руки его дрожат, в глазах слезы: он сейчас весь на том свете. Он страдает вместе с нечестивыми; он сброшен в преисподнюю, он купается в горячей смоле, он собирает сучья в пустынных лесах. Он переживает тут всё, всё, и его покрывает холодный пот. Но через минуту он уже блаженствует вместе с благочестивыми: светлый рай, ангелы, левиафан, все другие блага представляются ему так живо, что когда меламед кончает чтение, целует книгу и закрывает ее, Хаим просыпается, словно после глубокого сна, словно он и в самом деле был на том свете.
– О, господи! – вздыхает он тяжело. – Творец мира, хоть кусочек, хоть капельку райской жизни дай мне на том свете, мне, жене моей и детям.
При этой мысли Хаиму становится грустно. За что ему рай? Какие его заслуги перед господом?
Однажды после чтения он подошел к меламеду и сказал дрожащим голосом:
– Рабби! Научите, как мне удостоиться на том свете рая.
– Изучай, дитя мое, тору.
– Рабби! я не умею.
– Изучай другие священные книги, изучай хотя бы "Изречения отцов".
– Я не умею, рабби!
– Читай псалмы.
– Нет у меня времени, рабби!
– Молись горячо.
– Я не понимаю значения слов молитвы.
Меламед посмотрел на него с глубоким сожалением.
– Чем ты занимаешься?
– Я носильщик.
– Ну, так служи тем, которые изучают тору.
– Как мне служить им, рабби?
– Приноси, например, каждый вечер ведро воды в синагогу, дабы изучающие тору имели, чем утолить свою жажду.
У Хаима стало радостно на душе. Это он может.
– Рабби! – спросил он дальше, – а жена моя?
– Когда муж сидит в раю в кресле, жена служит скамеечкой для его ног.
Когда Хаим пришел вечером домой, чтобы произнести молитву прощания с субботой, Ханэ сидела и тихо молилась. Он увидел ее, и сердце у него больно сжалось.
– Нет, Ханэ, – воскликнул он, – не хочу я, чтобы ты служила скамеечкой для ног моих. Я наклонюсь к тебе, Ханэ, подыму и посажу возле себя. Мы будем сидеть в одном кресле вместе, рядом, как теперь. Нам так хорошо вместе! Слышишь, Ханэ, вместе будем мы сидеть. Господь должен будет согласиться. Он согласится, Ханэ!..
Перевоплощение одной мелодии
(Из хасидских рассказов)
1894
Перевод с еврейского Я. Левин.
– Тальновскую мелодию хотите?
В сущности, кажется, пустяк – взять мелодию тальновской субботней трапезы и спеть! Однако это не так легко, как кажется!
Тальновскую мелодию необходимо петь во многолюдии – народ должен ее петь!
Подтягивать, говорите, будете? Нет, братцы! С польскими хасидами тальновской мелодии не спеть!
Ведь вы никакого представления, никакого понятия не имеете о пении!
Мне вот приходится слышать ваших музыкантов, ваших канторов. Это пиликанье, а не игра. А при пении вы дерете глотки, словно петухи недорезанные! Даже синайские мелодии у вас получаются какими-то дикими… А ваши марши, "казачки"? Они еще более несуразны, чем ваши жесты и гримасы! Вы говорите, это и есть по-хасидски?.. Нет, у нас другие хасиды!..
Откуда наши мелодии берутся? Возможно, они в роду у нас, а может быть, тут дело в местности.
В нашей Киевщине не найдется дома без скрипки!
Любой парнишка из состоятельной семьи, или, как у нас говорят, папенькин сынок, обязательно должен иметь скрипку, должен уметь играть…
Хотите узнать, сколько мужчин в доме? Посмотрите на стены: сколько скрипок – столько и мужчин!
Все играют: играет дед, играет отец, играет сын…
Жаль только, что каждое поколение играет свое, играет по-другому, играет по-своему.
Старик-дед играет синайские мелодии или вообще что-нибудь синагогальное: "Кол-нидрей", "Шойшанас-Иаков" – мало ли что? Отец, хасидская душа, тот заливается в чисто хасидской думке. Сын же, в свою очередь, играет, но уже но нотам. Играет даже театральные штучки…
Каково поколение – такова и мелодия!
– Что делают хасиды, когда нет водки? – Говорят про водку. Петь одному, без народа, без зажигающего огня народа, нельзя! Что ж, давайте тогда говорить о пении!
Пение, должны вы знать, великое дело. Все Тальное держалось на "Мелаве-малке". А главное в этом прощании с царевной-субботой – это пение!
Все лишь в том, кто поет и что поется…
Из одних и тех же кирпичей можно построить синагогу и – да не будет рядом помянуто – церковь, дворец и тюрьму, а то и вовсе богадельню…
Одними и теми же буквами начертаются таинства торы и самая большая – да не будет рядом сказано – ересь… И одними и теми же голосами можно подняться на высокую ступень воодушевления и экстаза и можно низринуться, упаси бог, в преисподнюю и копошиться там, подобно червю во грязи…
Письмо – как его читать будешь, мелодии – как петь!
Возьмите, к примеру, "фрейлахс", он может быть тальновской субботней "Мелаве-малке" – радостью благочестия и добродетели, и может быть весельем какой-нибудь бездомной распутной пичужки!
Мелодия горит, она насквозь пропитана любовью. Но любовь разная бывает: есть любовь к боту, любовь к людям, любовь к своему народу… А бывает – один любит только себя, а то и вовсе, упаси бог, чужую жену…
Мелодия жалуется, мелодия плачет, но один плачет о змее, об утерянном рае; другой – о мировой скорби, о разрушении храма, о нашей униженности и оскорбленности… "Воззри на наше состояние", – жалуется эта мелодия… А еще мелодия плачет о том, что у кого-то там красотка сбежала…
Имеются песни, полные тоски. Но о чем они тоскуют, эти песни? Тоскует душа по своему источнику, и тоскует старый беззубый пес по своей утраченной молодости, с ее собачьими страстями…
Возьмите хотя бы песенку:
Реб Довидл жил в Василькове, в Василькове, —
А теперь живет он в Тальном;
Реб Довидл, реб Довидл жил в Василькове,
Теперь живет в Тальном!..
Поют ее тальновцы, поют ее васильковцы. Но когда тальновцы поют, – это подлинный «фрейлахс», он искрится, брызжет радостью, блаженством; когда же поют васильковцы, – она пропитана унынием и скорбью…
А зависит это от души, которая вкладывается в мелодию.
. . . . . . . . . . . . .
Мелодия, должны вы знать, это сумма звуков или, как "те" говорят, тонов.
Звуки или тона берутся из природы; их никто не выдумывает, а в природе нет недостатка в звуках. У всего есть свой голос, свой собственный тон, если даже не целая мелодия.
Колеса святого престола, как нам известно, велегласны: "каждодневно, еженощно" у них свой хвалебный гимн… Люди и птицы поют… Звери и животные по-своему хвалу возносят… Камень о камень стучит, металл звенит… Вода, когда течет, тоже не молчит. Не говоря уже о лесе: при малейшем ветерке он поет этакую тихую, сладкую думку. А поезд, например, этот дикий зверь с огненно-красными глазами, – когда несется, разве не оглушает он своим пением? Даже рыба, тварь немая, и та, – я это сам вычитал в старой священной книге, – иногда издает звуки. Некоторые рыбы, сказано в той книге, подплывают время от времени к берегу, бьют хвостом о песок, о камни и этим несказанно наслаждаются…
Мало ли звуков? Надо лишь иметь ухо, чтоб их улавливать, как сетью, вбирать их, словно губка…
Но одни звуки – еще не мелодия!
Груда кирпичей – еще не дом!
Это только тело мелодии; ему нужна еще душа!
А душа песни – это уже чувство человека: его любовь, гнев, милосердие, месть, тоска, раскаяние, печаль, – все, все, что человек чувствует, он может вложить в мелодию, и мелодия – живет!
. . . . . . . . . . . . .
Ибо я, друзья мои, верю: то, что меня живит, само должно иметь жизнь, само живет!
И если мелодия меня живит, если я от мелодии получаю истинное наслаждение, если она вселяет в меня дух животворящий, – я говорю, что мелодия живет…
И доказательство: возьмите мелодию и рассеките ее. Пойте ее наоборот: начните с середины, а потом перейдите к началу и к концу. Разве получится у вас мелодия? В общем, все звуки налицо – ни один не пропущен, но нет души! Зарезали вы живую белую голубку, и под ножом улетела душа…
Остался мертвец, труп мелодии!..
В Тальном для всех ясно, как день, что мелодия живет…
. . . . . . . . . . . . .
И живет мелодия, и умирает мелодия, и забывается мелодия, как забывается покойник!
Юна и свежа была она когда-то, мелодия, молодостью и силой дышала она. С годами она ослабела, отжила свое время, и силы ее покинули… Выдохлась!.. Затем ее последнее дыхание улетело в воздух и там где-то испарилось – и нет ее больше!..
Но мелодия может и воскреснуть!..
Вспомнится вдруг старая мелодия. Неожиданно как-то выплывает она и рвется наружу. И невольно вкладываешь в нее новое чувство, новую душу – и вот уже почти новая мелодия живет…
Это уже перевоплощение мелодии…
. . . . . . . . . . . . .
Вы плохо меня понимаете?.. Ну да, толкуйте со слепым о свете!
Знаете что? Вы ведь любите всякие рассказцы, – так вот я вам расскажу историю о перевоплощении одной мелодии…
Слушайте!
В трех-четырех милях под Бердичевом, сейчас же за лесом, находится местечко Махновка. А в этой самой Махновке была неплохая капелла музыкантов. Но глава их (реб Хаим его звали) – тот был настоящим артистом, учеником знаменитого бердичевского Педоцура.
Этот реб Хаим сам мелодий не создавал, то есть он не был композитором, но исполнить вещь, со вкусом ее подать, истолковать ее, как следует, душу в нее вложить, – это он умел, в этом была его сила!
Человек это был худощавый, невзрачный. Но, начав играть, он вдруг преображался: всегда опущенные веки подымались, и из тихих глубоких глаз струилось сияние, одухотворявшее сразу это бледное лицо. И видать было воочию, что он сейчас совсем в ином мире… Руки играют сами по себе, а душа витает где-то там высоко-высоко, в мире звуков… Часто он забывался, начинал также петь. А голос у него был – кларнет! – такой же чистый и ясный…
Не будь этот Хаим обыкновенным набожным евреем, почти, можно сказать, блаженным, он не стал бы, конечно, мучиться с семьей в восемь человек в Махновке! Он бы, вероятно, уже играл или пел в каком-нибудь театре, либо сделался бы хористом в синагоге, ну… в Берлине или Париже. Но такие уж люди в Бердичеве… Сидит себе этот блаженный Хаим дома, забирает в долг во всех мелочных лавочках в счет будущей зажиточной свадьбы, которая должна же когда-нибудь состояться.
И вот как-то раз случилась-таки богатая свадьба. И у самой что ни на есть махновской знати – у вдовы Берла Кацнера.
Сам Берл Кацнер – да икнется ему на том свете! – был лютым ростовщиком, а скрягой еще большим! Жалел кусок, который клал себе в рот. Когда ребятишки ели, он ходил за ними и собирал крошки… Камень – не сердце было у этого человека!
Перед смертью, почти в последние минуты, подзывает это он старшего сына, велит подать себе книгу записей и посиневшим пальцем указывает, с кого еще не взыскано аренды. "А отсрочить, – говорит он, – боже тебя упаси! Слышишь? Таков мой тебе родительский наказ!.."
Затем он подзывает жену и велит ей спрятать медную посуду, что висит на стене: "Стоит мне закрыть глаза, – говорит он, – как все растащат!.." – С этими вот словами он испустил дух…
А оставил он полмиллиона!
Как сказано, дочку выдает замуж вдова, а она торопится, она сама собирается обзавестись мужем. Тут у нее прямо-таки гора с плеч…
И так как Хаиму-музыканту тоже надо во что бы то ни стало выдать дочку замуж, то он уж, разумеется, свадьбы ждет, как Мессию.
Вдове же вдруг взбрело в голову непременно выписать Педоцура из Бердичева.
Собственно, почему? – Будут киевские гости, киевские знатоки музыки, так вот она хочет, чтобы к венчанию сыграли "поминальную" на новый мотив. "Не какое-нибудь, – говорит она, – старье! Такие большие расходы, так будет стоить еще немного, – и пусть знают киевляне!.."
Хаим был в отчаянии…
В местечке тоже заволновались. Очень его любили, Хаима, и вообще жалко бедного еврея! Искали выхода. И в конце концов порешили так: пусть все же играет Хаим с его капеллой, но до свадьбы он должен, за счет вдовы, съездить на денек в Бердичев и привезти от Педоцура новый мотив для "поминальной"…
Хаим получает на расходы немного денег, из них он большую часть оставляет жене и детям, нанимает подводу и отправляется в Бердичев…
И тут-то начинается история о перевоплощении…
. . . . . . . . . . . . .
Как это говорится: "Бедняк за счастьем, а счастье от него!" Въезжает наш Хаим в Бердичев с одного конца, а Педоцур с другого выезжает из Бердичева. Его как раз пригласили в Тальное на "Мелав-малке". Тальновский цадик, должны вы знать, был очень высокого мнения о Педоцуре. "Тайны торы, – говорил он, – сквозят в его мелодии. Жаль только, что сам он этих тайн не знает!"
Вот и мечется Хаим по улицам Бердичева, как очумелый.
Как быть? Вернуться домой без нового мотива для "поминальной" – нельзя, хоть беги тогда из Махновки! Ехать вслед за Педоцуром в Тальное или дожидаться его здесь – тоже нельзя: денег-то у него в обрез, богачка и без того не очень раскошелилась, а тут он еще большую часть жене оставил…
Ну, Хаим, понятно, сильно удручен.
Вдруг видит он на улице такую сцену.
Представьте себе, в самый обычный будний день идет это по улице женщина, наряженная по-праздничному, или, как говорят в тех краях, "разодетая в пух и прах"… На голове у нее какой-то странный чепец, с длинными-предлинными лентами всяких ярко-кричащих цветов.
В руке у нее большой серебряный поднос.
Вслед за женщиной шагают музыканты, они играют, а женщина приплясывает. Часто она, остановившись, пускается в пляс перед каким-нибудь домом или магазином. Со всех сторон на музыку собирается народ; двери и окна забиты – голов, голов тут!..
Музыка играет, женщина пляшет, разноцветные ленты развеваются по ветру. Поднос блестит, сверкает… Народ кричит: "Счастливой доли!" – и бросает монеты; приплясывая, женщина на лету подхватывает монеты, – монеты в такт ей позвякивают на подносе…
Что такое? Да обычное дело: Бердичев – еврейский город, и обычаи у него еврейские. Так уж тут обычно собирают пожертвования для бедной невесты!
Хаим знал про этот обычай. Он знал, что женщины измышляют танцы, а Педоцур каждый раз составляет новый мотив. Это уж считалось его лептой в этом благочестивом деле. Придут к нему, расскажут про невесту, про ее семью, про жениха, про нужду их… Он выслушает молча, с закрытыми глазами, иногда даже закроет лицо руками, и, когда кончат и наступит тишина, – Педоцур уже начнет тихонько что-то мурлыкать про себя…
Обо всем этом Хаим знал, – иначе чего бы он стоял, разинув рот и развесив уши?..
Подобный "фрейлахс" он еще никогда не слыхал! Тут и смех и плач вместе. Чувствуется и горе и радость, сердечная боль и счастье. Все смешалось, слилось воедино… Настоящая свадьба сироты!..
Вдруг он как подскочит! Да, он нашел то, что ему нужно…
На обратном пути из Бердичева возница его набрал пассажиров. Хаим не возражал. И пассажиры, – видно, как раз понимающие толк в музыке, – рассказывали потом, что как только въехали в лес, Хаим запел.
Пел он "фрейлахс" Педоцура. Но выходило у него нечто совершенно иное. Пожелание "счастливой доли" бедной невесте перевоплотилось в настоящий поминальный мотив…
И посреди тихого шума деревьев поплыла тихая грустная мелодия…
Мелодии этой, казалось, вторит многоголосый, тихий хор певцов: то шумели в лесу деревья…
Тихо и жалостливо плакалась мелодия: молила о милосердии, будто больной молит о даровании ему жизни…
Затем мелодия начинала вздыхать, умолять отрывистыми вскриками; чувствовалось, будто кто-то бьет себя в грудь, поминая грехи свои… Не судный ли это день? Не исповедуется ли кто на смертном ложе?
Но все громче и в то же время надломленней становится голос. И все чаще и чаще обрывается он, будто в слезах захлебывается, будто в страданиях надрывается. Потом – несколько глубоких вздохов, резких восклицаний: одно… другое и вдруг окончательно обрывается. Тихо: кто-то скончался.:.
Мелодия снова пробуждается и переходит в горькое жгучее рыдание. И крики несутся, обгоняют друг друга, переплетаются… раздается душераздирающий крик, вопль, словно тут хоронят кого-то…
И тогда на поверхность выплывает тоненький, чисто детский голосок. Он жалок, дрожащ и испуган.
Заупокойную произносит дитя…
Затем все это переходит в думку: грезы, мечты, тысяча мыслей, постепенно растекающиеся в сладостную, задушевно-сладостную мелодию… Она утешает, успокаивает… и с такой добротой, с такой самоотрешенностью, с такой твердой верой, что становится снова хорошо, снова сладостно. Снова хочется жить. Хочется жить и надеяться…
Люди чуть не растаяли от восторга:
– Что это? – спрашивают.
– "Поминальная", – отвечает Хаим, – "поминальная" сироты Кацнера.
– Для такого не стоило, пожалуй… – говорят они, – жалко мелодии. Но прославитесь вы, реб Хаим, на весь мир, – киевская публика умрет на месте!..
Но киевская публика «не умерла на месте».
У Кацнеров уже была не настоящая еврейская свадьба… И "поминальная" оказалась неподходящей для этой публики.
Киевлянам вовсе хочется с дамочками потанцовать. К чему тут "думка"? Зачем разные там душеспасительные штучки?
И вообще – по ком эта "поминальная"? По старому скопидому?
Живи этот старый скряга, – невеста и половины приданого не получила бы, да и свадьба имела бы совсем иной вид! Если б он сейчас из гроба встал да посмотрел на это белое атласное платье с кружевами, на фату; если б он увидел эти вина, торты, всевозможные рыбные и мясные блюда, под которыми столы ломятся, – он, наверное, умер бы еще раз – и, уж конечно, не так легко, как прежде!
И кому вообще нужна вся эта "церемония" с оплакиванием невесты? Глупые старые обычаи!..
– Живее! – кричит киевская публика.
Бедный Хаим! Он остановил капеллу. С бьющимся сердцем водит он смычком по струнам. Уж публика, которая попроще, помаргивает, кое у кого уже и слезы на глазах. Но тут один из киевлян как закричит вдруг:
– Что это здесь, свадьба или похороны?
А когда Хаим, делая вид, что не слышит, все же продолжал игру, киевлянин принялся свистеть.
А свистел он очень даже неплохо. Он уж и мелодию уловил и насвистывает ее, как надо. И чем дальше, свист его убыстряется, делается все более наглым, более диким. И все это, не отступая от мелодии…
Капелла умолкла. И слышно лишь, как идет борьба между благонравной скрипкой и разнузданным свистом.
И свист одолевает, нагоняет смычок. Скрипка уж не плачет, она вздохнула раз-другой и принялась смеяться.
Внезапно Хаим оборвал игру. Со стиснутыми зубами перескочил он на другую струну; игра его еще неистовей.
Нет, он обгонит этот свист!
То была уж не игра! Скрипка выбрасывала из себя какие-то бессвязные выкрики, какие-то чудовищные вопли…
И они мечутся, кружатся, как в вихре, эти вопли. Кажется, уже все вокруг пляшет: дом, капелла, гости, невеста на стуле и сам Хаим со своей скрипкой…
То не "фрейлахс" и не "поминальная" – это вообще не игра! Это какое-то пляшущее безумие, приступ падучей, помилуй бог!
И вот так продолжалось, пока не лопнула струна.
– Браво, Хаим, браво! – кричали киевляне…
Оказали ли они этим услугу душе старого скряги – вряд ли!
Через несколько лет эта мелодия, наверное, через кого-нибудь из киевлян, попала в театр.
Что такое театр? Просвещенные евреи верили, что театр лучше любой душеспасительной книги. Вы, конечно, говорите, что театр – нечисть, хуже свинины…
У нас же говорят, что все зависит от того, что играют в театре.
Было это уже в Варшаве…
Театр полон – море голов. Начинает играть музыка.
Что она играет?
Какой-то сплошной гул, смятение, столпотворение! Она играет "поминальную" Хаима; но вместо "думки" тут – сумятица: инструменты бегут друг за другом, погоняют друг друга, щелкают.
Гудит, грохочет, свистит… Не гром гремит, не здания рушатся – какая-то неразбериха! Черти ли громыхают на Ледовитом океане, тысячи ли злых духов рвутся из ада? Дрожит театр!
Вдруг врывается бас. Как будто сердится! Негодует! В чем дело? Но нет, притворяется! Чувствуется, что злится не всерьез… И странный свист вдруг, подпрыгивая, проносится через весь оркестр зигзагами молний. И с хохотом заправского шута: "ха-ха-ха! хи-хи-хи!" вслед за басом гонится кларнет. И какие штуки выкидывает кларнет! Назло делает! Так и чувствуется, что назло!
А потом выплывают три-четыре скрипки… И удивительно сладостно играют они, чудовищно-сладостно, как само сладострастье, как сам демон-искуситель, который медом истекает весь.
И вкрадывается игра эта в сердце, растекается елеем по жилам и пьянит, словно старое вино… Пламенем объят театр! Раскрыты рты, глаза сверкают!
И тут только взвивается занавес и появляются "он" и "она": "принц" и "принцесса", и они поют.
Поют они словами, пламенными словами; и будто огненные змеи вылетают у них изо рта. И сам ад горит на их лицах; как черти, скачут они навстречу друг другу. А поцелуи, объятья, – пение и пляска – все быстрее и быстрее, все пламеннее и страстней с каждым мгновеньем!
И уже весь театр в огне – ряды мужчин и женщин, с разгоряченными, потными лицами и дико горящими глазами. Театр захлестнуло. Потоп!
И весь театр поет.
Море жгучей похоти разлилось – ад пылает тут! Бесы пляшут! Ведьмы водят огненный хоровод!..
Но падению нет предела!
Распался еврейский театр. "Принцы" снова стали сапожниками и портными. "Принцессы" снова вернулись к своим печам. А некоторые театральные мелодии докатились до шарманок…
Нашу мелодию уже почти не узнать!
На дворе разостлан вытертый коврик… Двое мужчин в телесного цвета трико вместе с бледной, изможденной девочкой, где-то ими украденной, показывают фокусы.