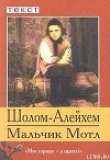Текст книги "Рассказы и сказки"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Ицхок-Лейбуш Перец
Рассказы и сказки

Ицхок-Лейбуш Перец

Рассказы
Бонче-молчальник
1894
Перевод с еврейского Е. Иоэльсон
Здесь, на этом свете, смерть Бонче-молчальника прошла совершенно незамеченной. Попробуйте спросить, знал ли здесь кто-нибудь, кто такой Бойче, как он жил, отчего он умер: от разрыва ли сердца, от истощения, или, может быть, у него позвоночник переломился от непомерной ноши… Кто его знает? А может быть, он и вовсе с голоду умер.
Если бы пала одна из лошадей, везущих конку, это скорее привлекло бы внимание. Об этом было бы написано в газетах, сотни людей сбежались бы с разных улиц, чтобы посмотреть на несчастное животное и даже на то место, где произошла катастрофа.
Но и лошадь в конке не удостоилась бы, конечно, такого внимания, если бы на земле было столько лошадей, сколько людей, – тысячи миллионов!..
Тихо прожил Бонче свой век, тихо и умер. Как тень, прошел он по миру, по нашему миру.
При обряде обрезания Бонче не звенели рюмки, не пили вина; при бар-мицво он не произнес блестящей речи… Он был, как незаметная песчинка на морском берегу, среди миллионов себе подобных. Когда же ветер поднял эту песчинку в воздух и перенес на другой берег, никто этого и не заметил.
След от его ноги не оставался при жизни даже на размокшей земле, после смерти же ветер сбросил и маленькую дощечку, поставленную на его могиле. Жена могильщика нашла эту дощечку и сожгла ее, – сварила горшок картошки… Прошло всего три дня, а могильщику уже ни за что не вспомнить, где похоронен Бонче.
Будь у Бонче надгробный памятник, какой-нибудь археолог, возможно через сотню лет, нашел бы его, и имя "Бонче-молчальник" еще раз прозвучало бы в этом мире.
Но Бонче прошел здесь, как тень. Образ его не запечатлелся ни в уме, ни в сердце ни у одного человека. Никакой памяти о нем не сохранилось.
"Ни кола, ни двора", – одиноким жил, одиноким и помер.
Если бы не людская суета, кто-нибудь, пожалуй, и услыхал бы иной раз, как трещит позвоночник Бонче под тяжелой ношей. Если бы у людей было больше времени, кто-нибудь, может быть, и заметил бы, что у Бонче (тоже человек!) уже при жизни были потухшие глаза и страшно впалые щеки; заметил бы, что, и не навьюченный ношей, он ходит, наклонив голову, как будто еще при жизни высматривает себе могилу. Если бы людей было так же мало, как лошадей, везущих конку, кто-нибудь, может быть, и спросил бы: "А куда это делся Бонче?"
Когда Бонче увезли в больницу, угол, занимаемый им раньше в подвале, не остался незанятым: его уже ждали человек десять таких же, как Бонче, и разыграли угол между собою по жребию. Перенесли Бойче с больничной койки в мертвецкую, – и оказалось, что койки уже дожидаются десятка два больных бедняков. Когда его вынесли из мертвецкой, туда внесли двадцать убитых, отрытых из-под обвалившегося дома. А кто знает, сколько времени он будет спокойно лежать в могиле, сколько человек уже ждет этого клочка земли?
Тихо родился, тихо жил, тихо умер и еще более тихо похоронен.
………………………………….
Не то было на том свете. Там смерть Бонче произвела огромное впечатление!
Большой рог "времен Мессии" затрубил на все семь небес: "Умер Бонче!"
Величайшие архангелы с самыми широкими крыльями перелетали с места на место и сообщали друг другу: "Бонче призван на заседание небесного судилища!" А в раю – радость, ликование, тревога: "Бонче-молчальник! Шутка сказать – Бонче-молчальник!.."
Юные ангелочки с брильянтовыми глазками, золотыми тонкими крылышками и в серебряных башмачках с восторгом полетели навстречу Бонче. Шум крыльев, стук башмачков и веселый смех, срывавшийся с молодых, свежих, розовых губок, наполнили небеса, донеслись до престола Предвечного, и сам Предвечный уже знал, что это идет Бонче-молчальник.
Праотец Авраам стал у врат небесных, протянул руку, чтобы встретить гостя радушным "Мир вам", и мягкая, светлая улыбка разлилась по его старческому лицу.
Что за грохот идет по небу?
То два ангела катят в рай золотое кресло на колесиках для Бонче.
Что это засверкало?
То пронесли золотой венец, украшенный драгоценными камнями, – все для Бонче.
– Как, еще до приговора небесного судилища? – изумленно и не без некоторой зависти спрашивали праведники.
– Вот еще! – отвечали ангелы. – Это ведь будут простые формальности! Против Бонче даже у небесного фискала язык не повернется. "Дело" продолжится не более пяти минут.
Шутка сказать – Бонче-молчальник!..
Когда ангелочки подхватили Бонче в воздухе и спели в честь его гимн, а праотец Авраам потряс ему руку как старому приятелю; когда он услышал, что для него в раю уготовано кресло, что его там ждет венец и что на суде о нем дурного слова не скажут, – Бонче, как и на этом свете, промолчал. Сердце у него сжалось от страха. Он был уверен, что это сон или просто недоразумение.
Он привык и к тому и к другому. Не раз снилось ему при жизни, что он собирает деньги с пола, на котором рассыпаны сокровища, а просыпался еще большим бедняком, чем лег… Не раз люди по ошибке приветливо улыбались ему, говорили ему ласковое слово, а потом, плюнув, уходили.
"Такова уж моя судьба!" – думает он.
И он боится глаза поднять, чтобы сон не исчез, чтобы не проснуться где-нибудь в пещере среди змей и скорпионов. Он боится рот открыть, пошевелиться, чтобы его не узнали и не бросили в преисподнюю.
Он дрожит и не слышит похвал, расточаемых ему ангелами, не видит, как они весело кружатся вокруг него; праотцу Аврааму, ведущему его на суд, не отвечает на его сердечное "Мир вам", а представ перед судилищем, стоит без поклона и приветствия.
Он вне себя от испуга.
И страх его еще больше усилился, когда он нечаянно взглянул на пол в небесном судилище. Настоящий алебастр, выложенный бриллиантами! "И я стою на таком полу?!" Он совсем теряет голову. "Кто знает, за какого раввина, за какого богача или цадика меня принимают?.. Придет тот – и тогда мне худой конец!"
От страха он даже не расслышал, как первоприсутствующий отчетливо произнес: "Дело Бонче-молчальника!" – и, подавая акты ангелу-заступнику, сказал:
– Читай, но вкратце!
Всеобщее внимание сосредоточено на Бонче. У него звенит в ушах, и среди этого звона все яснее слышится ему сладкий голос ангела-заступника, льющийся, как звуки скрипки.
Он слышит:
– Имя это шло к нему, как платье, сшитое на стройную фигуру рукой искусного мастера…
"Что он такое говорит?" – спрашивает себя Бонче и вдруг слышит нетерпеливый голос:
– Только без сравнений!
И ангел-заступник продолжает:
– Ни разу ни на кого не возроптал он, ни на бога, ни на людей. Ни разу в его глазах не вспыхивал огонек ненависти, никогда взор его не обращался с жалобой к небу…
Бонче опять не понял ни слова, а жесткий голос снова прерывает речь:
– Без риторики!
– Иов не выдержал и возроптал, а ведь Бонче был несчастнее…
– Фактов, одних сухих фактов! – еще нетерпеливее кричит председатель.
– На восьмой день над ним совершили обряд обрезания…
– Только без реализма!
– Обрезала-неуч не остановил кровотечения…
– Дальше!
– А он все молчал, – продолжает защитник. – Молчал и тогда, когда в тринадцать лет потерял мать и приобрел мачеху… мачеху – змею злейшую…
"Так это же действительно говорят обо мне?" – думает Бонче.
– Прошу без инсинуаций по адресу третьих лиц, – сердито говорит председатель.
– Она дрожала над каждым куском… давала ему черствый, заплесневелый хлеб… мочалу вместо мяса… а сама пила кофе со сливками.
– К делу! – кричит председатель.
– Зато пинков она ему не жалела, а его покрытое синяками тело сквозило в прорехах старой, сгнившей одежды… Зимою она, в самые сильные морозы, заставляла его, босого, дрова рубить на дворе. Руки его были еще малы и слабы, поленья слишком толсты, топор слишком туп… Не раз случалось ему вывихнуть себе руку или отморозить ноги… но он все молчал, скрывая все даже от отца…
– От отца-пьяницы! – вставляет со смехом фискал.
Бонче весь холодеет.
– И не жаловался, – заканчивает защитник.
– Всегда он был одинок, – продолжает он, – не знал ни друга, ни товарища, ни хедера… ни целого платья… ни свободной минуты…
– Фактов! – еще раз восклицает председатель.
– Он молчал даже тогда, когда однажды пьяный отец схватил его за волосы и в трескучий мороз вышвырнул из дому. Он молча поднялся со снега и убежал, куда глаза глядят…
Всю дорогу он непрерывно молчал. Во время самого лютого голода просил одними глазами…
Туманной, влажной весенней ночью попал он в большой город. Он был там лишь каплей в море. И первую же ночь он провел в полицейском участке… Он молчал, не спрашивал – за что? По выходе оттуда стал искать самой трудной работы, – и все молчал…
Он молчал, хотя найти работу было еще труднее, чем выполнить ее…
Обливаясь холодным потом, согнувшись под самой тяжелой ношей, с судорогами в пустом желудке, – он молчал…
Он молчал, обрызганный чужой грязью, оплеванный чужаками, с ношей на спине, гонимый с тротуаров на мостовую – к лошадям, экипажам и трамваям, глядя поминутно смерти в глаза…
Он никогда не считал, сколько пудов носит он на себе за один грош, сколько раз он падал, напрягая все силы за копейку, сколько раз он чуть ли не выплевывал душу в ожидании своего заработка.
Он не проводил сравнения между своей и чужой долей – он все молчал…
Даже своего собственного заработка он никогда не требовал громко. Как нищий, становился он у дверей, и в глазах его светилась мольба голодной собаки. "Приходи потом", и он исчезал тихо, как тень, чтобы потом еще тише выклянчивать свой заработок…
Молчал он и тогда, когда урывали, сколько хотели, от его заработка или при уплате сбывали ему фальшивую монету. Он все молчал…
"Так это же действительно говорят обо мне!" – утешает себя Бонче.
Глотнув воды, защитник продолжает:
– Однажды в его жизни произошла перемена. Разгоряченные лошади несли по улице карету на резиновых шинах. Кучер уже давно лежал на мостовой с раздробленным черепом. С губ испуганных лошадей била пена, из-под копыт искры сыпались, глаза у них сверкали, как пылающие факелы в темную ночь, – а в коляске сидел человек ни жив, ни мертв.
И Бонче удержал лошадей.
Спасенный оказался щедрым благотворителем и не забыл благодеяния Бонче.
Он передал ему кнут убитого кучера, и Бонче стал кучером. Больше того – он женил его. Еще больше – он же его и ребенком наградил.
А Бонче все молчал…
"Обо мне говорят, обо мне", – окончательно убеждается Бонче, но вое же не осмеливается взглянуть на судей.
И он продолжает слушать речь защитника:
– Он молчал и тогда, когда благодетель обанкротился и не уплатил ему жалованья.
Молчал тогда, когда жена ушла от него, оставив ему грудного ребенка.
Молчал и пятнадцать лет спустя, когда ребенок вырос и достаточно окреп, чтобы выгнать его, Бонче, из дому…
"Обо мне говорят, обо мне!" – радуется Бонче.
– Он и тогда молчал, – продолжает кротким, печальным голосом защитник, – когда его благодетель уплатил всем, а ему не дал ни гроша; и даже тогда, когда этот самый благодетель, снова разъезжая в карете на резиновых шинах, запряженной кровными рысаками, переехал, раздавил его.
Он молчал. Он даже не назвал полицейскому имени того, кто его искалечил.
Он молчал и в больнице, где кричать разрешается.
Молчал, когда доктор не соглашался без пятиалтынного подойти к нему, а сторож – без пятака переменить на нем белье.
Он молчал во время агонии – умирал молча…
Ни слова протеста против бога, ни слова – против людей!.. Я кончил.
Бонче снова дрожит, как в лихорадке. Он знает, что после защитника говорит обвинитель. Как знать, что тот скажет?! Бойче сам не помнил всех событий в своей жизни, – еще на том свете он сейчас же забывал все, что с ним случалось. Вспомнил ведь защитник все, а кто знает, что может вспомнить обвинитель!
– Господа! – начинает обвинитель сухим, язвительным голосом – и обрывает.
– Господа! – начинает он опять, но уже более мягким голосом – и снова останавливается.
Наконец он говорит совсем мягким, идущим от сердца голосом:
– Господа! Он молчал, буду и я молчать!..
И вдруг среди наступившей тишины раздается новый голос, мягкий и дрожащий:
– Бонче, сын мой, Бонче! – звенит голос, как арфа. – Дорогое дитя мое!
К сердцу Бонче подступают рыдания. Теперь он уж хотел бы раскрыть глаза, но слезы мешают ему.
Никогда еще не испытывал он такого нежного и грустного чувства… "Сын мой", "Бонче мой"… Не слыхивал он этих слов с тех пор, как умерла его мать,
– Сын мой! – продолжает верховный судия, – ты все время терпел и молчал. На твоем теле нет живого места, везде раны, везде кровь, – в душе нет уголка, где не сочилась бы кровь… а ты молчал.
Там этого не понимали. Ты и сам, быть может, не знал, что можешь кричать и что от твоего крика стены Иерихона могут поколебаться и обрушиться! Ты сам не знал дремавшей в тебе силы.
На том свете тебя не вознаградили за молчание, на то и земной мир, лживый и неправедный. Здесь же, в царстве справедливости, тебе воздадут должное.
Судьи не будут судить тебя, не изрекут определенного решения. Скажи сам, чего ты хочешь. Тебе принадлежит все!
Бонче впервые поднимает глаза. Он поражен ослепительным блеском, разлитым кругом. Тут все искрится, сверкает, отовсюду бьют потоки света, – от стен, от предметов, от ангелов, от судей… Сплошь ангелы-архангелы!
И он опускает усталые глаза долу.
– Это… серьезно?.. – спрашивает он растерянно.
– Разумеется! – убеждает его верховный судия. – Повторяю: все – твое, все в небе принадлежит тебе! Выбирай и бери все, что пожелаешь. Ты берешь у самого себя!
– Действительно?.. – спрашивает Бонче уж несколько более твердым голосом.
– Разумеется! Разумеется! – отвечают ему со всех сторон.
– Ну, если так, – заявляет, улыбаясь, Бонче, – то я хочу иметь ежедневно утром горячую булку со свежим маслом!..
Судьи и ангелы в смущении опускают глаза. Фискал хохочет.
Штраймл
1894
Перевод с еврейского А. Брумберг.
По ремеслу я шапочник, но специальность моя – штраймл. Главный же мой заработок – от мужицких сермяг и рабочих полушубков. Иной раз ко мне заглядывает и мельник Лейб со своей енотовой шубой.
Правда, шить штраймл случается редко, очень редко. Ибо кто же носит теперь штраймл? Раввин разве. И штраймл эта всегда переживает раввина…
Правда и то, что если и случается шить штраймл, то либо совсем даром, либо за полцены. В лучшем случае труд мой не оплачивается. Все это верно, и тем не менее специальность моя – штраймл, ибо шить штраймл я люблю.
Когда она попадает мне в руки, я молодею – лишь тогда я чувствую, кто я такой и на что я способен!
И то сказать, какие еще у меня радости в жизни?
Когда-то мне доставляла удовольствие мужицкая сермяга…
Во-первых, почему бы и нет?
Во-вторых, я так думал: "Мужичок дает нам хлеб, работает летом до изнурения, – и я не могу защитить его от зноя. Буду же я его хоть во время зимнего отдыха защищать от холода".
А в-третьих, была у меня на этот случай прекрасная песенка. Был я молод, голос у меня был, что твой колокол, бывало, шью и распеваю:
И в том же роде еще несколько куплетов. И вся эта песня была, разумеется, сочинена мной ради последних слов: «Эх, винца б глоток!»
Ибо, надо вам знать, нынешняя смиренномудрая раба божия Мирьям-Двоше тогда еще не была богомольной святошей. Она не звала меня, как теперь, "Берл-Колбаса", а только "Береле", а я ее – "Миреле". И любились же мы, грешным делом! Чуть, бывало, услышит заключительный куплет моей песенки, тотчас же подает мне вишневки. Вишневка сильно действует на кровь, и я, бывало, тут же ухвачу ее за платье, горячо поцелую в алые, как черешни, губки и, вдвойне освеженный, принимаюсь опять за сермягу…
Теперь – прощай, черешенки!..
Я – Берл-Колбаса, а она – Мирьям-Двоше…
Узнал я также, что земли мало, а мужиков много, говорят даже, слишком много; что "лишние" мужики терпят голод, что даже с шести моргов земли жить невозможно; что поэтому мужику и зимою не до отдыха. Тогда начинается извоз. Да, хорош у него отдых зимою! По целым дням и ночам возит он пшеницу к Лейбе на мельницу. Как вы думаете, могу я радоваться, когда сермяга моя, плод работы моей, мокнет всю зиму, волочась в хвосте у пары дохлых кляч, которые везут хлеб мельника Лейба за тринадцать грошей с мешка на расстоянии пяти миль!
А велика ли, подумаешь, радость от полушубка рабочего?
Всю зиму этот полушубок волочит муку на мельницу Лейба, а лето все заложен в шинке за гроши. Осенью, когда он попадает ко мне в починку, я хмелею от сивушного запаха.
А когда уж попадает ко мне во всем своем великолепии "сама" енотовая шуба мельника Лейба, думаете – много радостей доставляет она мне?
Она-таки енотовая шуба, вещь важная, и в местечке ей большой почет, но мне-то от этого пользы мало.
Скверную привычку приобрел я – что бы я ни увидел, над всем задумываюсь: отчего? почему? и не может ли быть иначе? И потому, как только в мои руки попадает шуба Лейба-мельника, я начинаю думать:
"Владыка мира! Зачем это ты создал столько родов шуб? Почему у одного енотовая шуба, у другого – полушубок, у третьего – сермяга, а у четвертого и совсем ничего нет?
И лишь только начинаю думать, я весь ухожу в свои мысли, и игла падает из рук. А смиренномудрая Мирьям-Двоше швыряет мне в голову, что под руку попадется… Она желает, чтобы "Берл-Колбаса" меньше думал и больше работал.
Но что же мне делать, когда я должен думать? Когда я все-таки знаю, что Лейб-мельник лишь тогда дает делать новый верх для своей енотовой шубы, когда ему удается сорвать по грошу с мешка у сермяги и по грошу с пуда у каждого полушубка?
Ну, этому ли мне радоваться?
Ах, чуть было не забыл!
Подвернулся мне как-то осенью совсем особенный заказец, и чего только не придумают женщины! Входит это Фрейдл, староста у женщин, в каких-то чудовищно громадных рукавицах; вглядываюсь – да ведь это пара мужицких сапог. Я думал, лопну со смеху.
– Доброго утра! – говорит она своим сладеньким голоском. – Доброго утра, Береле!
Она подруга моей жены. Подобно всем, она называет меня обыкновенно "Берл-Колбаса". И вдруг – "Береле"! И так это сладенько, хоть варенье вари. Догадываюсь, что у нее какая-нибудь просьба ко мне…
Я думал, что она стащила эти сапоги с крестьянской телеги (ведь это не хуже, чем мелочь из кружки) и хочет их спрятать у меня, и поэтому спрашиваю ее строго:
– Чего вам?
– Сразу серчать! – отвечает она еще слаще (просто мед изо рта старуха точит). – Сразу "Чего вам?" А где твое "Здравствуйте"?
– Пусть будет "Здравствуйте"! Пожалуйста, короче!
– Чего ты торопишься, Береле? – улыбается она еще умильнее. – Я пришла спросить, не найдется ли у тебя несколько кусочков кожи?..
– Ну, а если есть?
– Я бы тебе предложила кое-что.
– Ну? Что там? Говорите!
– Если б ты был добрым! Береле, ты подшил бы мне вот эти сапоги. У меня было бы в чем пойти к слихос, и ты без большого труда сделал бы богоугодное дело.
Вы понимаете – дело! Почти задаром богоугодное дело!
– Вы ведь знаете, – говорю я ей, – что "Берл-Колбаса" не занимается богоугодными делами…
– Что ж, ты с бедной женщины возьмешь деньги?..
– Нет, не деньги! Вам это будет стоить совсем пустяк: я вам подошью сапоги, а вы мне расскажите грехи своей молодости…
Не согласна… что ж, отослал ее к переплетчику.
Сапоги подшивать! Мне уж и так жизнь опротивела. Вам смешно? Право же, когда у меня нет заказа на штраймл, мне все противно. И то сказать, зачем я работаю? Чтобы только набить свою грешную утробу? И чем? Хлебом с картошкой, хлебом без картошки, а часто и картошкой без хлеба. Стоит того!
Верьте мне, когда человек работает пятьдесят лет и изо дня в день пятьдесят лет ест картошку, – жизнь обязательно должна ему опротиветь; ему должна, наконец, притти мысль: или себе конец, или Лейбу-мельнику! И если я все же продолжаю спокойно есть свою картошку и работать, то этим я опять-таки обязан штраймл!
Попадется мне штраймл в руки, и кровь с новой силой начинает течь в моих жилах, тогда я знаю, для чего я живу!
Сидя над штраймл, я как бы чувствую, что держу в руках своих птицу, и вот раскрою руку – и птица взлетит высоко-высоко, чуть глаз видит!
А я буду стоять и наслаждаться: "Это моя птица! Я ее создал, я ее ввысь пустил!"
В городе я, милостию божией, никаким влиянием не пользуюсь: на общинные заседания меня не приглашают, а самому лезть – так я ведь не портняжка какой-нибудь! И на улицу я почти не показываюсь. У меня нет определенного места ни в синагоге, ни в молитвенном доме, ни даже в частной молельне. Словом, круглое ничтожество…
Дома царство моей благоверной. Не успею рот раскрыть, как она уже осыпает меня проклятьями. Она, видите ли, заранее знает все, что "Берл-Колбаса" намеревается сказать, что он думает, – и пошло кипеть.
Ну, что я? Ничто! А вот выйдет из рук моих новая штраймл – и вся община предо мною преклоняется! Я сижу дома и молчу, а моя штраймл раскачивается на почетном месте, где-нибудь на свадьбе, при обряде обрезания, или на каком-нибудь другом благочестивом празднестве. Она возвышается над всей толпой на общественных выборах, на судебном заседании раввината.
И когда я вспоминаю о всем этом почете, сердце мое преисполняется радости!
Напротив меня живет позументщик. Я, право, не завидую ему…
Пусть его эполета или погон осмелятся заявить: "Этот бык – трефной, тот – кошерный". Хотел бы я это посмотреть! А захочет моя штраймл, так и целых четыре быка подряд объявит трефными: мяснику тогда крышка, служащим его – хоть с голоду помирай, для евреев в городишке – новый пост, а сотня казаков в эти дни получит мясо по шести грошей за фунт. И все тут! Никто и слова не скажет.
Вот это – сила!
Не помню я разве? В прошлом году был падеж овец. Рассказывали, будто овца начнет эдак странно кружиться, кружиться, затем голову закинет и падает замертво. Сам я этого не видел. Кружились ли там овцы, нет ли, но Янкелю-мяснику наверно уж досталась дешевая баранина.
Ветеринарный врач приехал тогда и заявил: "Треф!"
Но кто его там слушает?.. Привел он с собой эполеты четырех родов и двух родов погоны, и вот у них из-под носу стащили мясо, и еще на третий день все местечко имело к ужину дешевую баранину.
У моей штраймл не крадут. Не нужно эполет, не нужно погонов. Сама она даже с места не стронется. Но пока она не скажет: "Ешь!" – ни один рот не откроется во всем местечке.
Вы, может, думаете, что вся сила в том, что находится под штраймл? Ничего подобного.
Вы-то, пожалуй, не знаете, что под нею, а я, слава богу, хорошо знаю.
Особа эта была, благодарение господу, меламедом в еще меньшем местечке, чем наше, и мой отец, мир праху его, прежде чем убедиться, что из меня никакого толку не выйдет, посылал меня учиться к этому меламеду. Подобной бездарности еще свет не видывал. Настоящий меламед!
Обыватели, заметив, что в денежных делах он ничего не смыслит, тотчас же сократили ему плату наполовину, а оставшееся платили ему стертыми двухкопеечными монетами, которые принимались им за трехкопеечные, или фальшивыми двугривенными. Благоверная его, видя, что добром она ничего с ним не поделает, принялась выщипывать ему бородку.
И винить ее тут нельзя. Во-первых, хлеба недоставало; во-вторых, женщина вообще любит пощипывать; в-третьих, бороденка уж у него была такая, так и просилась, чтоб ее пощипывали; до того просилась, что даже мы, ученики его, едва удерживались, чтобы не пощипать ее; а иной раз не утерпишь, залезешь это под стол и вырвешь волосок из бороденки.
Ну может ли эдакое создание иметь вес?
Может, вы думаете, он со временем изменился?
Куда там! В нем не произошло ни малейшей перемены. Те же маленькие, потухшие, гноящиеся глазки, вечно блуждающие, испуганные.
Правда, нужда свела в могилу его первую жену. Ну и что же, разница-то какая! Дерет его теперь за бородку другая, – и только. Ведь бородка-то сама просится, умоляет, чтоб ее пощипывали. И, право, удержаться от этого трудно! Даже мне, чуть увижу ее, стоит большого труда не ущипнуть.
Но что же произошло? Только-то всего: я сшил ему штраймл!
Должен чистосердечно признаться: почин тут был не мой. Мне это и в голову не пришло бы. Заказала община, я и сшил. Но чуть община узнала, что штраймл, которую мне заказали, которую я, "Берл-Колбаса", сшил, приезжает, что она – за версту отсюда – как вся община кинулась за город в великом весельи и с парадом. Бежал стар и млад, больные повыскочили из кроватей. Выпрягли лошадей, и все разом захотели запрячься и повезти мою штраймл. Бог знает, какие стычки произошли бы из-за этого, какие бы тут были оплеухи, какие доносы! Нашлась, однако, умная голова, которая посоветовала устроить аукцион. И Лейб-мельник дал восемнадцать раз по восемнадцать злотых, за что получил почетное право впрячься первой лошадью!
Ну, видите, какова сила моей штраймл!
Моя смиренномудрая обзывает меня не только «Берл-Колбаса», но еще и сластолюбцем, и наглецом, и похабником, и всем, что только на язык придет ей.
Конечно, человек не свинья – люблю красное словцо, люблю шпильку подпустить Лейбу-мельнику в глаза и за глаза… Люблю также, нечего греха таить, поглядеть на служаночек, что берут воду из колодца напротив, – они ведь не коген пред аналоем.
Но, верьте мне, не это поддерживает во мне желание жить. Меня только одно утешает: выйдет иногда из рук моих новый идол на свет божий, и все перед ним, перед "делом рук моих" преклоняются!..
Я знаю, что когда моя смиренномудрая бросает мне ключи через стол, то она это делает по приказанию моей штраймл[2]2
В определенные периоды к женщине запрещено прикасаться; в это время ей запрещено даже передавать что-либо мужу из рук в руки.
[Закрыть]. Меня она и слышать не хочет, но штраймл моей она должна слушаться!
Возвращается она из мясных рядов накануне праздника или субботы без мяса и проклинает мясника, – я знаю, что мясник ничуть не виноват: то штраймл моя не дает ей сегодня делать кугл.
Берет она совсем еще хороший горшок и выбрасывает его на двор, и я знаю, что это штраймл моя вышвырнула горшок. Берет она кусок теста, бросает его в печь, поднимает руки и закатывает глаза к потолку, – я прекрасно знаю, что потолок ровно ничего из всего этого не понимает, и этот кусок теста сожгла моя штраймл!
И при этом я знаю, что моя смиренномудрая супруга не единственная в общине, а община – не единственная у бога; в общине много таких правоверных жен, а у бога много, очень много таких общин. И моя штраймл повелевает всеми миллионами миллионов правоверных жен!
Миллионы ключей бросают через стол, миллионы женщин не делают кугла, миллионы горшков разбиваются вдребезги на мостовых, а сжигаемыми кусками теста я взялся бы прокормить полки, легионы нищих!
И кто все это делает? Все моя штраймл, – дело рук моих!
Перейдем опять к позументщику. Вот он сидит напротив моего окна. Лицо его лоснится, точно его салом смазали.
Чего он сияет? Чего так искрятся его глазки?
Он скрутил пару золотых погонов.
Во-первых, мы прекрасно знаем, что такое золото и что мишура. Во-вторых, мне известно, что пара погонов имеет под своим началом в десять раз больше солдат, чем енотовая шуба Лейба – сермяг и полушубков. И все же пусть вот попробует самый крупный золотой погон издать приказ: "Десять быков зарежь и только полбыка вари!" "Помирай с голоду, имей посуду четырех родов, а вымя ешь на опрокинутой тарелке!" "От каждого куска пищи брось часть в огонь и в воду!" Или: "Каждый жених обязан предварительно показать мне свою невесту, а каждая невеста – своего жениха!" "Со мною – всё, без меня, хоть тресни, – ничего!"
Крупнейшая генеральская эполета не отважилась бы и мечтать о чем-либо подобном. А если бы и решилась, то всю страну пришлось бы наводнить солдатами: у каждой кровати – хотя бы по паре казаков, чтобы караулили друг друга, а оба вместе – кровать. И сколько было бы при этом обмана, краж, контрабанды! Господи, если бы мне столько добра иметь!..
А моя штраймл делает все это тихо и благопристойно, без нагаек, без казаков.
Я себе спокойно сижу дома и знаю, что без разрешения моей штраймл ни один Мейшеле не дотронется ни до какой Ханеле, даже взглянуть не посмеет – боже упаси!
И, наоборот, пусть моя штраймл навяжет Мейшеле или Ханеле бог весть какую несуразность, – тут хоть ложись и помирай! Не отделаться им друг от друга, разве вместе с жизнью. А если не хочешь так долго ждать, ходи, проси, кланяйся той же самой штраймл: "Штраймеле, спаси! Штраймеле, разбей мои оковы, выпусти меня из темницы!"
В конце улицы находится шинок.
С тех пор как моя благоверная сделалась "старостой у женщин" и перестала приготовлять для меня вишневку, я время от времени заглядываю туда, чтобы подкрепиться, особенно в посты. Не обязан же я, в самом деле, поститься: ведь штраймл все-таки моей работы!..
Шинкаря я уже давно знаю. И он одними заповедями божьими да добрыми делами не живет… Но не в этом дело.
Были у шинкаря две дочки. Две сестры от одного отца и матери. Что я говорю – близнецы, ей-богу, – не отличишь одну от другой. А парочка была милая – хоть молись на них!
Личики – что яблочко на детских флагах в симхас-тору; благоуханны – что сосуд с ароматами; стройны – что пальма; а глаза – спаси меня бог и помилуй! Взглянут, – точно алмаз сверкнет! И благонравные! В шинке, кажется, и все же далеко от шинка. В ковчеге Завета их не воспитали бы лучше.
В шинке родились, а настоящие королевы. Ни один пьяница не осмеливался произнести при них непристойное слово, – ни один стражник, ни один акцизный. Попади в шинок даже самая важная персона, и то бы, кажется, не осмелилась ущипнуть которую-нибудь из них в щечку, не дерзнула бы дать волю не только рукам, но и глазам, даже помыслам своим. Я готов был сказать, в них таилось больше силы, чем в моей штраймл. Но это было бы грубой ошибкой. Моя штраймл оказалась сильнее их, в тысячу раз сильнее!
Близнецы – они не показывались одна без другой. Если у одной что-нибудь болело, то и другая страдала вместе с ней. И все же как быстро разошлись их дороги…
Совершили они одно и то же, чуть-чуть различно, а вот поди же…
Обе они как-то переменились сразу: и веселье и печаль – все не попрежнему. Я не могу вам объяснить, что с ними стало. Слова как будто на кончике языка, а не могу их выговорить… Куда мне, неучу!.. Они стали как-то более сосредоточены, ушли в себя, и в то же время – и печальней, и обаятельней прежнего…
Известно было, кто был причиной тому: указывали пальцами на двух Мейшеле, благодаря которым обе Ханеле стали еще милее, добрее, обаятельней и даже выросли как-то…
Э, да ведь я другим языком заговорил, совсем не подобающим шапочнику! Даже слеза прошибла, совсем это мне не по летам. Смиренномудрая моя опять скажет: "сластолюбец!"
Но я не долго буду распространяться.
Обе сестры совершили одно и то же, точь-в-точь: недаром же они были близнецами…