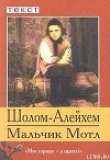Текст книги "Рассказы и сказки"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Засыпали могилу, слова заупокойной молитвы подсказывали сиротке лишь несколько оставшихся меламедов; но и они спешат домой, в хедер: ученики их там, наверное, уже все вверх дном перевернули.
Дощечку с надписью: "Здесь погребен…" – временный памятник, который, наверное, так и останется здесь навсегда, – ставит над могилой Иона Бац, посылая тяжкие проклятия по адресу почтенных граждан города… Силы у человека истощились, все соки высосали и выбросили, как кожуру выжатого лимона.
Носильщики запирают кладбище.
До города с версту пути. Солнце уже близится к закату. В город вернутся как раз к предвечерней молитве. Может быть, удастся еще водки глотнуть. За работу сесть уж не придется. Идут поэтому медленно, словно отсчитывая каждый шаг, и проклинают почтенных граждан города за их жестокосердие.
Не только в отношении меламедов ведут они себя так отвратительно… А как обращаются они с беднотой вообще, а в особенности с ремесленниками!
И тут они сразу же забывают о покойнике, переходят к делам житейским: бедняки состоят членами братства носильщиков, а над ними – почтенные граждане из погребального братства. "Носильщики" работают до изнеможения, а деньги забирают члены погребального братства и раздают их родственникам старосты, нескольким бездельникам, подхалимам… Разве с мнением ремесленников когда-либо считаются в городских делах! Кто принимает кантора? Именитые граждане! Ничего они в пении не смыслят: не разберутся, где настоящая трель, а где крик петуха; понятия не имеют, что такое "волах". И все же именно они, эти толстопузые, принимают кантора! Кто назначает резника? Они же: глава общины Шмерл (да сгинет имя его!). Все три резника – его родственники! Пора бы уже взбунтоваться против всего этого, но вот беда: как раз сейчас дороговизна… Иона Бац хотел было приступить к закупке провизии для пирушки, устраиваемой ежегодно братством, но цены оказались такими, что не приступись! А когда жизнь дорога, тут у ремесленника смелости не хватает…
От разговора о пирушке перешли к прошлогодним и нынешним выборам должностных лиц общины. Выборы эти проведены были далеко не честно – никак они не могут не смошенничать…
А бедняжка-сирота плетется там позади, забытый, испуганный… Глаза расширены, бледное личико в подтеках от слез, которые текут по грязным щечкам… Губы еще дрожат от притихшего только что плача… Он даже голода не чувствует, хотя решительно ничего не ел сегодня.
Но у детей печаль долго не длится. Внимание мальчика привлекли камни по краям шоссе, – пройдешь немного, и вот тебе камень на маленькой кучке земли, обложенной травой. Издали чудится, будто каждый камень глядит на тебя огромным глазом. Подойдешь поближе – оказывается, на камне большой круг с цифрой посредине. Зачем и кому нужны эти камни, – мальчика не интересует. Но вот перепрыгнуть через такой камень надо попробовать. Он пробует, и ему это удается. И вот он уже бежит навстречу второму камню, прыгает через него еще ловчей, несется дальше, пока не забегает вперед, обгоняет "носильщиков".
– Гляди, гляди, сиротка-то!
– Босой, бедняжка, – замечает Иона Бац со вздохом.
– И у моих сапожек нет, – отвечает шапочник Гешель.
– Зато отец-мать есть, – говорит Иона Бац.
– Фьюить! – свистит Берл-кондитер, что должно означать: много могут отец с матерью помочь, если заработка нет.
Смеркается. В поднебесьи появляется целая туча ласточек. Воздух наполняется птичьим гомоном, шумом крыльев; там кувыркаются, щебечут, гоняются друг за дружкой. Несколько ласточек снижается, играя; вот оторвалось от стаи еще несколько – кружатся, и с каждым кругом они все ниже, ниже… Мальчик останавливается и, раскрыв рот, смотрит на ласточек, из горла у него вырывается какой-то странный звук. Ему хочется закричать по-птичьи. Ножки у него топочут, приплясывают, точно он собрался полететь за ними. Поглядывая на веселую птичью ораву туда, наверх, он в радости хлопает ручонками. Вдруг он хватает несколько камешков и целится в ласточек, которые опустились совсем низко.
– Ведь только что читал заупокойную молитву! – с горечью говорит Гешель-шапочник. – Стоит рожать и воспитывать…
– Да что тебе ребенок понимает! – возражает Иона Бац.
– Теленок, – замечает Гешель, – и тот мычит, когда корову забирают…
– Корова, – говорит кондитер, – мать, а не отец. А мальчик не теленок.
Иона Бац подзывает мальчика:
– Иди-ка сюда, парнишка!
Как ни ласков голос у Ионы Баца, сиротка все же затрепетал весь. Радость, улыбка исчезли с его личика. Вместо этого на лице появилось выражение тупого страха. Он неохотно приблизился. Иона Бац взял его за руку.
– Идем, мальчик… Я отведу тебя домой.
– Откуда у пса бездомного конура? – пошутил кондитер.
Иона Бац задумался. Ручки мальчика он, однако, из своей не выпускал.
В молчании приблизились к городу.
Они и не заметили, что мальчик ударился о камень и подпрыгивает сейчас на одной ножке.
Со страху он даже не охнул.
Иона Бац и его приятели
На самом краю города, где улочки разветвляются: направо – к синагоге, налево – к маленькой молельне братства носильщиков, Иона останавливает своих приятелей и озабоченно спрашивает;
– Что же делать с сиротой?..
– Женить его, – шутит, по своему обыкновению, кондитер.
– Поведи его в синагогу! – говорит шапочник Гешель.
– И все?
– Тебе мало своих ребят? – спрашивает кондитер.
– Пусть наши почтенные граждане позаботятся о нем, – говорит шапочник.
– Ай! – свистит Иона Бац, – вы помните мальчика сумасшедшей Ханы… Где он теперь?
– В тюрьме, – равнодушно отвечает кондитер.
– Ему там лучше, чем моим дома, – вздыхает Гешель.
– Эх, вы! – серьезно говорит Иона. – Грешно вам так говорить!
– Так что же? – спрашивают оба.
– Послушайте, – говорит Иона изменившимся голосом. – Сиротка остался с нами… Это неспроста… Видно, так суждено.
– Еще чего?
– Нет, вовсе не "еще чего"! Почему он ни с кем не пошел домой, а остался с нами?
– Мы остались последними…
– Это все по воле божьей. За сиротами там, в небесах, следят… Нельзя нам его оставлять…
Оба приятеля пожимают плечами… Что это сталось с Ионой? Что-то он чересчур серьезен нынче, чересчур благочестив. Совсем непохож на обычного Иону. Все же они мельком бросают взгляд на ребенка и содрогаются: запуганный, дрожащий птенец; душа болит.
– Как тебя звать, мальчик? – мягко спрашивает кондитер.
– Довидка, – еле произносит ребенок.
– Так что же? – снова спрашивает Иона.
Они молчат.
– Посоветуйте что-нибудь! – умоляет их Иона.
Но приятели уже отвернулись и не глядят на сироту.
– Возьми его к себе, – говорят оба, не подымая опущенных в землю глаз.
– А моя жена?
Они молчат. Всем известно, что дома у Ионы власть у Сореле в руках. Стоит только долговязому Ионе вспомнить, что надо идти домой, как он сразу становится печальным, опускает голову. Подойдет к двери и, раньше чем взяться за ручку, стоит некоторое время в раздумьи – нельзя ли куда-нибудь уйти хоть еще на миг. А если уж некуда, опустит голову еще ниже и войдет. Дома ходит он согнувшись в три погибели… Речистый Иона, первый весельчак на любой пирушке, вожак в любой молельне, мастер выпить и в морду дать; Иона, которого боится раввин, вся община, – дома тише воды, ниже травы… Там он совершенно неузнаваем!
– Она бы мне всю жизнь отравила! – говорит Иона. – Она и своим дышать не дает, – заканчивает он со вздохом.
– Где же ты, шут бы тебя побрал?..
– Ну, что поделаешь с бабой?..
Приятели молчат. Действительно: что поделаешь с бабой? Какому-нибудь почтенному гражданину, если чересчур надоест, можно и морду набить; раввину – ответишь грубо, он уползет, как в мышиную нору… А баба с ее воем да с ноготками… Нет, тут ничем не поможешь!
– Знаешь что, Гешель, – точно пробудившись ото сна, говорит Иона, – возьми ты его к себе!
– Ты с ума спятил! У меня для своих хлеба нет… Знаешь ведь, какие нынче заработки!
– Я полагаю – за плату…
– А кто платить будет?
– Сколько ты хочешь в неделю?
– Ну хоть бы рубль в неделю, – отвечает Гешель. – Но кто же будет платить? – продолжает он.
Всем известно, что узелок с деньгами находится у Сореле, а не у Ионы, она ему подчас и на рюмку водки не даст. Хоть зарабатывает он, слава богу, неплохо: плотник хороший.
– А если наши именитые будут платить? – спрашивает Иона.
– Ого, так и жди их!
– Они обязаны платить! – топает Иона ногой.
– Иона! – говорит кондитер, – брось ты это! Зачем тебе ввязываться в общественные дела? Давно в городе распри не было? Хочешь снова огонь разжечь?
Гешель советует то же самое:
– Давай сиротку, я отведу его в синагогу.
– Я его сам отведу, – твердо заявляет Иона.
– Ах, ты уже привязался?
Оба приятеля пожимают плечами и уходят.
Иона стоит некоторое время в раздумьи, потом кричит им вслед:
– Гешель, так помни: рубль в неделю!
– Я помню! – отвечает Гешель уже издали.
– Бес какой-то вселился в него, упаси господи, – говорит кондитер.
– Ну, знаешь, жаль все-таки, – отвечает Гешель.
– Конечно, жаль, – повторяет кондитер, – но я тебе вот что скажу: жалость – дорогое удовольствие для бедняка!
Они сворачивают в переулок и заходят в первый попавшийся шинок хватить по рюмке.
А Иона все еще стоит на том же месте и держит сироту за руку. Он все еще раздумывает.
В синагоге между предвечерней и вечерней молитвами
– Что ты тут делаешь, Ионочка? – спрашивают у Ионы, завидя его в синагоге между предвечерней и вечерней молитвами.
Но в городе, слава тебе господи, тихо. Поэтому люди, успокоенные, проходят мимо, не выпуская изо рта чубука; или же соберутся в кружок, толкуют. Потолковали тут уже об Авигдоре, наговорили всякого добра, что только возможно было. Потом! перешли к базарным ценам, к распродажам, к политике. Об эмиграции люди тогда еще не знали.
К сиротке отнеслись сегодня несколько лучше. Заметят его, остановятся на секунду, вздохнут, а иной и по шапчонке погладит.
Но вот вдруг поднялся шум. Все взоры обратились к столу посреди синагоги. Иона там. Мальчика он поставил на стол. Ребенок заплакал, ему хочется слезть со стола или хотя бы сесть. Ему боязно стоять так высоко над всеми. Но Иона не пускает его. Удерживая его за воротник капотки, он старается его успокоить.
– Тише, Довидка, – шепчет он ему, – тише, я стараюсь ради твоего блага!
Мальчик всхлипывает, но уже несколько тише.
Со скамей у восточной стены, у которой сидят именитые горожане, доносится голос:
– Ногами на стол! Сойди сию же минуту, балбес!
Иона узнает голос говорящего и отвечает спокойно, но твердо:
– Не бойся, Рувимка, не бойся, благочестивая душа! Сиротка босиком стоит. Сапожек у него давно уже нет.
И, возбужденный своими же словами, добавляет сердито:
– И он будет тут стоять, пока его не обеспечат всем!
Прихожане, заинтересованные, молчат.
– Ему, правда, трудно стоять, – продолжает Иона, – он босиком был на кладбище, поранил себе ножку. Но стоять он все же должен, уважаемые! Должен, потому что он сирота и нуждается в том, чтоб о нем позаботились.
– Погляди-ка на этого благодетеля, – отзывается кто-то сбоку.
– Приступайте к молитве! – кричит другой.
– Кантор, к аналою! – командует староста.
Иона ударяет кулаком по столу так, что по всей синагоге гул идет. Близко стоящие отскакивают в сторону. Даян, реб Клонимус, который стоит тут же у стола, прикрыв руками худое, измученное от частого недоедания лицо (он тем временем успел уже повторить свой ежедневный урок из талмуда), открывает его. В его серых выцветших глазах глубокая немая печаль.
– Иона, – шепчет он, – не надо насилия!
– Молиться не будут! – кричит Иона и хватает подсвечник со стола.
Староста снова садится на свое место, кантор останавливается, не дойдя до аналоя, а Иона говорит, повернувшись к реб Клонимусу:
– Ребе, – говорит он ядовито, – вы думаете – они молиться хотят! Ничего подобного! Они об ужине заботятся. Жены уже готовят им там ужин! Будет горячий бульон со свежими бубликами, жирный кусок мяса с вкусным красным хреном, а может быть, еще и сладкая морковь! А сиротке есть нечего!
– Не твое дело! – кричит кто-то, спрятавшись за кучкой прихожан. Реб Клонимус снова закрывает лицо костлявыми руками, а Иона отвечает:
– Нет, это мое дело! Вы, как крысы, разбежались с похорон, а мне вы оставили сироту! Это не ваша воля была, это воля божья. Господь неспроста так сделал. Ему известно, что чувство справедливости есть только у бедняка, что Иона Бац не бросит сироту на произвол судьбы!
Мальчик начинает понимать, о чем идет речь. Он подымает голову, кладет правую ручку Ионе на плечо и стоит, опираясь о него и поддерживая левой рукой раненую ножку.
Единственная пуговка на капотке у него расстегнулась. Из-под рваной рубашонки видно грязное, истощенное тельце. На лице у него какая-то необыкновенная, печальная улыбка. Он уже не боится людей; он чувствует, что Иона Бац здесь сейчас главный над всеми, а он ведь опирается на Иону Баца!
– Смотрите, почтенные! Смотрите, евреи милосердые, – взывает Иона Бац задушевно, – ножка раненая, босой…
– У меня есть пара сапожек. Старые, но целы еще.
Иона узнает голос.
– Хорошо! – говорит он. – Итак, реб Иосл жертвует; хорошее начало… Но на нем и рубашонки нет!
Еще кто-то заявляет, что жена его, наверно, не пожалеет нескольких рубашек для сиротки.
– Очень хорошо, – говорит Иона, – я знаю, Генечка не откажет! А одежонку?..
Кто-то жертвует и одежонку. Иона все принимает с радостью.
– А кормить, – продолжает он, – кормить кто его будет? Почему молчит реб Шмерл? Почему глава общины ничего не скажет?
Реб Шмерл, толстенький человечек с длинными бровями, заслюнившими глаза на его обрюзгшем лице, сидит над фолиантом и не двигается с места.
– Тут не общинная канцелярия, – говорит он тихо и спокойно, обращаясь к прихожанам, стоящим вокруг него. Ответ его передается из уст в уста. В одно мгновение он облетает всю синагогу: реб Шмерл говорит, что тут не общинная канцелярия.
– Вот хитрец! – замечает кто-то.
– Бисмарк!
– Мошенник! – поправляет потихоньку другой.
И в то же время со скамей у восточной стены, с левой стороны ковчега, доносится другой голос.
– Иона, – говорит он, – выслушай меня, Иона! Оставь ты это сейчас… Нынче четверг, уже вечер… Что это за манера такая? Нет такого обычая, и закона такого нет, чтоб в обычнейший четверг не давать людям молиться… Поди ты домой, а в субботу приходи с утра, – тогда вот не дашь приступить к чтению торы. Это вот пожалуйста…
– А в субботу, – обрезал его Иона, – реб Рахмиел будет молиться дома, поест и ляжет под перину? Да?
Слышен смех: умница Иона!
– Ну, так что ж, Иона, чего ты хочешь?
– Я хочу, чтоб обеспечили сиротку. Для себя мне ничего не нужно! Питание, господа, питание для сиротки! – взывает снова Иона. И, помимо своей воли, он впадает в благочестивый тон синагогальных возгласов: "Два злотых… зачтется вам за благодеяние! три злотых… зачтется вам за благодеяние!" В синагоге становится весело.
– Я возьму его к себе ужинать, – слышен голос.
– Хорошо! – снова говорит Иона, – и это пожертвование! Слышишь, сиротина, – оборачивается он к ребенку, – хорошее начало уже есть! Ужинай на здоровье! А завтра, – оборачивается он снова к говорившему, – завтра что будет?
– Пускай и завтракать приходит, – отвечает тот же голос.
– А обед?
– Неуч! – кричат сбоку, – завтра ведь пятница![3]3
В ожидании торжественной вечерней трапезы религиозные евреи по пятницам не обедают.
[Закрыть]
– А в субботу? – не отстает Иона.
– В субботу он тоже может ко мне притти.
– А что будет в воскресенье? – снова спрашивает Иона, – а в понедельник, во вторник, во все остальные дни недели? А там опять суббота, новая неделя пойдет.
– Чего ты пристал ко мне! Что, я тут один?
– Упаси боже! Я обращаюсь ко всем прихожанам. Будь у всех такое доброе сердце, как у вас, сиротке уже не к чему было бы стоять на столе.
Прихожане молчат.
– Молиться! – снова подымается крик.
– Пошлите за его женой, он сейчас же сбежит! – слышится чей-то голос в общем гуле.
Иону точно громом сразило. В одну минуту высокий, огромный Иона сник, растерялся. Брошенные кем-то в шутку cлова угодили в него, как маленький камешек Давида в великана Голиафа – прямо в висок!
– Молиться, молиться! – кричат уже громче. Иона молчит. Он уже не подымает руки с подсвечником. Куда девалась вся его дерзость?..
Неожиданная помощь
И кто знает, что сталось бы с сиротой, если б не помощь, неожиданно пришедшая со стороны.
На амвон, около ковчега, вскочил чернявый молодой человек в маленькой шапчонке на самой макушке; пейсы разлетелись у него в разные стороны, из-под расстегнутого халата вырвались нити арбаканфеса; горящие глаза его под широким лбом беспокойно бегают.
– Глядите, глядите! – поднялся шум. – Хаим-Шмуэл!
В одно мгновенье все взоры устремились к ковчегу.
Даже реб Шмерл, спокойно сидевший до сих пор над своим талмудом, забеспокоился чего-то, поднял брови.
– Кто? кто? – спросил он сладеньким, но испуганным голосом.
– Хаим-Шмуэл, Хаим-Шмуэл! – повторили кругом.
– Господа! – кричал тем временем молодой человек с амвона, – помните, что я вам говорю! Господь-бог, как сказано в священных книгах, отец всех сирот! Вы не имеете права оставить сироту на произвол судьбы – не то вы сами, не дай господи, оставите сирот…
– Вон, наглец, сойди с амвона!..
– Не кричите, господа, я хочу правдивое слово сказать, доброе слово…
Доброе слово народ готов слушать.
– Тише, господа… Вы ведь евреи, люди милосердые, сердца у вас еврейские, почему же вы молчите? У вас, говорите вы, карман дырявый?..
Поднялся хохот.
– Не смейтесь, я серьезно говорю. Денег у вас нет, община бедная! У вас нет, у реб Шмерла нет… Ну, что ж… тогда я вам деньги дам…
При этих словах реб Шмерл еще больше забеспокоился. Он закрыл фолиант, поднялся с места и поглядел на амвон.
– Иона! – обратился молодой человек с амвона к стоявшему у стола Ионе, – у тебя есть, кому передать сиротку?
– Конечно! – ответил Иона, который успел уже прийти в себя.
– Сколько это должно стоить?
– Рубль в неделю!
– Очень хорошо! Господа, я даю деньги! Я плачу рубль в неделю за сиротку.
– Ты? ты? – закричали со всех сторон. Всем известно, что у молодого человека нет и ломаного гроша за душой.
– Не свои деньги, господа! Слушайте, я даю не свои деньги, я даю деньги моего шурина Айзика!
– А-а! – зашумели вокруг. Прихожане уже поняли, о чем речь. Шурин его, Айзик, имеет грамоту на право быть резником.
Теперь уже реб Шмерл побледнел. Глаза у него загорелись, он стал пододвигаться поближе к амвону. Но пока он проталкивался, молодой человек успел прокричать:
– Мой шурин дает обязательство… Он будет платить рубль в неделю… до самой бар-мицво… даже до свадьбы…
Заметив, что реб Шмерл уже совсем близко, что он стоит уже на первой ступеньке амвона, он выпалил остальное одним духом:
– Только за право резать птицу! Только за право резать птицу! Кричите, люди добрые: да!
Народу понравилась эта выходка, и все восторженно закричали:
– Да! да! Согласны! Согласны! Все согласны!
Реб Шмерл уже вплотную подошел к молодому человеку. Он уже схватил его за лацкан с тем, чтобы стащить с амвона. Но от этих криков "Да! да! согласны!" он совершенно растерялся.
– Режь, Айзик! – закричал напоследок молодой человек и соскочил с амвона влево, чтобы не столкнуться с реб Шмерлом.
Возвратившись на свое место, реб Шмерл стал говорить даяну:
– Реб Клонимус! Реб Клонимус! Как это вы допускаете…
Но тот же самый молодой человек уже стал у аналоя и возгласил начало вечерней молитвы:
– И он милосердый…
Присутствующие, раскачиваясь, весело вторили ему, и голос реб Шмерла потонул в общем гуле молитвы.
Реб Клонимус все еще не отнял рук от лица.
Посыльный
1915
Перевод с еврейского Л. Броунштейн
Он идет, и ветер треплет полы его кафтана и белую бороду.
Ежеминутно хватается он рукой за левый бок, каждый раз чувствует там острую, колющую боль. Но он не хочет себе сознаться в этом, он хочет уговорить себя, что только ощупывает боковой карман.
"Только бы не потерять деньги и контракт!" – лишь этого он якобы боится.
"А если далее и колет, так что из того… пустяки!
У меня еще, слава богу, хватит сил для такой дороги. Другой в мои годы не прошел бы и версты, я же, слава богу, не нуждаюсь в людской помощи, сам зарабатываю себе кусок хлеба.
Хвала всевышнему, люди мне деньги доверяют.
Если бы принадлежало мне все то, что доверяют мне другие, – продолжает он свои размышления, – я не был бы посыльным в семьдесят лет. Но если так угодно господу-богу, что ж, хорошо и это!"
Снег начинает падать крупными хлопьями. Старик поминутно вытирает лицо.
"Мне осталось пройти, – думает он, – полмили. Тоже конец! Пустяки! Гораздо меньше, чем я уже прошел".
Он оборачивается. Не видно уже ни городской башни, ни костела, ни казармы. "Ну, Шмерл, двигай!"
И Шмерл "двигает" по мокрому снегу. Его старые ноги вязнут в снегу, но он продолжает идти.
"Слава богу, ветер не сильный".
На его языке сильным ветром, должно быть, называется буря. Ветер был довольно сильный и бил прямо в лицо так, Что поминутно захватывало дыхание. Слезы выступали на его старых глазах и кололи точно иглами. Но ведь глазами он всегда страдает.
"На первые же деньги, – думает он, – надо будет купить дорожные очки, большие круглые очки, которые совсем закрывали бы глаза.
Если бы бог захотел, я добился бы этого. Иметь бы только каждый день хоть одно поручение, да подальше! Ходить я, благодарение богу, еще в силах, мог бы сберечь и на очки".
Собственно говоря, ему нужна и какая-нибудь шубенка, может быть, тогда не кололо бы так в груди, но пока ведь у него есть теплый кафтан.
Если бы только кафтан не разлезался по швам, это было бы совсем хорошо. Он самодовольно улыбается. Это не из нынешних кафтанов, сшитых на живую нитку из жидкого, никуда не годного материала, – это старый, хороший ластик, который переживет, пожалуй, и его самого! Хорошо еще, что без разреза сзади, – по крайней мере, полы не разлетаются во все стороны. А впереди они запахиваются чуть ли не на целый аршин.
В шубе было бы, конечно, лучше. В шубе так тепло… Очень тепло. Но все-таки сперва нужно приобрести очки. Шуба годится только зимой, а очки нужны всегда. Летом, когда ветер сыплет песком прямо в глаза, пожалуй, еще хуже, чем зимой.
Итак, решено: сперва очки, а потом уже шуба.
Если бы он с божьей помощью окончил приемку пшеницы, то наверняка получил бы за это четыре злотых.
И он плетется дальше. Мокрый, холодный снег бьет ему в лицо, ветер становится все крепче, колотье в боку – все сильнее.
"Если бы только переменился ветер! Впрочем, так лучше: на обратном пути я еще больше устану, и тогда ветер будет дуть мне в спину. О, тогда я совсем иначе зашагаю!"
Все обдумано, и на душе сразу легко.
Он вынужден остановиться на минуту, чтобы перевести дыхание. Это его немного беспокоит.
"Что бы это со мной могло случиться? Мало ли вьюг и морозов перенес я, будучи кантонистом?"
И он вспоминает свою военную службу, время, когда он был николаевским солдатом. Двадцать пять лет действительной службы под ружьем, не считая детского возраста, когда он был кантонистом. Он немало походил на своем веку, немало помаршировал по горам и долинам, и в какие вьюги, в какие морозы! Деревья трещат, птицы замертво падают наземь, а русский солдат, как ни в чем не бывало, бодро шагает вперед да еще песенки распевает, камаринского или трепака отплясывает.
Мысль о том, что он выдержал тогдашнюю тридцатипятилетнюю службу с ее тяжелыми испытаниями, перенес столько вьюг, морозов, столько лишений, голода, жажды и здоровым домой вернулся, вызывает в нем чувство гордости.
Он распрямляет спину, гордо подымает голову и шагает с удвоенной силой.
"Ха-ха! Что для меня такой мороз? В России – там было совсем другое дело".
Он шагает дальше. Ветер чуть стихает. Становится темней. Близится ночь.
"Тоже день, нечего сказать! Оглянуться не успеешь…" И он ускоряет шаг, боясь, чтоб ночь не застигла его на полпути. Недаром же он по субботам изучает тору в синагоге. Он отлично знает, что "надо выходить и возвращаться заблаговременно".
Он начинает чувствовать голод, а когда он голоден, ему почему-то становится весело – так уж у него получается. Он знает, что аппетит – вещь хорошая; купцы, у которых он на посылках, вечно жалуются, что им никогда есть не хочется. У него, слава богу, всегда есть аппетит. Разве только когда ему становится не по себе, как вчера, например: он чувствовал себя нездоровым, и хлеб показался ему кислым.
"Поди ж ты, чтоб солдатский хлеб был кислый! Может быть, когда-то, в былые времена, но не теперь. Теперь христиане пекут такой хлеб, что еврейских пекарей за пояс заткнут. А хлеб он купил свежеиспеченный. Одно удовольствие резать его. Просто сам он тогда был не совсем здоров, дрожь какая-то по всему телу пробегала.
Но слава тому, чье имя он недостоин произносить, это случается с ним редко!"
Теперь у него снова появился аппетит, он даже запас на дорогу кусок хлеба с сыром… Сыру ему дала жена купца, дай бог ей здоровья! Она-таки настоящая благотворительница, у нее истинно еврейское сердце.
Если бы она только не бранилась так крепко, то была бы совсем славной женщиной! Он вспоминает свою умершую жену. "Точь-в-точь моя Шпринце! У той тоже было доброе сердце и привычка браниться за каждую мелочь. Кого бы из детей я ни отсылал в люди, она плакала навзрыд, несмотря на то, что дома ругала их самыми отборными словами. Что уж там говорить, когда умирал кто-нибудь из них! Она целыми днями извивалась по полу, как змея, и колотила себя кулаками в голову. Однажды она дошла даже до того, что хотела швырнуть камень в небо!
Подумаешь! Будто и в самом деле бог обращает внимание на глупую женщину! Но она ни за что не хотела выпустить из дому носилок с покойником. Она колотила женщин, а носильщикам даже в бороды вцепилась.
И какая сила таилась в этой Шпринце! На вид – муха, а какая сила, какая сила!
Но все-таки она была доброй женщиной. Даже ко мне она не питала вражды, даром что не находила никогда доброго слова для меня. Вечно требовала развода, не то, мол, она и так сбежит. Но какой ей там развод!.."
Он о чем-то вспоминает и самодовольно улыбается.
Случилось это много, много лет назад. Еще во времена откупов. Он был ночным сторожем и по целым ночам расхаживал у склада с железной палкой в руке. Службу он знал отлично, он прошел хорошую школу, в полку имел превосходных учителей!..
Было это зимой, пред рассветом. Его сменил дневной сторож – Хаим Иона, царствие ему небесное. И Шмерл направился домой, озябший, окоченевший от мороза. Стучится в дверь, а жена кричит ему из постели:
– Провались ты сквозь землю! Я думала, что вернешься уже не ты, а тень твоя.
Ого! Она сердита еще со вчерашнего дня. Он не помнит далее, что случилось вчера, но что-то, должно быть, случилось.
– Заткни глотку и открой дверь! – кричит он.
– Череп я тебе раскрою, – слышится короткий ответ.
– Впусти!
– Провались ты сквозь землю!
Подумав немного, он направился в синагогу. Там он расположился за печкой и уснул. К несчастию, там как раз случился угар, и его, еле живого, принесли домой…
Шутка сказать, что тогда вытворяла Шпринце! Позже немного он стал хорошо слышать все, что творилось вокруг него.
Ей говорят: ничего опасного, он только угорел.
Так нет же! Непременно ей доктора подавай. Она сейчас упадет в обморок, бросится в воду!.. И кричит благим матом: "Муж мой! Муж мой, бесценный мой!"
Собравшись с силами, он садится и спокойно спрашивает:
– Ну, что, Шпринце, хочешь развод?
– Прова… – Но она не докончила проклятья и разразилась громким плачем… – Как думаешь, Шмерл, бог накажет меня за проклятья, за мою злость?..
Но едва лишь он выздоровел – снова она прежняя Шпринце: язык удержу не знает, сильна, как чорт, и запускает когти, как настоящая кошка. Э-эх, жалко Шпринце! Не дождалась она радости от своих детей.
"Им, должно быть, хорошо живется там, на чужбине, – все ремесленники. С ремеслом нигде не пропадешь с голоду, сил у них, слава богу, достаточно, – в меня пошли; а то, что не пишут, ну что ж, сами они не умеют, а других просить… Да и что за вкус в таком письме? Что рыба без перцу! И, кроме того, – время… дети, молоды, забывчивы… Им, должно быть, очень хорошо живется…
Только Шпринце, бедная, лежит в земле. Жалко Шпринце.
– Как только прекратились откупа, она стала на себя не похожа. И то сказать, покуда я приучился к своему теперешнему занятию посыльного, покуда научился говорить помещику: "ясновельможный пан" вместо "ваше благородие" и мне стали доверять и деньги и документы, пришлось порядком-таки поголодать…
Ну, я, мужчина, бывший кантонист, мог и не поесть денек-другой. Ей же, бедняжке, это стоило жизни. Глупая женщина. Чуть что – она теряет силы; под конец она уже и браниться не могла как следует; куда девалась вся ее прыть! Она только и умела что плакать.
Это отравляло мне жизнь. Не знаю почему, она стала вдруг бояться меня. Стала бояться, что мне не хватит еды. А раз она меня боится, я начинаю куражиться, – кричу, бранюсь. Кричу ей: "Почему ты жрать не идешь?" Иногда она доводила меня до бешенства, я чуть ли не с кулаками набрасывался на нее.
Но как бить плачущую женщину, когда она сидит сложа руки и с места не сдвинется? Только подбегу с кулаками, поплюю на них… а она мне: "Поешь ты раньше, а я потом". И я принужден был сперва сам пожевать хлеба, а ей уже отдавать остатки…
Иногда для отвода глаз она усылала меня куда-нибудь на улицу: иди, я без тебя поем, – может, заработаешь что-нибудь, и при этом старалась улыбнуться и даже приласкать иногда.
А когда я возвращался, то находил хлеб почти нетронутым.
Она старалась меня уверить, будто не может есть сухого хлеба, будто ей нужна каша".
Он опускает голову, точно на него навалили тяжелую ношу, и грустные мысли, одна другой быстрее, проносятся в его голове.
"И какой рев подняла она, когда я хотел заложить свой субботний кафтан – тот, что теперь на мне. Ужас, что она вытворяла, и со всех ног кинулась закладывать свои медные субботние подсвечники. И уже до самой своей смерти она молилась над свечами, вставленными в картофель… Перед смертью она призналась мне, что никогда не хотела развода и что говорила это только со злости.
– Язык мой, язык мой! – вопила она, – боже милосердный, прости мне мой язык! – Она так и умерла в страхе, что ее на том свете повесят за язык.
– Бог, – говорила она, – не будет милосерд ко мне; чересчур уж я много грешила. Только когда ты придешь "туда", – не скоро, более упаси, через сто двадцать лет, – поскорей сними меня с виселицы. Скажи всевышнему, что ты простил меня…
Она уже почти потеряла сознание, как вдруг стала звать детей. Ей казалось, что они здесь, около нее, и она стала просить и у них прощения.
Глупая женщина, как будто ей не простили…
Сколько ей всего-то было? Лет пятьдесят! Умерла такой молодой! Шутка сказать, когда человек все так близко принимает к сердцу… Когда уносили что-нибудь из дому, ей казалось, что уносят часть ее собственного тела, половину ее самой.