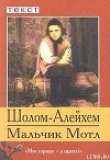Текст книги "Рассказы и сказки"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Что ни день, она становилась все желтее, как-то высохла вся и даже ростом стала меньше.
Она говорила, что чувствует, как высыхает до мозга костей…
Она знала, что умирает.
Как она любила дом со всем, что в нем есть! Что бы ни унесли – табуретку, железную сковороду, что угодно, она обливала все это горькими слезами. С каждой вещью она прощалась, как мать с ребенком, чего больше – обнимала и чуть ли не целовала их… "Ох, – говорила она, – когда я умру, вас уже не будет в доме".
Что говорить, женщина всегда останется дурой… То она казак в юбке, а чуть что – настоящим ребенком станет. Подумаешь, не все ли равно, когда умираешь, с табуретом или без табурета!"
– Фу! – прерывает он сам себя, – и чего только ни взбредет в голову… Из-за эдаких пустяков я вон как плетусь. Ну, солдатские ноги, живее ступайте! – командует он.
Он оглядывается. Вокруг сплошной снег. Наверху – серое небо в черных заплатах. "Совсем как моя нижняя бекета! – думает он. – Неужели, великий боже, и у тебя нет кредита в лавочке?.."
Меж тем мороз усиливается Борода и усы превратились в сосульки. Дышать стало будто легче, но голова горячая, на лбу выступили капли пота, и ноги – что ни шаг – все больше устают и зябнут. Ему хочется присесть, но он стыдится самого себя. Первый раз в жизни у него является потребность отдохнуть на таком небольшом пути – в две мили. Он не хочет сознаться, что ему уже за семьдесят и пора бы совсем на отдых.
Но нет, он должен идти. Идти, не останавливаясь… Пока идешь – ноги несут тебя, но стоит поддаться искушению и присесть, – и ты уже никуда не годен.
"Так и простудиться можно!" – стращает он себя, всячески стараясь побороть в себе желание отдохнуть.
"Недалеко уже и до деревни, успею и там.
Непременно надо будет отдохнуть. Пойду я не прямо к помещику… его приходится целый час ждать на дворе… зайду сперва к еврею.
Хорошо еще, – думает он, – что я не боюсь помещичьих собак; но ночью, когда спускают Бурого, все-таки опасно; хотя у меня с собой мой ужин и Бурый любит сыр. но все ж лучше сначала дать отдых своим костям. Сперва я зайду к еврею; погреюсь немного, помою руки, перекушу чего-нибудь…"
И у него текут слюнки: он с самого утра ничего не ел. Но это пустяки, его не беспокоит то, что он голоден, это доставляет ему даже удовольствие: человек голоден – это признак, что он живет… Но ноги!..
Ему осталось пройти всего лишь каких-нибудь две версты; он различает уже в темноте большие сараи помещика…
Но – ноги – они ничего не видят, они все ж требуют отдыха…
"С другой стороны, – думает он, – что такого, если я отдохну немножко? Одну минутку, полминутки!.. Может быть, и в самом деле отдохнуть? Попробую. Так долго слушались меня мои ноги, послушаюсь и я их хоть раз".
И Шмерл садится в сторонке на снежный сугроб. Теперь только он слышит, как сильно бьется его сердце, как сильно колет в боку, и чувствует, что холодный пот выступил у него на лбу…
Ему становится страшно… Не заболевает ли он? При нем чужие деньги! Он может еще, упаси боже, потерять сознание… "Слава богу, – утешает он себя, – что никого не видно! Но даже если бы и проходил кто-нибудь, ему и в голову не придет, что у меня деньги. Курам на смех – кому деньги доверяют!..
Чуточку только посидеть, а потом – валяй дальше!"
Но глаза у него слипаются.
– Ну, вставай, Шмерл, вставай! – командует он. Командовать-то он еще может, но не так-то легко это выполнить. Он не может и пошевельнуться. А ему кажется, что он идет, идет все быстрее… Он уже видит перед собою деревенские избушки: здесь живет Антек, там Василий, он всех их знает, нанимает у них подводы… К еврею еще далеко, но лучше зайти к еврею… там иногда и "мезумен" застать можно. И ему кажется, что он идет к домику еврея; но домик отодвигается все дальше, дальше… Должно быть, так и надо… В печке горит веселый огонь, окошко светится красным веселым светом… Вероятно, у толстой Мирл варится теперь большой горшок картошки – она постоянно угощает его картофелем, горячим, рассыпчатым картофелем… И он двигается дальше, так ему кажется.
Мороз немного спал. Снег пошел большими, пушистыми хлопьями.
Морозу, по-видимому, тоже стало теплее в его снежной ризе. И кажется Шмерлу, что он уже в доме еврея. Мирл отцеживает картофель, он слышит, как журчит вода… Вода струится и с его ластикового кафтана… И еврей расхаживает по комнате и тихо напевает какую-то песенку. Привычка у него такая – напевать после поздней вечерней молитвы, потому что тогда он голоден, и он ежеминутно понукает жену: "Ну, Мирл!"
Но Мирл не торопится, – исподволь работается лучше.
"Сплю ли я и мне снится все это?" Эта мысль сменяется вдруг приятным удивлением: ему кажется, что дверь открылась и вошел его старший сын… Хоно! Хоно! О, он узнает его! Но как он попал сюда? Хоно не узнает отца и притворяется, будто ничего не знает… Вот тебе и раз! Он рассказывает Ионе, что едет к отцу… расспрашивает об отце… он не забыл отца! А Иона хитрит и не говорит ему, что отец сидит тут же, на скамье!.. Мирл занята, она суетится у печи, ей не до разговоров, – она растирает картофель большой деревянной ложкой и весело улыбается!
Ого, Хоно, должно быть, разбогател, сильно разбогател! Все на нем новенькое… И цепочка!.. Может быть, она поддельная? Нет, наверное, из чистого золота. Хоно не станет носить поддельной цепочки, боже упаси…
Ха-ха-ха! – Он бросает взгляд на печку. – Ха-ха-ха! – Он чуть не надрывается со смеху. – Иекл, Берл, Захариа… Все трое. Ха-ха-ха! Они спрятались на печке… ах, жулики!.. Ха-ха-ха!.. Жалко Шпринце, жалко! Хорошо бы, если бы и она дождалась этой радости… Меж тем Хоно заказывает к ужину гуся… "Хоно, Хоно, ты не узнаешь меня?.. Ведь это я!.." И ему кажется, будто он целуется со своим сыном.
– Слышишь, Хоно, жаль матери, жаль, что она не видит тебя. Иекл, Берл, Захариа, долой с печки! Я вас сразу же узнал. Слезайте же, я знал, что вы придете. Доказательство вот – я принес вам сыр, настоящий овечий сыр!.. Взгляните-ка, ну, детки! Вы, помнится мне, любили солдатский хлеб! Что, не так?..
– Да, жалко мать!..
И кажется ему, что все четыре сына окружили его, целуют, крепко прижимают к себе.
– Вольно, детки! Вольно! Не прижимайте меня так сильно! Я уже не молодой человек. Восьмой десяток пошел… Вольно!.. Вы душите меня, вольно, детки мои!.. Старые кости! Осторожно! У меня деньги в кармане! Слава богу, мне доверяют деньги!.. Довольно, детки, довольно!.. Довольно…"
Он замерз, с рукой, прижатой к боковому карману…
Берл-портной
(Из хасидских рассказов)
1894
Перевод с еврейского Д. Маневич
Бердичевская синагога. Канун судного дня. Под вечер
"…С соизволения божия, с соизволения людского".
Старики произнесли последние слова молитвы и уселись по своим местам.
Рабби Леви-Ицхок у амвона. Он должен произнести "Кол-нидрей" и молчит. Все взоры устремлены на спину Леви-Ицхока. В женском отделении синагоги тишь, как на море перед бурей. Он начнет и, может быть, как это иногда бывает с ним, с проповеди. Сначала же побеседует с всевышним, как с близким, по душам, на простом языке…
Но рабби Леви-Ицхок, облаченный в белый хитон и талес, неподвижен и молчит.
Что это означает?
Неужели врата молитв еще закрыты в такой поздний час? Или не в силах рабби Леви-Ицхок постучать, чтобы открыли? Он стоит, склонив голову слегка набок, ухо – кверху, точно оттуда ему что-то доносится. Не прислушивается ли рабби Леви-Ицхок, как будут открывать врата молитв?..
И вдруг рабби Леви-Ицхок оборачивается лицом к народу и зовет:
– Шамес!
На зов бежит синагогальный служка. Рабби Леви-Ицхок спрашивает его:
– Берл-портной уже здесь?
Молящиеся поражены. Синагогальный служка дрожа лепечет: "Не знаю", оглядывает всех. Рабби Леви-Ицхок тоже оглядывается и говорит:
– Нет, не пришел! Остался дома. – И снова обращается к служке: – Ступай к Берлу-портному домой, позови сюда. Скажи, что я, Леви-Ицхок, духовный глава общины, зову его.
Синагогальный служка уходит.
Берл-портной живет на этой же улице, недалеко от синагоги. Ждать его долго не приходится. Он является без белого хитона и талеса, в будничной одежде, нахмуренный, глаза – не то злые, не то испуганные. Он подходит вплотную к рабби Леви-Ицхоку:
– Вы меня звали, рабби? Вот я пришел к вам!
"К вам" подчеркивает он.
Рабби Леви-Ицхок улыбается.
– Скажи мне, Береле, почему так много говорят о тебе в небе? Ведь чертоги господа полны тобою! Какой шум ты там поднял! Ничего другого не слыхать, только: "Берл-портной" да "Берл^-портной".
– Да? – торжествует Берл-портной.
– У тебя какая претензия есть?
Отвечает:
– Конечно!
– К кому?
– К всевышнему.
Прихожане готовы разорвать портняжку на части. Рабби Леви-Ицхок еще шире улыбается:
– Может быть, ты нам расскажешь, Берл, в чем дело?
– Отчего же нет? Готов здесь даже тяжбу затеять с богом. Ну как, говорить?
– Говори.
И Берл-портной начал:
– Все лето, рабби (да не случится это с вами!), я не имел работы. Никто не дал мне заработать… ни еврей, ни– да не будь он помянут рядом! – иноверец. Хоть ложись да помирай.
– Может ли это быть? – не верится рабби Леви-Ицхоку. – Потомки Авраама, Исаака и Якова – милосерднейшие из милосердных. Надо было поверить им свою нужду.
– Нет, рабби, никогда! Я никому не жалуюсь и ни у кого не беру. Подачек от людей Берл не желает. Всевышний обязан пред ним, как и пред другими.
Но вот что сделал Берл: дочь свою в прислуги отдал-куда-то в большой город.
И сидит Берл дома, ждет: что сотворит его "святое имя".
Наступает праздник кущей. Открывается дверь. Ага, дождался: входит в дом посланец от пана – зовут шубу шить.
Хорошо! Владыка мира позаботился!
И вот Берл отправляется и прибывает в замок к пану. Ему отводят отдельную комнатку, дают сукно и мех.
– Видели бы вы, рабби, какие лисьи шкурки! Лисьи из лисьих…
– Ведь уже время приступить к "Кол-нидрей"! – торопит его рабби Леви-Ицхок. – Словом, ты сделал свое дело как следует. Что же было дальше?
– Пустяки! Три шкурки остались.
– И ты их взял себе?
– Это было не так легко, рабби, как говорится. Когда выходишь из замка, у ограды стоит страж. Если у него явится подозрение, то он обыщет тебя с ног до головы, даже сапоги снимет. И если бы, не дай бог, шкурки у меня нашли, то… у пана и собаки и гонцы есть…
– Ну, и как ты поступил?
– Но ведь я Берл-портной! Пошел на кухню, попросил хлебец с собой.
Рабби Леви-Ицхок прерывает:
– Как, хлеб иноверцев?
– Не для еды, рабби, боже упаси! Мне дали хлеб, большущий хлеб. Вернулся я обратно в дом, разрезал его и вынул весь мякиш. Мякиш я долго мял руками, пока он не пропитался потом, и бросил псу, который сторожил у порога. Собака любит человеческий пот. А три шкурки я сунул в пустой хлеб. И иду.
У ограды:
– Ты что там, еврейчик, несешь подмышкой?
Показываю – хлеб.
Прошло благополучно. А чуть подальше, я давай бежать. И не иду дорогой, а все жнивьем, жнивьем. С поля на поле: полем путь короче. Вот так иду, приплясываю: есть чем праздничек справить! Без подачек от общины, без долгов. Шкурки дорогие…
И вдруг чувствую – земля дрожит. Догадываюсь: всадник мчится. За мной погоня! Стынет кровь в жилах. Наверное, подсчитали шкурки. Бежать – глупо: ведь всадник, панский конь. Бросаю первым делом хлеб свой в жнивье. Но делаю примету. Хорошую примету. И останавливаюсь. Слышу – окликают:
– Гей, Берко! Берко!
Да, это он – панский казачок. Узнаю его голосок. Внутри, рабби, все дрожит во мне. Душа – в пятки ушла. Но Берл-портной не теряется, идет навстречу, будто ни в чем не бывало.
Оказывается, напрасный страх!
Забыл вешалку пришить, вот и послали за мной гонца. И он уж тащит меня на коня. Поворачивает, скачем…
В душе благодарю бога за избавление. Пришиваю вешалку и пускаюсь в обратный путь. Прихожу к примете – нет хлеба.
Жатва давно закончена. Кругом ни живой души. Никакая птица в мире такой тяжести не поднимет. Догадываюсь, кто это сделал…
– Кто?
– Он! – отвечает Берл-портной и указывает пальцем вверх, – владыка мира. Это дело его рук, рабби! И знаю, почему. Он, великий бог, не желает, чтоб его раб, чтобы я, его Берл-портной, брал остатки…
– Ну, конечно, – замечает мягко рабби Леви-Ицхок, – по закону…
– Закон… Какой закон! – возражает Берл, – он знает, что обычай сильней закона. И не я обычай этот создал; он существует испокон века. И опять, – рассуждает Берл, – если он, владыка мира, такой великий, гордый пан и не желает, чтоб беднейший из его слуг, его раб Берл-портной, который служит ему, разрешал себе брать остатки, так пусть дает заработок. Пусть он, как пан, дает мне самое насущное.
Ни того, ни другого он, однако, не хочет.
– Раз так, – говорит Берл, – то я не хочу больше служить владыке мира! Я, – говорит, – дал себе зарок. Довольно!
Взревели тут прихожане по-медвежьи. Машут на него руками, надвигаются на него.
Но рабби Леви-Ицхок произносит веско:
– Чтобы тихо стало!
Прихожане утихают. И рабби Леви-Ицхок спрашивает Берла задушевно:
– А дальше что?
– Да ничего.
И рассказывает:
– Прихожу домой, не умываюсь. Ем, не совершая омовенья рук. Жена пытается протестовать, – пощечина! Ложусь спать без молитвы. Уста хотят произносить молитву, – сжимаю их, стискиваю зубы. Утром ни омовенья рук, ни благодарения всевышнему, ни молитвенного облачения! – "Дай есть!" Жена убежала из дому. В деревню убежала, к своему отцу-арендатору. Что ж, пусть без жены! Мне это даже доставляет удовольствие. Я-то ведь, – я! Я Берл-портной. Она слабая женщина, пусть не становится мне на пути. И я делаю свое. Никаких обрядов! Иногда, случается, выпью рюмку, в праздник – не произношу благословенья над вином, нет! В "праздник торы" я, как Мордухай, когда народу угрожало бедствие, хватаю мешок и одеваю на голову. Назло! Наступают дни покаянья, становится как-то не по себе… Синагогальный служка на рассвете стучит, будит к богослужению. Сердце сильнее бьется, так и тянет, тянет… Но ведь я – Берл-портной, слово держать умею. Укрываюсь с головой. Выдерживаю! Чтоб глаза не видели… Наступает Новый год – я ни с места. Наступает время трубных звуков – затыкаю уши ватой… Сердце разрывается, жалко себя, рабби… И мне стыдно перед самим собой. Хожу неумытый, в доме грязь. Обломок зеркальца висит, я поворачиваю его к стене, не хочу своей рожи видеть… Слышу, народ идет к реке, чтоб отряхнуть с себя грехи и утопить их…
Берл на минуту умолкает, но тотчас, подскочив, кричит:
– Но прав я, рабби! Сдаваться так, без ничего, не стану!
Рабби Леви-Ицхок, подумав немного, спрашивает:
– Чего же ты хочешь, Берл-портной? Тебе нужен заработок?
Берл с обидой:
– Заработок – плевое дело! Позаботился бы он раньше о пропитании. Пропитание полагается всем – и птице в воздухе, и червяку на земле. Пропитание – дело обычное. Теперь Берл требует большего!
– Скажи, Береле, чего же тебе?..
Подумав, Берл говорит:
– Не правда ли, рабби, в судный день прощаются лишь те грехи, которые совершены человеком перед богом?
– Правда.
– А грехи, совершенные перед людьми, нет?
– Нет.
Тогда Берл-портной вытягивается во весь рост, как струна, и говорит решительно и во всеуслышание:
– Я, Берл-портной, не подчинюсь и не вернусь к богослуженью до тех пор, пока владыка мира, в угоду мне, не простит и эти грехи! Прав я, рабби?
– Прав! – отвечает рабби Леви-Ицхок. – И стой твердо на своем! Придется тебе уступить…
И рабби Леви-Ицхок оборачивается к амвону, смотрит кверху, прислушивается с минуту и возвещает:
– Ты, Берл, победил! Ступай за молитвенным облаченьем!
Опущенные глаза
(Из народных сказаний)
1915
Перевод с еврейского Б. Плавник
1
Давным-давно это было. В деревне под Прагой жил в старину еврей, некий Ехиел-Михл; держал он здесь корчму в аренде.
А помещик, владевший деревней, был не просто помещик, но знаменитый граф. И жил Ехиел-Михл у этого графа, что называется, припеваючи, чувствовал себя тут "важной персоной" – вел себя гостеприимным хозяином, держался благотворителем; а когда, бывало, на праздник в Прагу едет, обязательно жертвует там на городские нужды. И так как он не был неучем, то стал захаживать к раввину – главе ешибота; покупал тут "райское яблоко", пальмовую ветвь на праздник кущей, мацу на пасху и тому подобное… Как-то попросил он раввина вымолить ему у бога сыновей. Раввин отказал, пророчески предвидя, что радости этому еврею дети не принесут. А про неудачных сыновей сказано: "Лучше, чтобы они и вовсе не родились". Очень опечалился этим Ехиел-Михл, но раввин утешил его. "Что ж, Ехиел-Михл, бог поможет тебе, соберешь достаточно денег на приданое, приезжай, я найду тебе такого зятя, что не пожалеешь".
Ехиел-Михл вернулся домой успокоенный. Две дочери у него, завел он себе кубышку, сначала копил для старшей, потом и для Младшей дочери. "Ученый зять – это тоже не шуточное дело", – думал он.
Когда с божьей помощью были собраны первые пятьсот талеров, он сказал своей жене Двоше:
– Пришло время выдавать замуж нашу старшую дочь Нехаму.
Двоша одобрила его решение. Подсчитали: триста талеров на приданое, двести – на свадебное платье, подарки жениху и всякие расходы по свадьбе. Решили также устроить пир для нищих, да такой, чтобы Прага долго помнила.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Как это часто бывает, встретились тут разные препятствия: помещик давал поручение за поручением, потом снега замели дороги, полили летом дожди, перед праздниками нельзя было оставить корчму без присмотра… Одним словом, все это не так-то просто. Ну и известно, человек предполагает, а бог располагает.
2
Да, Нехама, старшая дочь корчмаря, действительно была достойна жениха из пражского ешибота. Золото, а не девушка, добрая, тихая. Доброта светилась в ее глазах. Была она покорной, слушалась отца и мать и всех добрых, благочестивых людей, останавливавшихся в корчме. Она выполняла все субботние обряды, читала религиозные книги, одним словом, – хоть сейчас под венец.
Это была достойная девушка! А вот с младшей обстояло не очень гладко. Ничего страшного, боже упаси, но было это существо странное: вечно задумчива, мечтательна; бывало, все валится у нее из рук… Опустит глаза вниз и ходит вот так, сама не своя, бледная, как мел. Окликнут ее – задрожит, точно с того света, еле на ногах держится. А иной раз глянет такими глазами, обдаст таким взглядом, что сразу не по себе станет.
Стали замечать в ней дурные наклонности. Не уведешь ее из корчмы, особенно вечерами, когда там музыка и танцы. Она готова ночи напролет смотреть, как веселятся крестьянские парни с девушками, как кружатся они в вихре хоровода и поют свои песни, от которых корчма дрожит.
А уж когда удавалось увести ее в спальню и уложить там в постель рядом с Нехамой, она лежала с закрытыми глазами ровно до тех пор, пока Нехама не уснет. А как уснет – вскочит сразу и, будь то зимой или летом, босая прильнет к замочной скважине или к щели в стене. Застанет ее здесь мать, оторвет от стены, а девушка горит вся, как в огне. Напуганная Двоша рассказывала об этом Ехиел-Михлу.
– Если б можно выдать замуж сначала младшую, – вздыхал Ехиел-Михл.
– Надо посоветоваться с кем-нибудь, – отвечала Двоша.
Но всегда что-нибудь этому да мешало, пока, наконец, не случилось следующее происшествие.
3
Граф, владевший деревней, имел единственного сына, который, по панским обычаям, воспитывался в Париже. Раз в году молодой граф приезжал на каникулы домой. Но его здесь почти не видно было; днями и ночами пропадал он на охоте. Шкурки зайцев и других убитых зверьков Ехиел-Михл получал на графской кухне почти даром.
Как-то раз стояла страшная жара, воздух был раскален. Молодой граф ехал верхом мимо корчмы, и взбрело ему тут спрыгнуть со своего белого коня, привязать его к изгороди и, зайдя в корчму, попросить стакан меду.
Дрожащими руками подал ему Ехиел-Михл стакан меду. Граф хлебнул и скривился. Ясное дело, в погребах отца мед лучше, да к тому бог весть какой давности. Он наверное швырнул бы стакан в голову Ехиел-Михлу, если бы в эту минуту там, в уголке, не мелькнуло белое личико Малкеле, на котором глаза точно остановились от испуга. Молодой граф спокойно поставил стакан, бросил на стол талер и спросил:
– Мойше (паны всех евреев зовут Мойше), это твоя дочка?
Ехиел-Михл остолбенел. Заикаясь от испуга, он сказал:
– Да, да, моя дочь…
А молодой граф все смотрел да смотрел, глаз не мог оторвать от девушки… Назавтра он снова приехал сюда пить мед, приехал на третий, на четвертый день… Девушку спрятали. Граф сердился; но не говорил ни слова, лишь покручивал свои черные усики да гневно сверкал глазами. Как-то он мимоходом заметил, что платит Ехиел-Михл низкую аренду за кормчу и что пражские евреи предлагают больше… Это было правдой, но старый граф никогда этих евреев на порог к себе не пускал. Эка важность! Сидит себе еврей, пускай сидит, добывает себе на пропитание. От этих речей Ехиел-Михлу стало не по себе, а тут еще Малкеле ходит сама не своя. И решил он отправиться в Прагу, посоветоваться с раввином. Но снова появились тут разные препятствия. А молодой граф все ездит да ездит. Как-то раз он ни с того, ни с сего заявил:
– Мойше, продай мне дочку.
У Ехиел-Михла в глазах потемнело, борода затряслась.
Молодой граф улыбнулся:
– Зовут ее Эсфирь? – спросил он.
– Нет, Малкой зовут ее.
– Пусть тебе кажется, – сказал граф, – что зовут ее Эсфирь, что ты – Мордухай, а я – Ахашвейрош. Не подумай, однако, что я надену на нее корону, но ты, во всяком случае, получишь безвозмездно корчму на веки вечные для тебя, детей твоих и внуков твоих.
Сказал так и дал Ехиел-Михлу время на размышление.
4
Видит Ехиел-Михл – дело плохо. Запряг он на рассвете лошадь и покатил в Прагу. Заявился прямо к раввину – главе ешибота, которого застал за талмудом. Поздоровался с ним и тут же, без обиняков, спросил:
– Ребе, можно выдать замуж младшую дочку раньше старшей?
Раввин облокотился на талмуд и ответил:
– Нет, так не делается у нас. Не еврейское это дело. – И напомнил ему историю Иакова и Лабана.
– Знаю, – сказал Ехиел-Михл. – Ну, а если необходимо?
– Например?
И тут Ехиел-Михл излил ему всю горечь души своей, рассказал все самым подробным образом.
Раввин задумался и сказал:-
– Ну, если так, то можно.
Ехиел-Михл сообщил раввину, что он собрал пятьсот талеров, и наполнил ему об обещании выбрать жениха т учеников пражского ешибота.
Раввин задумался, опустил голову на руки, лежавшие на талмуде, потом поднял ее и сказал:
– Нгчт, Ехиел-Михл, этого сделать я не могу.
– Почему, ребе? – с дрожью в голосе спросил Ехиел-Михл. – Разве моя Малка, упаси боже, грешна? Она ребенок, молодое деревцо – куда хочешь, туда и гнется.
– Боже упаси! – ответил раввин. – Я не говорю, что она грешна, и не подумал даже. Но… не подходит это. Послушай, Ехиел-Михл! Твоя дочь не согрешила, но… но… она уже задета грехом. Понимаешь, она все же немножко задета! А главное, – продолжал раввин, – я забочусь о твоем благе. Твоя дочь нуждается в надзоре, в надзоре мужа, человека самостоятельного, купца. Она нуждается в надзоре тестя, свекрови, домашних… Надо у нее как-нибудь выбить это из головы. Ей нужен дом и много глаз и ушей. Дьявол, если он завладеет, воевать с ним нужно крепко. Он, как хрен, – раз посеешь, а растет вечно. Рви, не рви, а он все растет.
Что ж, Ехиел-Михлу осталось лишь кивать головой в знак согласия.
– А теперь, – продолжал раввин, – подумай хорошенько. Представь себе, я буду добр к тебе и сдержу свое слово: спорить нечего, обещанье я тебе дал. Вот я выполню свое обещание и дам тебе зятя из ешибота. Что получится? Парень бедный, одинокий… Ну, будет это хорошо? Что представляет собой такой парень? Это талмудист, он вечно над книгой. Ничего больше не знает, знать не хочет и знать не должен… А где будет жить чета? К себе в деревню ты ведь их не возьмешь?
– Понятно нет, пока там живет молодой граф.
– А кто знает, как долго он там останется? Кто знает, что у помещика на уме! Уж если такому что-нибудь попадет на глаза! Разве у него есть другие заботы? Разве ему хлеба не хватает? Короче: к себе ты их взять не можешь, значит, ты их оставишь в Праге, снимешь им квартиру и будешь им посылать на жизнь. Ну, а что здесь будет делать чета? Он, муж, будет дни и ночи сидеть в синагоге над талмудом, а она? Что будет делать она, молодая женщина? Какие мысли взбредут ей в голову, какие фантазии?
– Правильно, ребе, – сказал Ехиел-Михл хриплым голосом. – Но что же делать?
– Все, что можно, – ответил раввин. – Я тебе помогу. Я сам пошлю за сватом и скажу ему, что нужно делать. Надо найти знатную семью, где живут в достатке, и ты увидишь, все образуется с божьей помощью. Зато, Ехиел-Михл, – утешил его раввин, – когда придешь ко мне по поводу другой дочери и будет у тебя с божьей помощью достаточно накоплено, ты получишь, говорю тебе, не жениха, а золото. А пока выдай младшую!
5
Так и сделали.
По совету раввина, под большим секретом, сосватали Малку в купеческую семью. Сама Малка до последней минуты не знала, для чего пришел портной примерять ей платье и зачем ее однажды разбудили на рассвете и увезли в Прагу.
А когда она уже поняла, что все это означает, она не вымолвила ни слова. Молодая душа ее как будто замкнулась.
Что происходило в этой душе – никто не знал, но по виду казалось, что она счастлива… дай бог всем дщерям израильским! Она была всем хороша, правда немного бледна, глаза постоянно опущены. Что ж, бывает! Сначала это объясняли жеманностью невесты, потом говорили, что такой уже она богом создана. Но все равно, была она красавица на загляденье. А поведение какое! Без свекрови – ни шагу. Для себя ей ничего не нужно. Ела-пила, что подавали. Платья надевала, какие предлагали. И была она аккуратна, тиха, прекрасна. А в субботу, когда она надевала черное атласное платье, заколотое золотой брошью, украшала свою белоснежную шею жемчугом, а уши бриллиантами – женщины останавливались, чтобы посмотреть на нее, и, пораженные ее красотой, они восклицали: "Принцесса!" А она – точно не о ней речь. Спокойно шествовала она между свекровью и невестками в синагогу, становилась рядом со свекровью у стены, опускала шелковые ресницы, белой ручкой отстегивала серебряный затвор молитвенника с золотым обрезом, и губы ее начинали тихо шевелиться.
А в будни?
– Куда бы ты хотела пойти, Малка?
Она ничего не говорит, – куда все, туда и она. А когда проходили мимо витрины ювелира и все тут останавливались, она стояла поодаль и смотрела в небо. Тогда говорили: к чему ей украшенья, она сама украшенье.
А муж души в ней не чаял. Он хранил ee, как зеницу ока. Так жили. Снаружи она чиста, прекрасна, как кристалл, а внутри?..
Внутри – постоянные мысли о корчме, о песнях, о танцах, об играх. Сердце заполнил ей образ молодого графа. Едва закроет она глаза, дома ли, в синагоге ли, взыграет в ней кровь, и ей кажется, что она кружится с графом в дикой пляске, мчится с ним на белом коне по лесам и лугам… И особенно, когда подходил к ней муж, тут она мгновенно закрывала глаза и обнимала и целовала… кого? Она обнимала и целовала молодого графа.
А муж – он так любил ее глаза, он умолял ее: "Голубка, открой прекрасные глаза твои, раскрой передо мною врата в рай!" Ни за что! А когда он пытался настоять на своем (о, молодость!) и делал вид, что хочет ее оставить, она, бывало, уцепится за него, точно клещами.
В испуге он пытался вырваться, а она тогда молила его томно:
– Граф мой, орел мой…
Он верил, что это она так сильно его любит, что для нее он граф и орел… "Деревенская наивность, – думал он. – Ладно, пусть не открывает глаз, коли стесняется".
6
И так шли годы. Детей у Малки не было. И жила она… не с мужем.
С чем сравнимо это?
С яблоком спелым и красивым, висящим на зеленой ветке золотистой яблони. Кожица у него румянится, как восток перед утренней зарей. И свежо оно, яблоко, словно райское дыхание веет над ним. Оно так душисто, так прелестно! Но на самом деле здорова и свежа лишь кожура снаружи, внутри же все изъедено червями.
Совсем по-иному сложилась судьба Нехамы, старшей дочери Ехиел-Михла. Произошли перемены и в жизни самого Ехиел-Михла: как это бывает, дела его пошли вверх дном.
После свадьбы в Праге Ехиел-Михл вернулся домой; в кармане у него осталось лишь несколько монет. Подъехав к деревне, он увидел, что все пожитки его – кровати, столы, стулья – лежат посреди поля. Мужик из имения графа, поставленный сторожить веши, не разрешил Ехиел-Михлу въехать в деревню. Оказалось, что пока Ехиел-Михл справлял свадьбу дочери, кто-то дал более высокую аренду за корчму, молодой граф уговорил отца, и новый арендатор уже занял свое место.
Жена и дочь заливались слезами, падали в обморок. Ехиел-Михл умолял сторожа пропустить его к старику-помещику, чтобы поговорить с ним. Но сторож тут снял ружье с плеча и пригрозил, что он выстрелит. Ему приказано стрелять, сказал он.
Сторож был из той же деревни, слезы стояли у него на глазах, но раз граф приказал – он будет стрелять безо всякого. Ехиел-Михл понял, что тут дело пропащее, а ехать обратно ему было не с чем. Срамить дочь своей нищетой ему тоже не хотелось, и он взял жену и дочь и поехал с ними в деревню другого помещика, подальше от Праги. Помещик разрешил ему открыть здесь мелочную лавочку. Ехиел-Михл оставил лавку на попечение жены и дочери, а сам поехал судиться с графом за нарушение договора на аренду корчмы, срок которого еще не истек; привлек он также к суду раввинов еврея, выторговавшего у него корчму. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, а тем более с пустыми руками. Дело тянулось несколько лет. Процесс с графом Ехиел-Михл проиграл, а за неуплату судебных издержек отсидел некоторое время в тюрьме. Суд раввинов вынес приговор в его пользу, но новый корчмарь суду не подчинился, а заставить его выполнить приговор было некому. Пражский раввин, который мог бы заставить считаться с его решением, скончался, а пражская община все искала нового раввина. А пока нет судьи и нет закона! И вот, после нескольких лет скитаний, вернулся Ехиел-Михл домой, измученный, изголодавшийся, заболел сразу, пролежал несколько недель в постели и умер. Жена умерла вскоре же после его смерти. И Нехама осталась сиротой. Была она в деревне одинока, как камень. В лавке дела были плохи, так как торговать было нечем. А крестьянские парни, после того как она осталась одна, не давали ей покоя. Они издевались над ней за то, что она – еврейка-нищенка и такая недотрога.
Она писала сестре в Прагу письмо за письмом, но мы знаем, что сестра ее в Праге жила в каком-то мире грез. Писем она не читала и сестре не отвечала. Не получив ответа, покинутая сирота встала как-то раз ночью, закрыла лавку и тайком ушла из деревни. С надеждой на бога направилась она пешком в Прагу. Сестра ведь не камень!