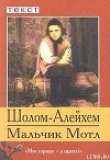Текст книги "Рассказы и сказки"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
А в ушах у него все время стоит прежний шум, – и он теперь почему-то невольно прислушивается к нему.
Странный шум! Словно кто-то говорит вдали. Он не различает отдельных слов, но слышит чей-то голос.
Все ближе и ближе этот голос, все отчетливее и яснее отдается он в ушах; сейчас он расслышит все и все поймет!
Вот он уже различает отдельные звуки, слышит некоторые слова.
Какой-то человек направляется к нему и говорит о чем-то. Он говорит о злом и добром духе, об ангелах, провожающих покойника в другой мир…
Что это – удивляется он, дрожа от страха, – ведь это я слышу уже второй раз! Ведь эти самые слова я слышал уже… где? когда!"
"Сегодня же!" – как молния, промелькнул ответ в мозгу, и как бы в блеске этой молнии вдруг встала перед ним другая картина, тоже не новая уже, которую он также уже видел где-то, в другом месте.
Он видит толпу людей, почти весь город… Тут крупные и мелкие купцы, кредиторы и должники, богатые и бедные, старые и молодые… Все смотрят на пего с такой жалостью, на глазах у всех слезы…
Что это? Его жалеют?! Зачем? Почему?
А там, недалеко, железный амвон… На амвоне бедновский раввин… Он видит его хорошо, отчетливо… Вот его шапка съехала набок, по обыкновению… Раввин тоже плачет. И это он, раввин, говорит те слова!
Но ведь все это он видит уже во второй раз… Ведь он уже слышал раз эту речь раввина о злом и добром духе, об ангелах, сопровождающих человека в могилу… Ведь это надгробное слово… Кого же это сегодня оплакивал раввин?
Кто это умер?..
Неужели же возможно, чтобы умер почтенный и уважаемый в городе человек, удостоившийся надгробной речи раввина, и чтобы он забыл имя такого человека?
Видение вдруг исчезло, и мысль его приняла другое направление.
Нет, это невозможно! Это не голос раввина!.. Он ошибся… Правда, и у старика-раввина голосок тоненький, точно звон серебряного колокольчика, но этот голос, который он слышит теперь, еще нежнее, еще слаще, чем голос раввина. Это наверное голос его матери!
При воспоминании о матери пред ним встала новая картина.
Он видит ее кровать, которую она до самой смерти не покидала, в полутемной комнате, вечером… Глаза больной искрятся и горят во тьме… Впалые щеки отливают румянцем, губы бледны… Он сидит у ее изголовья, а она перебирает и гладит его волосы своей исхудалой рукой.
Тихим-тихим и невыразимо сладким, точно мелодия флейты, голосом рассказывает она ему, сквозь слезы, о живущих в человеке "духе зла" и "духе добра"… об ангелах божиих и о добрых душах… Деньги, – говорит ему мать, – это только наваждение дьявольское, бесовщина, нечисть, только чары и обман! Деньги – это змей-искуситель, злой дух… Деньги – это кровь человеческая, кровь бедных…
Он слушает, и из глаз его капают слезы.
Удивительная вещь! Он чувствует, что плачет, но что слезы не текут из глаз его наружу, а льются и проникают внутрь, в самое сердце, где, падая, разгораются, точно пылающие искры…
Но вдруг в дом зашли какие-то чужие люди… Кровать его матери стала уходить, колыхаясь, и удаляться от него, и через минуту ему уже показалось, что это не мать, а Мария лежит на этой кровати!
Он цепенеет от ужаса, и мысли его, путаясь и обрываясь, уступают свое место другим, новым мыслям, лезущим упорно и теснящимся в больном мозгу.
Нынешний год неурожайный… да, голодный год!
Если бы не Мария, я бы заработал массу денег! Я закупил много хлеба у помещиков, купцов, факторов… Всех привел-таки под свою власть!
Но она-то, она просит, умоляет за всех! Упадут цены – плати, а поднимутся они – она тут со своими мольбами.
– Ну, не кислятина ли я? не разиня? не баба?..
И все же он исполняет малейшее ее желание, все, что ни вздумает она, – исполняет беспрекословно!
Однако любопытно узнать, сколько он из-за нее теряет!
– А ну-ка, сосчитаю!
Сумма выходит немалая… Он уже насчитал тысячи…
Вот уже пять тысяч; еще несколько сот… еще сорок пять со старика Иекеля – с того, у которого больная жена… и еще, и еще… Еще много сотен…
Воля его слабеет; он не считает больше; но счет составляется сам собою, помимо его воли, без всякой его помощи.
Он уже больше не ищет, не собирает цифр, не думает о них; но они являются сами, не ждут; они сами, без зова, предупредительно устанавливаются в стройные ряды, одна под другой, в образцовом порядке, охотно, добровольно…
Он чувствует, что в его пустом мозгу стоит теперь белый лист и что черные цифры слетаются к нему оо всех сторон, теснясь и толкаясь и напирая с шумом… Они являются и сами записываются на этом листе, или какая-то невидимая рука властно повелевает ими и заносит их, единицы под единицами, десятки под десятками и так далее и так далее. Цифры множатся, растут и, кажется, где им уместиться тут, на этом листе? Но и лист растет и увеличивается вместе с ними… Он поднимается все выше и выше, и все еще не видно черты для подведения под нею окончательного итога.
И вдруг цифры превратились в пестрые, радужные билеты, а лист – в открытый сундук… И летят они, эти пестрые билеты, со всех сторон в мозг, точно птицы в гнездо, и по-прежнему невидимая рука укладывает их в сундук… Но тесно становятся в этом сундуке, и рука жмет их, и немилосердно давит в черепе, который, кажется, вот-вот не выдержит и раздастся.
Все сильнее и сильнее давит в мозгу, все нестерпимее становится тяжесть в голове, но он не может решиться, однако, схватить и выбросить сразу эти билеты из сундука.
А они летят и летят – сперва пестрые, потом красные. Вот они все постепенно стали красными… Вот из многих сочится кровь… На многих изображение пляшущего чудовища, с длинными острыми когтями…
Вдали снова показалась фигура его отца.
– Бери, сынок, бери! – кричит ему видение, – бери… загребай…
Но как страшен, как ужасен вид его отца! Его саван наполовину изорван и истрепан… из-под дырявого савана видно гниющее мясо… из мяса торчат белые, как снег, изъеденные кости, а кругом обвились черви и змеи и, впившись, жадно пожирают его мертвое тело…
– Не бойся, сынок, не бойся! Загребай! Все возьми!
– Нет!.. Не возьму!.. – судорожно вскрикнул господин Финкельман и грохнулся на пол без чувств…
Внезапный стук разбудил спавшую прислугу.
. . . . . . . . . . . . .
Когда господин Финкельман очнулся и пришел немного в себя, он лежал на постели.
Небольшая лампа обливала бледно-матовым светом всю комнату.
Комната вся в черном. Зеркала на стенах завешаны темным флером. Возле кушетки, на полу, низкая, для "траурного сиденья", скамейка, а напротив-пустая кровать Марии.
Зарисовки
Кто?
1915
Перевод с еврейского X. Бейлесон.
1
Самая красивая фигура в саду – Венера, греческая богиня красоты. Изваянная из белого мрамора, стоит она на блестящем зеленом пьедестале и смотрит своими широко раскрытыми глазами на террасу со свежими розами и лилиями.
По аллее идет девятнадцатилетняя девушка. Ее лицо полно радости, глаза искрятся свежестью и здоровьем. Она подходит к Венере, быстро вскакивает на пьедестал. Она одного роста с богиней.
Это радует ее. Она обнимает своей алебастровой рукой мраморную шею богини, припадает своими свежими, коралловыми губками к ее устам.
Так стоит она о минуту. И проходящие спрашивают себя:
– Кто красивее: та, что из камня, или другая, живая?
2
За толстым, блестящим стеклом в витрине модного магазина стоит красавица, сделанная из воска, она обвешана предметами моды.
Губы ее неестественно красны, как будто недавно подкрашены, лицо изжелта-матово, широко раскрытые глаза неподвижны, мертвы. Но ужаснее всего брови: ряд жестких волос, отстоящих далеко друг от друга.
Там, внутри, в полутемном магазине дамы покупают всякую всячину.
– Барышня! – обращается толстая дама к приказчице, – снимите с витрины карминовые ленты.
Девушка исполняет приказание.
Походка у нее усталая, нетвердая. С усилием раскрывает она покрасневшие глаза, чтоб не заснуть на ходу. Лицо у нее красивое, но усталое, желтое и изможденное, губы красные, заметно недавно подкрашены.
Она открывает окно, наклоняется над восковой фигурой, разыскивая нужные ленты. Внезапно она, задумавшись, застывает.
Так стоит она с минуту, и все проходящие спрашивают себя:
– Кто ужаснее: та, что из воска, или другая, живая?
Подлец
1915
Перевод с еврейского X. Бейлесон.
1
Какой-то богач, проезжая по улице, заметил прислонившегося к стене нищего. На дворе было сыро и холодно. Бог знает, сколько времени нищий уже простоял здесь.
У богача появилось чувство сострадания. Он достал из кармана гривенник, бросил его нищему.
Нищий поглядел туда, где упала монета, и не двинулся с места. Богач заметил это.
"Ему мало", – подумал он.
– Подлец!
2
Экипаж проехал. Нищий со стоном опустился на тротуар.
Сыро, холодно. Кости ноют и ломят, ноги точно окаменели.
Бог знает, как он сегодня доберется домой. Не слушаются его деревянные ноги.
Но и сидя, он никак не может достать монету. Он вытягивается весь, протягивает руку. Насилу, насилу дотянулся.
Он приближает монету к глазам. Фальшивая! И он вскрикивает:
– Подлец!
Дрянь
1915
Перевод с еврейского Л. Гольдберг
На тисненной золотом софе в светлом шелковом платье лежит бледная молодая женщина.
Сквозь тяжелые занавеси на ее болезненно скривившиеся маленькие тонкие губки падает матовый луч света. В больших голубых глазах ее блестят слезы.
Ей тяжело… Не сбылись мечты ее.
Она жаждала любви, искала идеалов… "А он преподносит ей бриллианты, виллы…
Говорит ей о денежных делах… о подрядах…
Никто, никто не понимает ее, ни он – муж, ни его гости, ни ее гости…
А сердце тоскует, щемит! Чужд ему этот мир денег, серебра, золота, бриллиантов… Оно рвется к идеалам, куда-то… в неведомое…
Да, ей тяжело, хоть и не может она найти выражения для своих чувств.
Она протягивает белоснежную руку и притрагивается к звонку на столике у изголовья.
Появляется горничная.
– Чашку кофе, – приказывает молодая женщина.
Девушка исчезает и возвращается, неся на тяжелом серебряном подносе чашечку из китайского фарфора. Тонкий аромат душистого кофе смешивается с легким ароматом гиацинта в комнате.
Приближаясь к софе, горничная спотыкается о загнувшийся край турецкого ковра и падает.
Слышен глухой стук упавшего подноса и дребезжанье разбитой чашки.
– Дрянь! – вскакивая, кричит молодая женщина.
Ведь это не чулки
1915
Перевод с еврейского Л. Гольдберг.
Чулочная фабрика.
Входит девушка с дюжиной готовых шерстяных чулок, подходит к старику-хозяину.
Он мельком взглядывает на товар и еле заметным движением руки отсылает ее к молодому хозяину.
Она идет туда.
Молодой берет в руки чулки – достаточно мягки. Потом кладет их на весы – вес правильный. Затем! берет мерку, измеряет длину, край, ступню – все в порядке.
Девушка облегченно вздыхает, протягивает руку за деньгами.
– Одну минуту! – говорит молодой хозяин. Он берет со стола лупу, вытирает ее и начинает осматривать работу.
Смотрит он долго, а потом говорит равнодушным, но твердым голосом:
– Несколько ниток рваных, три очка спущено. Три процента долой!
– Но… – пытается она защищаться.
– Никаких "но"! – прерывает он ее и дает ордер в кассу.
Открывается дверь, и появляется рыжий человек с ухмыляющимся лицом.
– Доброе утро!
– Здравствуйте, – отвечает старик-хозяин, – пожалуйста!
Рыжий подходит к старику, усаживается у стола.
– Мой сын! – с гордостью показывает старик на молодого. – Купец, – добавляет он, – да еще какой!
– Вот и хорошо! – отвечает рыжий, – купцу-то деньги и нужны.
– Деньги! – пожимает старик плечами.
– Пятнадцать тысяч наличными!
– Но одна нога короче, – вмешивается молодой с печальной улыбкой.
– Еле заметно! – говорит сват. – Но все же короче!
– Ну, – говорит старик, – невеста ведь не чулки! В лупу ее не рассматривают!..
Луна рассказала
1915
Перевод с еврейского Л. Гольдберг
Устав глядеть на белый мрамор, ярко освещенные парадные улицы, я отвернулась и заглянула в один из окраинных переулков.
Из перекошенной хибарки вышел босой, плохо одетый мальчуган. Лохмотья еле держались на нем. Из полуразвалившегося домика напротив вышел другой мальчуган.
Не успели они подойти друг к другу, как я уже не могла различить, кто из них из какого дома. Оба истощенные, оба с пылающими глазками, оба дрожат от холода, а может быть, и от голода.
Слышу – говорят:
– Готов?
– А ты?
– Тоже!
– Ты ел?
– Нет… Отец не принес.
– А мой болен. Мать плачет…
– Пойдем?
– Лучше побежим… Холодно…
– Давай!
Они летят стремглав по направлению к городу.
Слежу за ними.
У одного из самых красивых домов города они остановились.
– Смотри! Это дом моего дяди! – с гордостью заявил один.
Другой указал на такой же дом на другой стороне улицы:
– А это дом моего дяди!
– Моему дяде привезли арабского жеребца за шестнадцать тысяч!
– A y моего есть карета и четверка рысаков. Настоящие львы!
– У моего, может, тысяча деревень!
– А у моего, может, сто городов!
– Глупец! У моего дяди вся мебель золотая!
– Осел! У моего она вся бриллиантовая!
– А у моей тети такие духи, что в носу щекочет!
– Подумаешь! Моя тетя каждый день ходит в театр!
– А мой дядя каждую ночь играет в карты! Ага!
Они долго препирались, до того, что чуть не вцепились друг другу в волосы.
Один из них все же вскоре отстал.
– Холодно, – сказал он, весь дрожа.
– А я страшно голоден, – сказал второй, – так и ноет! Позвони к твоему дяде…
– Что ты? – испуганно ответил тот. – Он приказал швейцару ноги мне перебить, если я зайду…
– Мой дядя тоже! – повторил другой. Оба они печально опустили головы.
– Пойдем?
– Лучше побежим…
И по дороге:
– Завтра ночью опять…
– Да… побежим. Я подам знак… Запою петухом.
– А я в ответ замяукаю кошкой.
– Хорошо….
Оба исчезают.
Сказки и аллегории
Благочестивый кот
1915
Перевод с еврейского С. Ан-ский.
Три певчих птички перебывали в доме, и всех их, одну за другой, прикончил кот.
Это был не простой, не заурядный кот. Он имел возвышенную, богобоязненную душу, ходил в беленькой шубке, и в глазах его отсвечивало само голубое небо.
Это был поистине благочестивый кот. Десять раз на день совершал он омовения, а трапезы свои он справлял скромненько и тихо, где-нибудь в сторонке, в уголку…
В течение дня он перекусывал чем приходилось, довольствовался чем-нибудь молочным. И только когда наступала ночь, он разрешал себе мясную пищу – кусочек мышиного мяса.
Ел он не торопясь, без жадности, не так, как едят обжоры. Он ел медленно, скромненько, почти играючи. Он не спешил. Пусть себе мышонок поживет еще секунду, еще секунду, пусть себе еще побегает, потрепещет, пусть исповедуется в грехах. Благочестивый кот никогда не спешит.
Когда принесли в дом первую певчую птичку, кот тотчас же проникся к ней глубокой жалостью.
– Такая красивая, милая, крошечная пташка, и не удостоится царствия небесного! – стонал он.
Да и как может она удостоиться царствия небесного?
Во-первых, она совершает обряд омовения по-немецки, по-новомодному, купаясь всем тельцем в чашке с водой.
Во-вторых, как только ее посадили в клетку, она тотчас же взъерепенилась… Хоть она и юная и нежная, а наверное уже больше думает о динамите, чем о религиозно-нравственном чтении.
И, наконец, это пение, это дерзкое, разгульное пение, да еще с присвистываньем. А эти смелые, открытые взгляды прямо в небо; эти бунтовщические попытки вырваться из клетки; эти порывы к грешному миру, к вольному воздуху, к открытому окну!
Случалось ли хоть когда-нибудь, чтобы кота сажали в клетку? Слышал ли кто, чтобы кот когда-нибудь насвистывал песню, да еще так дерзко, так бесшабашно?..
"А жалко, – плачет благочестивое сердце в груди благочестивого кота. – Ведь все-таки живое существо, наделенное душой, божественной искрой!"
У кота набегают слезы на глаза.
"И все несчастье в том, – размышляет он, – что грешное тельце так прекрасно. Поэтому для птички мирские удовольствия так притягательны, поэтому и дух зла в ее сердце так силен.
Да и как может устоять против ужасного и сильного духа зла такая крошечная, такая приятная пташечка?
И чем дольше она живет на свете, тем больше она грешит, тем страшнее наказание, которое ждет ее на том свете…"
А-а-а!
В душе благочестивого кота сразу вспыхнул священный огонь. Кот вскочил на стол, где стояла клетка с птичкой; и…
По комнате уже летят перышки…
Кота побили. Побои он принял смиренно. Он набожно простонал, плаксиво промяукал исповедь…
Больше грешить он уже не будет.
Кот понял, за что его побили. Побили его за то, что он засорил комнату перьями и оставил на скатерти кровавые пятна.
Да, подобные приговоры надо выполнять чисто, тихо и благочестиво, так, чтобы ни одно перышко никуда не залетело, чтобы ни одна капля крови не была пролита.
И когда купили и принесли в дом вторую певчую птичку, кот задушил ее уже тихо и осторожно и проглотил вместе с перьями.
Кота секли.
И только теперь кот, наконец, понял, что главная суть не в раскиданных перьях и не в кровавых пятнах на скатерти, а в чем-то совершенно другом.
Тайна заключается в том, – понял кот, – что нельзя убивать, что следует любить и прощать, что не казнями и мучениями можно исправить грешные души.
Надо обращать на путь истинный, поучать, говорить к сердцу.
Покаявшаяся канарейка может достигнуть таких высоких ступеней благочестия, до которых не добраться самому благочестивейшему коту…
И чувствует кот, что в его груди сердце трепещет от радости. Покончено со старыми жестокими временами! Покончено с кровопролитием!
Милосердия, милосердия и еще раз милосердия!
И с чувством глубокой жалости и милосердия приблизился кот к третьей канарейке.
– Не бойся меня, – говорил он ей таким мягким голосом, какой вряд ли исходил еще когда-нибудь из кошачьего горла. – Ты грешна, но я не причиню тебе никакого зла, потому что я жалею тебя.
Я даже клетки твоей не открою, даже не прикоснусь к тебе.
Ты молчишь? Хорошо, пташечка. Чем петь разгульные песни, лучше молчать.
Ты трепещешь? Еще лучше. Трепещи, трепещи, дитя мое, но не предо мною, а перед всевышним.
И если бы ты осталась такою навеки – молчаливой, скромной и трепещущей!..
Я помогу тебе трепетать. Я дохну на тебя смирением и благочестием!. И с моим дыханием пусть проникнет вера в твою душу, богобоязнь во все твое существо, покаяние в сердечко твое…
И чувствует кот, как хорошо, как приятно прощать, как хорошо и радостно дышать на другого своим благочестием. И растет и ширится благочестивейшее сердце в груди благочестивейшего кота.
…Но канарейка не может жить в атмосфере кошачьего дыхания.
Она задохлась…
Стекляшка
1915
Перевод с еврейского Я. Левина.
Жил-был в заброшенном местечке в захолустьи золотых дел мастер, ювелир. И был этот ювелир замечательным искусником в своем деле, золотые руки имел, в своем ремесле виртуозом был. О мастерстве его никто и не догадывался: ни сам он, ни его заказчики. Сидел это он и изготовлял разные украшения для обывателей местечка: сережки, перстни, обручальные кольца и еще всякую всячину, – едва ему на жизнь хватало!..
Прославился он не сразу и совсем случайно. Довелось как-то жителю того местечка выдать дочь свою замуж на сторону, за городского богача. Отправились в город свадьбу справлять, и изделия золотых дел мастера попали, таким образом, повыше. Богач этот кое-что смыслил в драгоценностях, ведь как-никак он купец, видел свет; залюбовался он ими: "ах-ах!" И пошла о золотых дел мастере слава в том городе. Стал он оттуда заказы получать, а со временем и вовсе перебрался в город: уж очень у него много заказчиков появилось…
Ну ладно! И вот к одному из городских богачей приехал как-то помещик, – по торговым ли делам, по случаю ли какого-то семейного торжества, или просто так – на субботу, фаршированной рыбы отведать. Стол сервирован, семья разнаряжена… Помещик, разумеется, еще лучше разбирается в драгоценностях. Вошел он, и сразу же бросилась ему в глаза какая-то брошь.
– Где куплена? Кто делал?
И про золотых дел мастера узнали уже и в помещичьих кругах…
Как известно, каждый губернатор устраивает ежегодно бал для губернской знати. Так уж заведено. Устроил такой бал и губернатор этой губернии. Съехались помещики, их жены, дочери; щеголяют в украшениях, изготовленных нашим золотых дел мастером. Увидал губернатор кольца, брошки, ожерелья и поразился: в жизни не видал он еще такой работы.
– Чья это работа?
– Такого-то и такого.
– Вот как?..
На следующий же день послал он за золотых дел мастером – и тот сразу же стал своим человеком в доме губернатора…
Прибыл как-то для обследования губернии очень важный царский сановник. Надо его, разумеется, встретить, как и подобает, хлебом-солью да на подносе. Кто изготовит поднос? Понятно, наш золотых дел мастер. Попал этот поднос в столицу. И пошла о нем слава по всей столице…
А тут произошла такая история: скончался старый царь. На престол вступил новый. Старую корону отправили в царскую кладовую и приступили к изготовлению новой короны для нового царя. Со всей страны собрали лучших ювелиров и золотых дел мастеров и среди прочих – также нашего. Тот явился, принял самое горячее участие в работе и отличился тут наилучшим образом…
Словом, "из грязи – да в князи!"
Итак, наш золотых дел мастер живет уже в столице, вхож в царский дворец. Он, простой смертный, становится одним из царских приближенных. Даже не всякий сановник имеет к нему доступ…
Но, как известно, колесо фортуны вращается – и когда выше уже нельзя подняться (ибо что может быть выше такого золотых дел мастера!), начинается падение…
От роскошной жизни наш мастер уж ничего нового не создавал. А старое примелькается глазу и надоест, – сердце же всегда жаждет чего-то нового. И вот объявился где-то новый мастер, и, как это уж водится на свете, один падает, другой подымается.
Новый мастер проделал такой же путь, как и старый, и, наоборот, наш старый золотых дел мастер свершил тот же путь в обратном направлении: из столицы в губернский город, из губернского города в уездный, из уездного в местечко, к себе домой.
От царя, значит, к царскому сановнику, от царского сановника к губернатору, от губернатора к помещику, затем к богачу и, наконец, к жителю маленького местечка… Обратно к обручальным кольцам…
Ниже падать уж некуда! Бедняки в драгоценных изделиях не нуждаются. Ну, и повиснешь в воздухе, высунув язык!..
Да и времена уж больно плохие настали: свадеб не справляют, а конкуренция растет…
Ну, и что ж! Когда нужда – и лебеда еда! И вот как-то раз, когда уж очень крепко прижал голод, наш золотых дел мастер, болтаясь без дела, поднял на улице кусок стекла от разбитой бутылки – из-под воды ли, из-под вина, или, быть может, из-под лекарства, – кто знает? – ну, в общем, кусок самого простого стекла; отнес его домой и давай шлифовать. Шлифует это он, а стеклышко под руками вдруг как заблестит, как засверкает!.. Колдовство, да и только! Переливается оно всеми цветами радуги, излучает сияние. Он и сам поражен – совсем не знал, какая у него в руках сила. Взял он это стеклышко, вправил в какой-то завалящийся обручик, который с трудом откопал, и отправился "надувать народ"…
Идет это он, а сердце стучит, как у разбойника. Попался ему тут навстречу молодой человек, – лицо у него пылает. А вдруг – жених, мелькало у него, и ему колечко нужно. Золотых дел мастер остановил человека. Да, почти угадал: обручального кольца ему, правда, не надо, но вообще подарок для невесты очень кстати, – что ж, пусть будет колечко! И как только стеклышко сверкнуло перед глазами, молодой человек припал к нему и спрашивает:
– Сколько стоит?
У золотых дел мастера не хватило смелости сказать цену, "не обманщик он по природе", – ответил вопросом:
– Сколько дадите?
Молодой человек подумал: вряд ли товар ему по карману, но вынул монету и говорит в шутку:
– Талер.
Зажал ему золотых дел мастер колечко в левую руку, вырвал монету из правой и давай в трактир – червячка заморить…
Молодой человек подумал: сумасшедший, наверно! Впрочем, какое ему дело! – и направился с колечком к девушке, к которой сватался…
Но женщины легкомысленны; у девушки, к которой он сватался, было два жениха: один – он, из состоятельной семьи, с долей наследства в родительском доме, другой – гусар (в местечке была расквартирована кавалерия) – с кивером, саблей, аксельбантами и такой, знаете, молодцеватой выправкой на коне. Выбор ужасно трудный. В частности, гусар: сегодня он здесь, а завтра – поминай, как звали!.. Вот она и раздумывала все…
А тут пришел молодой человек; она его приветливо приняла, особенно – колечко: оно прост очаровательно!.. Беседуют, смеются, как полагается…
Но время не стоит. Наступил вечер, и с базарной площади, с гусарской вахты, донесся звук трубы, ударил барабан – заиграли зорю…
Наша девица вспомнила тут про того, другого, – сделалась неспокойной и все твердит: "Поздно, поздно! Еще, не дай бог, оговорят!" Подставила ему, чтоб поскорей отделаться, свой ротик и быстренько выпроводила за дверь…
И в самый раз! Только успел молодой человек пересечь переулок, завернуть за угол, – "топ-топ-топ": с другой стороны – всадник! Вот он уже у забора, соскакивает с коня, привязывает его к частоколу; вот уже на ступеньках слышен звон сабли и шпор; распахивается дверь…
Долго ли, коротко ли–за ночь "подарок невесте" превратился в "подарок жениху"… С трудом напялил он его на кончик мизинца!..
На этом однако сказка не кончается. "Бриллианту" суждено было нечто большее…
Занялась заря, чуть алеет восток… Лошадка все стук копытом оземь в грязном переулочке, никто, однако, не слышит ее…
Вдруг в отдаленной тишине звук рожка – Играют "тревогу". Ночью неожиданно прибыл какой-то важный генерал. Гусаров поднимают на ноги и сзывают на учебный плац…
"Будет смотр тра-ра-ра!" Мой герой с колечком вскочил, хочет бежать. Нелегко, однако, рыбке выскользнуть из сети!.. "Она" закидывает ему на шею свои белые ручки, он их разнимает. Тогда она бежит и прячет его кивер и саблю… И еще раз прощаются они, и еще раз… С большим трудом вырвался!
"Трап-трап-трап!" – со ступенек. Скок – на голодного, но повеселевшего коня. И паф! – стрелою на плац. Рота уже вся на месте и "под козырек". Эскадронный не спускает с него глаз и вот-вот откроет рот для "благословения"…
И вдруг перед глазами командира сверкнуло что-то. Лицо его налилось кровью, сорвал у гусара колечко с пальца:
– Украл?!
Тот лепечет: "Ваше… Так и так… Как можно… Такое подозрение… Боже упаси!.."
Как быть? Рассказывать, как было, он не может: не станет же он выдавать девушку из приличной семьи! И у него срывается: "Купил".
– За сколько? – строго допрашивает офицер.
"Скверно! – думает гусар, – должно же оно сколько– нибудь стоить?" – И он произносит наугад:
– Двадцать талеров!
"Огромный капитал для гусара!" Офицер уже раскрывает рот для нового "благословения"… В эту минуту налетает белая лошадь, за ней – другие, – генералы чином пониже…
"Сам" кричит:
– Здорово, ребята!
Все эскадроны: "Здравия… ваш… ство… ство!..
Гром, гул, земля дрожит…
И тут же начинается смотр… И суждено же отличиться как раз эскадрону нашего героя: летели, точно на крыльях, скакали на конях, как черти, и в цель попадали – в самую точку… Получили гусары: "спасибо" и "на водку", а наш эскадронный был на месте произведен в полковники… Радость, веселье, пир на весь мир; гуляют, пьют месяц, два…
У нашего гусара тем временем вышел срок службы и, довольный, уволился он домой: еще хорошо отделался! Из-за чего? Из-за какого-то дурацкого колечка, из-за опоздания!
А полк с его командиром вскоре вышел в лагери, в другой город… И забыли бы все про колечко, если б не приключилось такое:
В полку как-то неожиданно начался падеж лошадей. Ну, что ж, жалко, понятно! Живые существа – дохнут, как мухи… Но у каждого есть враги и, в особенности, у офицера, который так быстро пошел в гору. Нашелся один – шлет в правительство донос относительно фуража: дескать, овес вовсе не овес…
А дело было как раз накануне войны – строгости необычайные. И правительство направляет для ревизии очень большого генерала. Нагрянул – и прямо в амбары. Осмотрел овес, повел носом и отправился в канцелярию. Срочно посылает за полковником. Тот явился, а генерал принимает его сидя, строго. Полковник все время навытяжку и "под козырек", коленки дрожат…
И тут снова "бриллиант" попутал…
Генерал покосил одним глазом, и в него молнией ударил "бриллиант". Вскочил тут с места да как зарычит диким зверем:
– Хабарник!
Так в нашей стране называли взяточников… И в самом деле, откуда у полковника из небогатой семьи такой крупный, такой дорогой бриллиант?..
Генерал срывает у него с пальца кольцо: он его приложит к акту.
– Сколько заплатили?
Видит полковник – дело серьезное. Сказать правду он, конечно, не может, и у него срывается с языка:
– Тысячу талеров!
И когда прищурившийся недоверчиво генерал все еще не спускает с него глаз, полковник, для большей достоверности, добавляет:
– За тысячу и один я уступил бы вашему превосходительству.
И генерал склоняет голову и пишет.
Во-первых, он пишет рапорт в правительство, что овес тут – чистый жемчуг… И во-вторых, – вексель на тысячу один талер… При первой оказии оплатит…
И уезжает обратно…
А сейчас произойдет самое удивительное.
Неизвестно какими путями, но колечко очутилось в царском дворце.
Сидит как-то царица задумчивая, и с колен у нее падает носовой платочек. Поднимает его придворная дама, – молодая, недавно произведенная в фрейлины, красавица, – и возвращает его ей.
Царица чуть-чуть приподнимает бровь, собирается уже процедить благодарность, как и подобает царице: уже раскрывает ротик, – и с раскрытым ртом так и остается. В чем дело? Это опять "бриллиант", что в колечке у придворной дамы… Он буквально ее околдовал! Она начинает, разглядывать его; нет, такого бриллианта она еще не видала ни в царских кладовых, ни в коронах!.. И она спрашивает:
– Откуда у тебя бриллиант?
Придворная дама делается красной, мертвеет, дрожит, и ни слова.
Значит, что-то есть?… А немножко ревнивы бывают и царицы! Кто же, как не государь, может себе позволить делать такие подарки?.. Она подымается, входит в кабинет к царю и показывает ему колечко, – она хочет посмотреть, что он скажет…
Но царь решительно ничего не знает!.. А бриллиантом он очарован – такого яркого, чистого бриллианта он еще не видывал и такого крупного, и без малейшего изъяна… Он уставился в него и не может досыта налюбоваться…
Тогда царица рассказала ему: так, мол, и так, колечко было у такой-то фрейлины… Царь сказал, что ему дела нет, откуда оно взялось, – мало ли что там при дворе происходит! – но бриллиант этот никому не подходит, только государю… Фрейлине он, конечно, возместит стоимость его…
И колечко осталось у государя.
Тут же взяли колечко, выгравировали на нем царское имя и государственный герб, и кольцо это отныне – царская печать. Царь скрепляет им бумаги, касающиеся денежных операций, вопросов жизни и смерти подданных, вопросов политики. Тот, у кого кольцо хоть на мгновенье окажется на пальце, в силах свет перевернуть: получает право уничтожать и убивать, когда и кого захочет; заковать в кандалы и бросить в темницу…