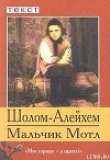Текст книги "Рассказы и сказки"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Один держит лестницу в зубах. Стрелой взлетает девочка на самую верхнюю ступеньку и спрыгивает оттуда на плечо другому. Первый тем временем дает ей тумака; она перевертывается в воздухе несколько раз и, как вкопанная, останавливается перед публикой с протянутой рукой; она просит милостыню.
Это тоже театр, но театр для "простонародья" – для слуг и служанок…
Игра идет под открытым небом, она и стоит дешево. Билетов не покупают, а бросают гроши и копейки. А она это так поразительно ловко проделывает, эта худенькая девочка! Крупные капли пота катятся по ее размалеванному личику; в запавших глазах мука, но этого толпа не видит. Она дышит тяжело – этого толпа не слышит. Толпа видит лишь ловкие фокусы, она слышит лишь приятную музыку шарманки…
А душа в худом тельце бедной украденной девочки и бедная песенка в сиплой шарманке – обе стонут, трепещут, – обе молят о лучшей доле…
Однако было суждено, чтобы песня «бедной невесты» Педоцура получила «исправление». Пробираясь от дома к дому, скитаясь из одного города в другой, фокусники таскали с собой бедную девочку до той поры, пока она, наконец, не про вас будь сказано, заболела…
Случилось это в Радзивилове, у самой границы. Там, под забором, они и бросили бедное дитя, сами же перебрались через границу. Ищи ветра в поле! Полуголая, с багровыми синяками от побоев, металась она в жару.
Жалостливые люди подобрали ее и отнесли в богадельню…
Переболела девочка тифом и вышла из больницы слепой.
А сейчас это бедное дитя побирается. Из дома в дом, от двери к двери плетется она и просит милостыню.
Она почти не говорит… Она не умеет просить словами… Она остановится где-нибудь и ждет. Не заметит никто – запоет песенку, чтобы услышали… А песенка эта – из шарманки…
И о чем же поет теперь эта песенка?
О милосердии молит она, о сострадании к несчастному ребенку:
"Злые люди похитили меня у доброго отца, у ласковой матери, из теплого, сытого дома!
Лишили меня всего! Использовали и выбросили, точно скорлупу съеденного ореха!
Милосердия для бедного, несчастного ребенка!"
И еще жалуется песня:
"Холодно, а я раздета! И голодна я! И негде голову мне приклонить!.. К тому же я и слепа!.."
Так молила и плакала песня, – и эго было первой ступенью ее на пути к "исправлению": она толкала людей на милосердные дела…
Жил в Радзивилове ученый евреи. Хоть и не был он «миснагидом» – никогда против хасидов не вытупал, – но просто не удосужился как-то съездить к цадику… Не расставался с талмудом.
Он боялся отвлечься от своей пауки.
Чтоб в синагоге не мешали его занятиям, он сидел над талмудом дома. Жена целый день в лавке, дети – в хедере…
Временами у него закрадывалась мысль: не съездить ли куда-нибудь? Это, вероятно, "добрый дух" подсказывал ему… Ну, а как же "злой дух"? Он принимал облик "доброго духа" и отвечал: отчего бы и нет? Конечно, надо бы когда-нибудь съездить, но… успеется! Прежде надо кончить этот трактат, потом тот трактат…
И так проходили месяцы, годы…
Однако небу все же было угодно, чтобы он побывал у реб Довида.
И случилось такое с ним.
Сидит он однажды над талмудом и слышит: кто-то за дверью поет; злится на самого себя:
– Когда сидишь над талмудом, нечего прислушиваться, что делается за дверью, на улице! Надо целиком уйти в науку.
А все же он слышит. Тогда он затыкает уши пальцами, но мелодия прокрадывается сквозь пальцы. Он злится еще больше, в сердцах сует конец длинной бороды в рот и, покусывая волос, с остервенением продолжает читать.
Песня не оставляет его в покое. Он слышит ее все явственней и явственней. Вдруг он спохватывается: женщина ведь поет! А "женский голос – срам!.." И он свирепо кричит: "Распутница, прочь от моего дома!"
Мелодия умолкла… Но, о ужас! – Не поют, – а он продолжает слышать! Мелодия сама раздается в его ушах, звучит у него в душе. Он заставляет себя смотреть в книгу, всеми силами старается вникнуть в смысл прочитанного – не выходит! Душа ученого все больше наполняется этой мелодией…
Тогда он закрывает талмуд и начинает молиться.
Нет, не выходит: ни ученье, ни молитва – ничего! Словно серебряный колокольчик, звенит в нем мелодия. Он места себе не находит! Совсем извелся!
Проходит день, другой, третий, – он вне себя, он в отчаянии… Постится – не помогает! Никак не может он отделаться от мелодии! По ночам она его будит!
А надо сказать, человек этот ни разу не молился у амвона, никогда в жизни ни одной песни не спел! Даже субботние славословия не пел, а просто читал их; чем петь, уж лучше страницу-другую талмуда прочитать!..
Конечно, ой понимает, что все это неспроста…
"Дьявольские штуки!" – думает он и окончательно падает духом…
Казалось, уж теперь нужно бы поехать.
Но "злой дух" говорит: "Да, ехать-то надо, но куда? Цадиков ведь много! Кто из них настоящий? У кого получишь истинную помощь?.." И ученый вновь принимается раздумывать.
И получает он еще один знак свыше…
Случилось как раз, что реб Довид вынужден был бежать из Тального, и путь его лежал через Радзивилов.
Историю с доносом вы, конечно, знаете? А я вам говорю, что это была просто божья кара. Не следовало в свое время похищать реб Довида из Василькова и увозить его в Тальное! Не следовало оскорблять местечко! И ведь разорилось-то оно вконец. Заезжие дома закрыты; корчмы все вокруг уничтожены. В куске хлеба, не про вас будь сказано, люди нуждаются…
Ну и вот! Подбросили доносец – разорили и Тальное!
Было у реб Довида золотое кресло с выгравированной надписью: "Давид, царь Израиля, жив и вечен!" Сделали из этого доносчики целую "политику", и дело дошло до Петербурга.
Мы-то, понятно, знаем, что это было иносказательно, в том, дескать, смысле: "Кто царь? – Се учитель!.." Но поди объясни генералам в Петербурге!..
Словом, реб Довид вынужден бежать, а по пути пришлось ему остановиться на субботу в Радзивилове. И наш радзивиловский ученый, благодарение богу, попадает, наконец, к цадику на субботнюю трапезу.
Однако "злой дух" все еще не поддается… Ученый входит и видит: маленький человек, совсем крошечный, сидит на самом почетном месте. Кроме большой, прямо-таки огромной, меховой шапки и падающих ему на лицо серебристых волос – ничего не видно! Все молчат. Ни слова торы! Сердце тут упало у ученого…
"И вот это все?" – думает ученый.
Но реб Довид его уже заметил и говорит: "Садись, ученый!"
И тут уж ученый пришел в себя. Он поймал на себе взгляд реб Довида, и взгляд этот обжег ему душу.
Вы, верно, слыхали про глаза тальновского цадика? В его взоре таились и власть, и святость, и сила, – все, что хотите, было в этом взгляде!
Знаете ведь, когда реб Довид скажет: "Садись!" – место за столом сразу освободится! Ученый сел и ждет.
А когда реб Довид сказал: "Пусть ученый споет нам что-нибудь!" – вся кровь бросилась ему в голову. Он – и пение!..
Но кто-то уже толкнул его в бок… "Когда реб Довид велит – нужно петь!"
Что ж, петь – так петь!
И он, бедняжка, начал… Хриплым, прерывающимся голосом выдавил он из себя первые звуки. И что, собственно, он собрался петь? Конечно, мелодию сироты, – другого он ведь ничего не знает! Дрожит, сбивается и поет…
И мелодия эта уже совсем иная… В ней уже дух торы, ростки субботней святости, зачатки раскаяния ученого… По мере того как он поет, он начинает ощущать мелодию, с каждой секундой он поет ее все лучше, все свободней…
Посреди пения реб Довид, по своему обыкновению, стал подтягивать. Услыхали остальные и тоже подхватили. Ученый постепенно и сам загорелся, вошел в экстаз, – он уже поет по-настоящему!..
И разливается мелодия огненной рекой… И волны ее вздымаются все выше, становятся все горячее и пламенней…
И уже тесно делается мелодии в доме, она рвется через окна наружу, и выплескивается на улицу море святости, огненной святости… И испуганные, пораженные люди на улице шепчут:
– Песня сироты! Песня сироты!
Песня получила «исправление» и ученый – также.
Перед отбытием из Радзивилова реб Довид отозвал ученого в сторону:
– Ученый, – сказал он ему, – ты оскорбил дочь еврейского народа! Ты не понял и не вник в душу ее песни! Ты назвал ее распутницей!
– Ребе, наложите на меня эпитимию! – молвил ученый.
– Нет надобности! – ответил ребе, царство ему небесное, – вместо эпитимии сделай лучше доброе дело!
– Какое доброе дело, ребе?
– Выдай девушку замуж! Это будет самым праведным делом…
. . . . . . . . . . . . .
А теперь послушайте! Вот вам еще одна сторона этой истории!
Лишь через несколько лет, когда слепая девушка уже была замужем за вдовым писцом, привелось узнать о ее происхождении.
Оказалось, что девушка – внучка старого Кацнера.
И произошло это вот каким образом.
Его киевский зять отлучился как-то с женой в театр на весь вечер. И в это самое время у них выкрали их единственного ребенка…
Однако возвратить им дочь уже было невозможно.
Матери уже давно не было в живых, а отец уже давно был в Америке…
Каббалисты
(Из хасидских рассказов)
1894
Перевод с еврейского А. Брумберг.
В плохие времена падает в цене даже лучший на свете товар – тора.
От всего ешибота в Лащеве остались только глава ешибота – раввин реб Иекель и один-единственный ученик – Лемех. Раввин – старый худощавый еврей с длинной, всклокоченной бородой и потухшим взором; любимый ученик его – молодой человек, тоже худощавый, высокий, с черными вьющимися пейсами, с горящими обведенными глазами, выдающимся кадыком. Оба с открытой грудью, без рубашек, в рубищах. Раввин еле тащит свои мужицкие сапоги, у ученика башмаки валятся с босых ног.
Вот все, что осталось от знаменитого ешибота! Обнищавшее местечко чем дальше все меньше посылало съестного, все меньше давало "дней" [Беднейшие ешиботники столовались в домах состоятельных евреев. Благотворители кормили их один или несколько дней в неделю, после чего ешиботник вынужден был переходить к другому хозяину] и ученики разбрелись кто куда. Но реб Иекелю хочется умереть здесь, а его ученик остается, чтоб положить ему черепки на глаза.
И даже им вдвоем приходится здесь подчас голодать. От недостатка пищи – отсутствие сна, а от бессонных ночей и голодных дней у них страсть к каббале.
Действительно, если уж бодрствовать целые ночи, голодать целые дни, то хоть с толком; пусть хоть будут эти посты "очистительными", пусть разверзнутся врата мира тайн, обиталища духов и ангелов.

[рис. Менделя Хаимовича Гошмана]
Давно-таки занимаются они каббалой.
Вот сидят они теперь вдвоем за длинным столом. У людей уже после обеда, а у них – все еще "перед завтраком". Но ведь они привыкли. Раввин поднимает глаза вверх и говорит, ученик сидит, подперши голову руками, и слушает.
– В этом имеется, – говорит раввин, – много степеней: один знает часть мелодии, другой – половину, а третий – всю мелодию, и даже с припевом. Я едва удостоился вот этакого кусочка, – прибавляет он печально, показывая кончик костлявого пальца, и продолжает: – Есть мелодия, которая нуждается в словах. Это совсем низкая степень… Есть более высокая степень: мелодия, которая поется без слов, – чистая мелодия. Но для этой мелодии нужен голос, нужны уста, откуда голос выходит. А уста, понимаешь ты, ведь плоть. И самый голос нечто, правда, более благородное, но все-таки плотское, земное…
Допустим, что голос стоит на грани между плотским и духовным!
Но все-таки мелодия, которая выводится голосом, которая зависит от уст, еще не чиста, еще не совсем чиста, – она еще не есть истинно духовное!..
Истинная мелодия поется совсем без голоса, поется внутри, в сердце, в тайниках существа…
Вот в этом-то и заключается сокровенный смысл слов царя Давида: "Все кости мои славословят…" Песнь должна звучать в самом мозгу костей, там должна раздаваться мелодия – высшая хвала всеблагому. Это не песнь человека из плоти и крови, не надуманное звукосочетание, – это уже частица мелодии, которой бог сотворил вселенную, частица души, которую он вселил в нее… И так поют горние сферы! Так пел и наш ребе, благословенна память его!
Беседу прервал растрепанный парень, подпоясанный веревкою. Он вошел в синагогу, поставил на стол перед раввином миску с кашей и кусок хлеба и грубым голосом проговорил:
– Реб Тевел посылает раввину обед, – повернулся и, выходя, прибавил: – за миской приду потом.
Оторванный этим грубым голосом от божественной гармонии, раввин медленно поднимается и, волоча свои огромные сапоги, идет к рукомойнику.
На ходу он продолжает говорить, но уже с меньшим воодушевлением. Ученик следит за ним своими горящими, восторженными глазами.
– Но, – продолжает реб Иекель печальным голосом, – я даже не удостоился постичь, какой это степени? через какие врата нужно входить? Видишь ли, – добавляет он с улыбкой, – заклинания, какие нужны для этого, я знаю и, может быть, еще сегодня вечером открою их тебе.
У ученика глаза чуть ли не вылезают из орбит. Он сидит с раскрытым ртом, ловя каждое слово. Но учитель прерывает свою речь. Умыв руки и вытерев их, он читает предобеденную молитву и, направляясь к столу, дрожащими губами произносит благословение над хлебом.
Дрожащими костлявыми руками приподнимает он миску. Пар покрывает его исхудавшее лицо теплой дымкой. Потом он ставит миску обратно, берет ложку в правую руку, а левую греет о край миски, прожевывая беззубыми челюстями первый кусок хлеба с солью.
Согрев лицо и руки, он сильно морщит лоб, стягивает свои синие тонкие губы и начинает дуть на миску.
Ученик не спускает с него глаз. А когда учитель подносит к губам первую ложку каши, у него под сердце подкатывает. Он закрывает лицо руками и как-то весь съеживается.
Через несколько минут входит другой парень с мискою каши и хлебом:
– Реб Иосиф посылает ученику обед.
Но ученик не отнимает рук от лица.
Раввин кладет ложку и подходит к ученику. Некоторое время он глядит на него с гордой любовью, потом обертывает руку полой своей одежды и дотрагивается до его плеча.
– Тебе принесли обедать, – будит он его ласковым голосом.
Печально и медленно отнимает ученик свои руки от лица. А лицо его еще бледнее, запавшие глаза горят еще более дико.
– Знаю, ребе, – отвечает он, – но сегодня есть я не буду.
– Четвертый день поста?.. – спрашивает раввин удивленно. – И без меня? – добавляет он с упреком.
– Это другой пост, – отвечает ученик, – это пост покаянный.
– Что ты говоришь? Ты – и покаянный пост?!
– Да, ребе! покаянный пост… Минуту тому назад, когда вы начали обедать, у меня явился соблазн… преступить заповедь "Не пожелай!".
Поздней ночью ученик будил учителя. Оба они спали в синагоге друг против друга на скамьях.
– Ребе! ребе! – звал он слабым голосом.
– Что такое? – проснулся в испуге раввин.
– Я только что был на высшей ступени…
– Каким образом? – спросил раввин, еще не совсем оправившийся от сна.
– Во мне пело!..
Раввин разом поднялся:
– Каким образом? Каким образом?
– Сам не знаю, ребе, – ответил ученик еще более слабым голосом. – Я долго не мог заснуть, углубившись в смысл ваших слов. Мне непременно хотелось узнать эту мелодию… И от великого горя, что не могу постигнуть ее, я стал плакать… Все плакало во мне – все мои члены плакали перед творцом мира. Тут же употребил я заклинания, которые вы мне поведали… И – странно – не устами, а как-то внутренно… само собою… Вдруг мне стало светло… я держал глаза закрытыми, а мне было светло, очень светло, ослепительно светло…
– Вот-вот! – зашептал, нагибаясь к нему, раввин.
– Потом мне стало от этого света так хорошо, так легко… мне показалось, что я стал невесомым и в состоянии летать…
– Вот! Вот!
– Потом мне стало радостно, весело… почувствовал себя бодро… лицо было неподвижно, губы тоже, а я все-таки смеялся… и таким добрым, таким сердечным, таким сладостным смехом!
– Вот! вот! вот! От радости!
– Потом что-то стало звучать во мне, напевать, точно начало мелодии…
Раввин соскочил со своей скамьи и одним прыжком очутился около своего ученика: "Ну… ну…"
– Потом я услышал, как во мне запело!..
– Что ты испытывал? Что? Что? Говори!
– Я испытывал, что все внешние чувства мои заглушены и закрыты, а внутри что-то поет, и так именно, как следует: без слов, вот так…
– Как? Как?
– Нет, я не умею… но прежде я знал… потом из пенья получилось… получилось…
– Что получилось?.. Что?
– Нечто вроде музыки, точно внутри у меня скрипка пела… или будто Иона-музыкант сидел во мне и играл застольные песни, как за трапезой у цадика. Но тут игра была лучшая, более нежная, более одухотворенная. И все – без голоса, без всякого голоса, что-то духовное…
– Благо тебе! Благо тебе! Благо тебе!
– Теперь все исчезло! – говорит ученик печально. – Теперь опять раскрылись мои чувства, и я так устал, так у-ус-тал… Ребе! – закричал он вдруг, хватаясь за сердце. – Ребе! Читайте со мной отходную!.. За мною пришли. Taм, в горних высях, недостает певца! Ангел с белыми крыльями!.. Ребе! Ребе! Слушай, Израиль! Слу-ша-й… Из…"
Все местечко, как один человек, желало себе подобной кончины, но для раввина и этого было мало.
– Еще несколько постов, – охал он, – и он скончался бы "от поцелуя", только от прикосновения святого духа.
Пост
1908
Перевод с еврейского А. Брумберг
Зимний вечер. Соре сидит у каганца и штопает чулок. Пальцы ее окоченели, и работа медленно подвигается вперед. От холода посинели губы. Часто она бросает работу и начинает бегать по комнате, чтобы согреть озябшие ноги.
На кровати, на голом соломенном тюфяке спят, головами попарно в одну и в другую сторону, четверо детей, покрытых каким-то старьем.
Просыпается то один, то другой, поднимается то та, то другая головка, и раздается тоненький голосок: "Куушать".
– Потерпите, детки, – успокаивает их Соре, – скоро придет отец и принесет ужин. Я вас всех тогда разбужу.
– А обед? – с плачем спрашивают дети. – Ведь мы еще не обедали.
– И обед он принесет.
Она сама не верит тому, что говорит. Глазами она обводит комнату: не найдется ли еще, что заложить… ничего!
Мокрые, голые стены. Растрескавшаяся печь. Кругом сырость и холод. На лежанке несколько разбитых горшков, на печке старый, погнутый жестяный светильник – "хануке-лемпл". В потолке торчит согнутый гвоздь – след висевшей здесь некогда лампы. Две кровати, пустые, без подушек… И ничего больше.
Дети засыпают не скоро. Соре глядит на них с жалостью, у нее сжимается сердце… Заплаканные глаза устремились на дверь. На ступеньках, ведущих в подвал, послышались тяжелые шаги. Гремят жестяные кувшины то справа, то слева. Луч надежды озарил ее изможденное лицо. Ударив ногой об ногу, она тяжело поднимается и, подойдя к двери, открывает ее. Входит бледный, сгорбленный человек, нагруженный пустыми жестяными кувшинами.
– Ну? – тихо спрашивает Соре.
Он ставит на пол кувшин, снимает с себя коромысло и, вздохнув, отвечает еще более тихим голосом:
– Ничего, опять ничего! Никто не уплатил. Завтра, говорят, отдадут. Каждый говорит: "Завтра, послезавтра, первого".
– Дети с утра почти ничего не ели, – говорит Соре. – Хорошо, что хоть спят… Бедные дети…
Она не может сдержаться, начинает тихо плакать.
– Чего же ты, глупая, плачешь? – спрашивает муж.
– Ох, Мендл, Мендл, дети так голодны!..
Она старается сдержать слезы.
– И чем же все это кончится? – говорит она печально. – Что ни день, все хуже.
– Хуже? Нет, Соре, не греши. В прошлом году было хуже, куда хуже. Мы и тогда были без куска хлеба, но к тому еще и без квартиры! Тогда дети днем валялись на улице, а ночью где-нибудь на задворках… теперь же они лежат на тюфяке и под кровлей.
Соре рыдает сильнее.
Она вспоминает, что именно тогда, посреди улицы, она лишилась ребенка. Он простудился, заболел и умер.
Умер, как в пустыне… Нечем было и спасать… И он угас, как свечка, остальным деткам на долгие годы… И то сказать, не бегали в синагогу взывать к всевышнему, не ходили на могилы молить души покойников о заступничестве, даже не пошептали от дурного глаза.
Мендл старается утешить ее:
– Полно, Соре, не плачь… не греши…
– Когда же, наконец, бог сжалится над нами?
– Да имей ты сама жалость к себе, не принимай всего так близко к сердцу! На кого ты стала похожа! Всего прошло десять лет после нашей свадьбы, а посмотри на себя… Посмотришь, так сердце разрывается. А ведь ты была самой красивой девушкой в городе.
– А ты? Помнишь, тебя называли Мендл-силач. Теперь ты согнулся в три погибели, хвораешь… хоть и скрываешь это от меня… Ох, боже мой! Боже мой!
Просыпаются дети.
– Кушать!.. Хлеба!..
– Боже упаси! Да кто же это сегодня ест? – вдруг отзывается Мендл. Дети испуганно вскакивают с постели.
– Сегодня пост, – говорит Мендл угрюмо.
Дети не сразу соображают.
– Пост, какой пост? – спрашивают они сквозь слезы.
И Мендл, опустив глаза, поясняет, что сегодня во время утренней молитвы обронили тору с амвона.
– Поэтому, – говорит он, – объявлен на завтра пост, всем, даже грудным детям.
Дети молчат, и он продолжает:
– Пост такой же важный, как судный день и тише-бъов; начинается он сегодня вечером.
Дети быстро соскакивают с постели и босиком, в рваных рубашонках, начинают кружиться по комнате, весело вскрикивая:
– Поститься! Мы будем поститься!
Мендл заслоняет спиной каганец, чтобы дети не заметили, как мать заливается слезами.
– Тише, тише! – старается он успокоить детей. – В пост нельзя плясать; даст бог, попляшем в симхас-тору.
Дети улеглись.
Забыт голод.
Одна из девочек начинает петь:
На горе высокой…
Дрожь пробегает у Мендла по всему телу.
– Петь также грешно, – говорит он глухим голосом.
Дети понемногу успокаиваются и засыпают, утомленные пляской и пением. Один только старший мальчик еще не спит и спрашивает:
– Папа, когда мне минет тринадцать лет?
– Долго еще до этого, Хаимл, долго – целых четыре года, – дай бог тебе здоровья.
– Тогда ты мне купишь тфилн?
– А то как же?..
– И мешочек для них?
– Разумеется.
– И молитвенник купишь, маленький, с золотым обрезом?
– С божьей помощью… Моли бога, Хаимл.
– Тогда я уж ни в один пост не стану есть.
– Да, да, Хаимл, ни в один пост…
А про себя он прибавляет:
– Боже великий, не знать бы им только таких постов, как сегодня.