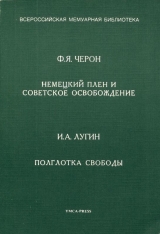
Текст книги "Немецкий плен и советское освобождение. Полглотка свободы"
Автор книги: И. Лугин
Соавторы: Федор Черон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Насколько мне известно, мало кто бежал из рабочих команд навстречу освободителям. Из ревира ни один человек. Даже разговаривали мало, как мы будем встречать советских воинов или как они отнесутся к нам. Чувствовалось, что скрытая боязнь жила на дне души почти у каждого пленного. Но об этом не говорилось, обходили молчанием то, что год или два назад мы так громко обсуждали. Боязнь, которая зародилась со дней коллективизации и сталинских чисток, пережила плен, хотя многих моего возраста она прямо не коснулась.
Наш комендант Зингер уехал в Дрезден к своей семье после бомбежки и провел там около двух недель. Хотя бомбили как будто только сам город, но досталось и окрестностям. Вероятно, его семья тоже пострадала, но, вернувшись в ревир, он никогда ничего не рассказывал, был мрачным и молчаливым. В отношении к нам что-то было утеряно, между нами появилась невидимая, холодная стенка. Свое несчастье он не переносил на нас в прямом смысле. Избегал разговаривать с нами, может быть, чтобы не показать своих истинных чувств. Здесь, конечно, были и боязнь за свою судьбу и сознание, что конец войны неумолимо быстро приближается, и что мы ни при чем в уничтожении Дрездена.
С востока отступала немецкая армия вместе с тысячами гражданского населения. Рассказывали невероятные истории о поведении советских солдат по вступлении в Германию. С запада гнали на восток пленных других национальностей. А впрочем, откуда их гнали, мы точно не знали. Один раз по нашей улице двигалась колонна в несколько сот английских пленных. Вид был у них ужасен: оборванные, грязные, голодные и усталые. Они нам напомнили первые месяцы нашего плена.
Судя по направлению, их гнали в Чехословакию. Мы только гадали.
Скоро пришла и наша очередь уходить из Мейсена. Комендант предупредил нас за два дня, сказал, что выйдем рано утром. Все, кто может ходить даже плохо, должны собираться. Куда нас погонят, не сказал, и это посеяло страх. А может быть на расстрел? Тогда ходило много разных слухов. А некоторые страшные слухи превратились в действительность, как потом все узнали. Были и расстрелы.
Нас разделили на две группы. Доктор Береговой и один фельдшер остаются в ревире с группой постельных больных. Все остальные идут в поход. Нас набралось человек тридцать. С нами шли два солдата. Каждый пленный брал свои пожитки в маленьком узелке. Я просил Зингера оставить меня в ревире. Он отмахнулся. Мысль о побеге проскочила, но быстро погасла. Куда бежать? Зачем бежать? Как показали события, я верно и сделал, что не бежал. Мы медленно двинулись в путь в том же направлении, что гнали и английских пленных. Было 16 апреля 1945 года.
Мне казалось, что с Мейсеном я прощаюсь навсегда. Год, прожитый в плену в этом городе, был самым хорошим из пленной жизни. Но в Мейсен я вернулся. Здесь пришел конец войны, здесь ушло странное слово «плен». Здесь я узнал освободителей и что они принесли миллионам других таких же, как я. Здесь рванулась молодость из-за колючей проволоки и обволокла своими похождениями. Вместе с радостью освобождения пришли разочарования и отчаяние. Много прекрасных воспоминаний живет во мне до сих пор. Мейсен всегда перед моими глазами. Только жаль, что я его больше не увижу, не найду следов послевоенных дней, не пройду по знакомым тропинкам, не встречу задорный смех тех, кто провел со мной первые месяцы после войны…
8. Полоса безвластия
Шли мы медленно и с частыми остановками, потому что некоторые больные не могли идти быстро. В нормальных условиях они должны были бы остаться в ревире. Наши просьбы не помогли, Зингер все время говорил, что ему дали приказ всех эвакуировать, за исключением тех, кого надо было нести.
Те лекарства, которые были в ревире, мы разделили пополам, и у нас образовалась походная аптечка. Утром каждый из нас получил двойную пайку хлеба, и с этой пайкой мы дотянули до вечера.
Шли мы по проселочным дорогам в направлении Чехословакии. Грубо ориентируясь, мы находились между Фрейбергом и Дрезденом. Первой нашей остановкой была деревня Грумбах. Вокруг этой большой деревни или городка было много небольших деревушек. Нам уже повстречались другие советские пленные из рабочих команд. Казалось, вся окрестность переполнена ими. Первую ночь мы ночевали в фермерском сарае и с пустым желудком.
На следующее утро один из наших конвоиров ушел искать место для ревира. Когда он вернулся, мы опять поднялись и двинулись в путь. Через час-два оказались в маленькой деревне. Название не помню, но знаю, что это было совсем недалеко от Грумбаха. В этих местах так тесно разбросаны деревни, что трудно было судить, где кончается одна, а где начинается другая. Дрезден все же оставался далеко от нас.
Нас привели в помещение неопределенного назначения, но там были уже двухэтажные нары. Их было немного, не больше чем на 20 человек, а нас было около 30. Пришлось некоторым, включая меня, расположиться в комнате рядом, где не было нар, но была какая-то мебель. Кое-кому пришлось спать на деревянном полу, но на следующий день договорились с фермерами, и они дали нам соломенные подстилки. Думаю, что фермеру рядом с нашим временным жильем было приказано кормить нас. К 12 часам дня у нас был уже суп и хлеб, и в почти достаточном количестве. Мы скоро сутки как не ели после двойной пайки хлеба, и горячий суп был хорошей поддержкой. Насколько я помню, мы здесь не голодали. Не могу также сказать, кто нас кормил, но пища всегда была.
Рабочие команды оставались в сараях, в пустых школах и в других помещениях, которые можно было приспособить под временное жилье. Уже было понятно, что это все только временно, что конец войны все быстрее и быстрее идет в нашем направлении. Рабочие команды расползались по швам. В поисках пищи рассыпались по деревням и, если не могли получить мирным путем, то воровали. До большого насилия не доходило, насколько мне известно. Фермеры старались накормить, когда к ним заходили во двор. Охрана уже не помогала. Солдаты боялись останавливать пленных и смотрели в другую сторону. Однако ходили слухи, что где-то совсем рядом охрана подняла стрельбу по пленным при их попытке уйти из временного лагеря и что были раненые. Лично не видел, утверждать не стану. Много разных слухов летало тогда.
Зачем было нас перемещать, когда все равно мы не могли уйти дальше чем на 10–20 км от «насиженного» места? Так было со всеми рабочими командами и даже с концлагерями. Вероятно, в этом была какая-то логика, не знаю.
Днем мы вели себя свободно, выходили на улицу, не боясь, что солдат окрикнет тебя и направит винтовку. Охрана пленных с каждым днем таяла. Уходили или убегали немецкие солдаты по ночам. У кого были нервы сильнее, или же кто был трус, то те оставались чуть ли не до последнего дня. Приблизительно за три дня до прихода советских войск вся охрана разбежалась. Немцев в военной форме мы уже не видели. Мы были свободны, и никто больше не заботился о нас.
Теперь мы уже открыто требовали пищу от фермеров, заходили, не боясь, в их пивнушки, в харчевни. Нам не отказывали. Немцы боялись прихода советских войск. Особенно после того, как наслушались рассказов беженцев. Некоторые сами собирались бежать. Те, кто решил оставаться, старались быть с нами в хороших отношениях, думая, что мы как-то поможем им. Ни они, ни мы не знали, как плачевно все это обернется. Но человек всегда живет надеждой, ожидает лучшего от жизни.
Мы не знали, что нас ждет, каждый из нас по-своему рисовал картину встречи с армией, разгромившей немецкую мощь и бросившей фашистскую Германию на колени. Ведь шли же нас освобождать свои, русские, та армия, где и мы были! Многим встреча рисовалась в розовых красках.
А пока над нами не было никакой власти. На первом плане была пища после полуголодного или голодного существования в плену. Открытого насилия и разбоя не было, а воровство стало законным явлением. При достатке пищи многие доходяги поправлялись просто не по дням, а по часам. Выпрямлялись, приобретали совершенно нормальный вид. Иногда трудно было поверить, какие чудеса творила нормальная пища.
Контакт с остовцами был установлен почти сразу же после нашего появления в этой части Саксонии. Остовцы были не только во всех уголках Германии, но и в других странах, оккупированных немцами. Их было гораздо больше, чем выживших советских пленных. Я сказал бы, что в Мейсене соотношение пленных и остовцев было 1:6. Недалеко от деревни, где нас поместили после ухода из Мейсена, был лагерь остовцев. Там было около ста человек. Не только одиночки, там были и целые семьи, насильно увезенные в Германию из оккупированных областей Союза.
Начальство остовцев убежало раньше нашей охраны. Так что примерно две-три недели уже никто из остовцев не работал. Когда и наша охрана убежала, то получилось полное смешение пленных с остовцами. За два-три дня до прихода советской армии все лагеря перемешались, и трудно было отличить, кто остовец, а кто пленный. Среди пленных плыл слух, что лучше быть в гражданской форме, когда придет советская армия. Многие из пленных перекочевали жить в бараки остовцев, сбросили свою пленную форму, не все, конечно, но многие. У остовцев оказалось больше одежды, чем у пленных, и это вполне понятно. Те, кто не мог найти гражданскую форму, оставались в своей до поры до времени. Открыто еще не врывались в немецкие дома за одеждой.
Люди старшего возраста, кто вкусил прелесть советской власти, а были и такие, кто просидел в лагерях несколько лет, потихоньку отделялись от основной массы пленных-остовцев и направлялись на запад, вливаясь в отступающий поток беженцев. В большинстве случаев это делали семьи, которые добровольно уехали из оккупированной Прибалтики, Украины и Белоруссии. Было много и русских семей. Они не мечтали о радостной встрече с освободителями. Они спасали свою жизнь.
Основная масса пленных была в возрасте 25–40 лет. Пленным старше сорока лет было очень трудно выжить первые месяцы плена, большинство из них умерло от голода и лишений в первые два года войны, когда немцы взяли в плен около 90 % всей численности пленных.
По ночам немецкая армия спешила уйти от наступающей Красной Армии и попасть в плен к союзникам. По дорогам стоял шум машин, танков и колонн солдат.
За несколько дней до прихода советских войск можно было изредка встретить немецких дезертиров. Они конечно прятались, боялись своих же немцев, боялись нас, боялись остовцев. Одного офицера мы обнаружили у входа в заброшенную шахту. Он испугался нас, а мы его. Он протянул нам свой пистолет и сказал, что боится попасть на глаза отступающей немецкой армии. Будет ждать прихода советской армии. Думаю, что дождался. Мы его оставили, а сами ушли в шахту попробовать, как стреляет его пистолет. В кустах, окружавших заброшенную шахту, бродило много подозрительных типов. По тому, что они молчали, мы догадывались, что это переодетые дезертиры из немецкой армии. Стычек между нами не было. Немецкой власти уже как таковой не существовало, но и другая не пришла на смену. А боязнь открыто выступать против немцев все еще оставалась в нас. Это было такое безвластие, когда обе стороны боялись друг друга и обходили стороной.
Мы сидели и ждали, бежать навстречу освободителям не решались. За день до прихода освободителей мы все как-то притихли и съежились, как бы боясь той новой страницы в нашей жизни, которая откроется завтра.
3-го мая днем было тихо: ни отступающей, ни наступающей армии не было видно. Вдали слышались отдельные артиллерийские выстрелы. Пошел слух, что ночью или завтра утром придут советские войска.
Местное население стало группами уходить в заброшенные шахты, которые были в 1–5 км от нескольких населенных пунктов. Я, как и многие пленные, не знал, что представляют собой эти старые шахты. Но остовцы знали о них, и многие работали там под землей, укрепляя стенки и потолки шахт для каких-то военных заводов, которые так и не построили из-за быстрого приближения Восточного фронта.
Когда начало темнеть, в шахтах очутилось много разного народа. Немцы держались своей компанией, а мы своей. Нас уже не гнали, не называли «унтерменшами». Мы поравнялись с «оберменшами». О приближающейся армии не говорили, но все думали о ней. Немцы со страхом, а мы с волнением долгожданной встречи с нашими родными, русскими освободителями, с теми, кого мы ждали долгие годы. Но большого ликования не было. Я его не видел. Почему? Неужели подсоветскому человеку и радость дается с примесью страха? Он был нашим неизменным спутником, пережил и плен, и сейчас, за несколько часов до освобождения, он тоже стоял рядом с нами.
Вход в шахту метров в 6 шириной, цементные ступеньки вниз. Спустившись метров на 50 в шахту, мы увидели громаднейший зал с зацементированными стенками, полом и потолком. От пола до потолка метров 5–6, ширина около 12 и длина 20 или больше. Таких залов было несколько и все они были соединены между собою.
В одном из таких залов были навалены кучи чемоданов, узелков и ящиков. Чьи это были вещи? Говорили, что многие гитлеровские партийцы привезли свои вещи из нескольких городов Саксонии, надеясь, что они уцелеют от бомбардировок. Особенно много было из Дрездена. Вряд ли кто-либо знал истинную историю этих вещей. Конечно, местное население тоже снесло сюда свои чемоданы. Прятали не только от бомб, но от русских, то есть от наступающей советской армии, не задумываясь, что русские были везде: рядом пленные и остовцы, а с востока наступающие. В узких проходах шахты было сложено какое-то имущество, а в одном была навалена кучами форма национал-социалистической партии.
В подземных залах был электрический свет, деревянные настилы, уборные и вода. Многие запаслись свечами, предвидя, что свет может погаснуть. Так и получилось: под утро свет погас. Зажгли свечи. Вряд ли кто-нибудь спал в эту ночь. Прислушивались к шуму, доносившемуся снаружи. Выстрелов не слышно было.
9. Освобождение из плена
Это произошло 4 мая 1945 года. Когда мы вылезли из шахты, то увидели, что по главной дороге бесконечной колонной двигалась советская армия. Это было рано утром. Над дорогой облаком стояла пыль. Значит, фронт уже прошел. Никаких боев не было. Некоторые солдаты шли, некоторые ехали на лошадях, на телегах, на велосипедах, на машинах. Дорога от нас была примерно в двух километрах, и пыль столбом висела над ней. Подойдя ближе, мы увидели, что шли они не организованной колонной, а как кто. Спешка была заметна во всем. Они шли в последний бой у границ Чехословакии, как потом стало известно.
Никто из пленных, ни из остовцев не осмеливался подойти близко к двигавшейся «нашей» армии. И те тоже как бы не замечали нас.
Приблизительно к 12 часам начали ехать грузовые машины армейского тыла. Над дорогой все еще стояла пыль и шла армия. Мы разбрелись кто куда, не зная что делать. Освобождение пришло. Без шума, без стрельбы, без победных маршей. Большинство машин ехало по дороге, не останавливаясь. Но некоторые сворачивали в населенные пункты, как бы из любопытства. Нас человек пять стояло у какого-то забора, и к нам подкатила машина. Из кузова выпрыгнули три солдата, остальные оставались сидеть.
Не помню даже приблизительно, как завязался разговор. Одно было очевидно, что они ничуть не удивились, что мы говорим по-русски. Они даже не спросили, кто мы такие и что мы делаем в немецкой деревне. Вероятно, для них уже стало привычным явлением встречать земляков в Германии. Для нас же это была долгожданная встреча. Но как было им понять наши чувства? Они же в плену не сидели, они не знали, как мы выжили и как дождались победы. Встреча, как говорится, произошла по-буднему. Ни одна сторона не выразила своих истинных чувств. У меня ком к горлу подошел и слезы навернулись на глазах. Я даже в сторону отошел, чтобы никто не заметил моего волнения. Проглотил встречу. На душе стало легче, и тяжелая ноша плена свалилась с плеч. Немцы отодвинулись в сторону, ушли с горизонта.
После пятиминутного разговора солдаты прыгнули в кузов машины и уехали. И из этого короткого разговора было ясно, что эти солдаты не имели никакого понятия о советских пленных в Германии. Они знали немного только об остовцах. Комиссары не говорили им о пленных, о страшных окружениях в первые два года войны.
С другой стороны, для советского солдата, который прошел тысячи километров до Германии и прошел нелегкой дорогой, какое ему было дело до нас? Он ничему не удивлялся. Он видел ужасы войны, смерть смотрела ему в лицо не один раз, и он ко всему привык. И остовцы и пленные для них были люди из другой жизни, им не известной.
С этого майского, солнечного утра плен был позади. Новая страница открывалась в моей жизни, как и в жизни многих миллионов людей, заброшенных войной в Германию. Как-то не верилось, что война окончена, что колючая проволока и лагеря остались позади.
За целый день проехало много машин, некоторые останавливались, заводили разговор. Но встреча всегда была одинаковой: холодной, безразличной. Иногда солдаты искали земляков, и, если находили, разговор оживлялся.
Как может быть такое безразличие к нам, пленным и остовцам? Спустя несколько недель после прихода советской армии из разговоров с солдатами и офицерами я узнал, что не только рядовые солдаты, но и офицеры не имели никакого понятия о советских пленных в Германии. Этот вопрос не входил в программу лекций политруков и держался в секрете. Когда же наступающая армия стала встречать все чаще и чаще остовцев и пленных, то политпропаганда начала внушать им, что мы коллаборанты, изменники и от нас надо держаться подальше. Нас не признали за своих, мы были помечены другой меткой. У нас был только общий язык. В разговоре можно было слышать часто слова «мы», то есть освободители, советская армия, и «они» – все, кто были в Германии, без различия, как они туда попали. Подразделения на пленных и остовцев в первые дни, да и в последующие, не было.
Нет сомнения, что НКВД и высшие чины армии знали о пленных. Но даже эти органы никогда не подозревали о количестве русских людей в Германии. Я видел их неуверенное поведение, а часто и незнание, что делать, в первые недели после войны. Вероятно для того, чтобы изолировать освободителей от «вредного», по их мнению, влияния тех, кто пробыл сколько-то в Германии, оккупационные власти старались создать стену между ними и нами.
Приход советской армии не изменил нашу жизнь ни в лучшую, ни в худшую сторону. Она продолжала оставаться такой, какой сложилась за два-три дня до освобождения. Мы были свободны сейчас от лагерей, от немцев. Но мы должны были заботиться о куске хлеба и где найти ночлег. В этом освободители нам не помогали. Мы брали у немцев, что можно было взять. Потом и у них дома становились пустыми, а многие стали прятать, что осталось. Следуя примеру освободителей собирать «трофеи», мы тоже стали воровать, когда нам не давали добровольно. Мы старались одеться более или менее прилично, да и надо было прокормиться каждый день.
Даже внешнее различие между пленными и остовцами совершенно исчезло буквально в первые дни прихода советской армии. Мы все оделись в немецкую гражданскую одежду. Да и не только мы. Все европейцы, которых Германия насильно вывезла в свои города и села. Можно сказать, что вся Европа перемешалась.
Разница была в том, что большинство европейских пленных двинулись в родные края и достигли их за несколько дней. Другое было с нами. Нас было во много раз больше, чем всех остальных европейцев вместе взятых. Освободители не могли препятствовать всем другим народностям идти домой, в свои страны. Но нас они боялись пустить свободно домой, боялись, что мы за границей, даже в той «проклятой» Германии, набрались чего-то другого, не советского. Нас надо было отгородить, остановить наш бег домой, посадить в репатриационные лагеря и проверить через сита НКВД.
Хорошо было тому, кого конец войны застал хотя и изголодавшимся, худым, но здоровым. А каково же пришлось тому, кто был болен, кто не мог сам добывать свой хлеб насущный и ночлег? Эти люди могли надеяться только на своих друзей, если такие были. Освободители в первые дни никакой помощи не оказывали. Вот, например, трое больных нашего ревира. Они не могли ходить: двое из-за ранений, а у одного была какая-то серьезная болезнь. Их нужно было устроить куда-нибудь и оказать нужную медицинскую помощь. С ними находился наш ревирный Петька. Как я уже сказал, он был оптимистом, веря в то, что освободители помогут всем, чем могут. Узнав о местонахождении штаба какой-то части, он отправился туда. Ему стоило много слов растолковать часовому, чего он хочет и о ком он говорит. Часовой так и не понял, о каких пленных больных Петя говорил, но доложил полковнику. Тот вышел из помещения и после нескольких слов понял, что перед ним стоит бывший пленный. Не выслушав Петю до конца, он начал орать на него, пересыпая свою «речуху» отборными ругательными словами вперемешку с «изменники», «предатели», «сволочи». Но Петя не трусил. Он старался доказать ему, что это бывшие советские солдаты, что они тоже воевали и были в Красной Армии. Полковник вошел в ярость от Петиных слов и начал вынимать пистолет из кобуры. «Поворачивайся и убирайся отсюда, изменник! Чтобы твоего духа здесь не было, а то пристрелю как собаку!» – была его команда. Мы решили, что полковник был пьян, потому что человек с непомутившейся головой не мог так себя вести.
Петя убежал, но не сдался. Пошел по другим частям и, в конце-концов, набрел на разумного офицера, который распорядился принять бывших пленных в военный госпиталь.
После первых же дней освобождения мы знали, где мы стоим по отношению к советским оккупационным властям. Мы были по другую сторону невидимой стенки, о которой нам напоминали каждый день.
Освобождение пришло вместе с анархией, которая началась сразу по вступлении на немецкую землю, и ее трудно было остановить. Несмотря на многие меры, предпринятые военным командованием, она катилась по инерции и с довольно большим размахом.
Освободители собирали трофеи, от простого солдата до генерала. Мы тоже ринулись по этому же руслу. Нам тоже хотелось не остаться с пустыми руками. И вся многомиллионная наша масса навалилась на погибший «Райх» и стала его разрывать на части, следуя примеру освободителей. Каждый человек из этой массы хотел что-то для себя за все обиды и оскорбления, каждый требовал пищу, и не такую, какую немцы давали во время их власти. Каждому нужен был ночлег и уют свободы. Миллионные массы людей двигались в разных направлениях, кто шел на запад, кто на восток. А были и такие, которые никуда не спешили, а жили сегодняшним днем, надеясь, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Они не знали, где восток, а где запад, было все равно. Грабеж и насилие были их главной целью. А так как ни насилие, ни грабеж не преследовались освободителями в первые недели, то полнейшая анархия дошла до пределов.
Грабеж, воровство и насилие начались, как только Красная армия перешла границы Восточной Европы. Но в этих странах за такие проделки наказывали: надо было не отпугивать население будущих союзников плохим поведением освободителей. Но уже перед тем, как вступить в Варшаву, было разрешено посылать посылки домой: для солдата – пять килограммов в месяц, для офицера – десять, для генерала – пятнадцать. Но эти пределы нарушались всеми чинами и рангами, кто имел друзей при штабах и полевых почтах. В разбитой Варшаве, по словам очевидца, солдаты находили пустые квартиры и отыскивали одежду, чемоданы с вещами и все другое, и слали домой, на родину.
Но главное было впереди, в Германии. В Восточной Европе была как бы репетиция, а полный разворот был в Германии. Почва была подготовлена и толчок к насилию и грабежу дало Главное Политуправление фронта перед вторжением в Германию. Было издано известное воззвание:
«Советский солдат! Ты стоишь на границах проклятой Германии, страны, которая принесла тебе, твоей семье, Родине столько крови, горя и слез. Отомсти, советский солдат. Сделай так, чтобы вторжение наших армий запомнилось не только сегодняшним немцам, но и их отдаленным потомкам. Чтобы в Германии на памяти поколений остался страх перед нами. Помни, что все, что имеют немецкие ублюдки, – это твое, награбленное у тебя или у других народов, вскормленное и нажитое на крови и поту даровых, отовсюду согнанных фашистским фюрером рабов. Иди с подъятым мечом, не имей сожаления в сердце, освободи томящихся в немецком рабстве жен, детей, матерей. Стоны миллионов доносятся до тебя. Народы Европы ждут своих единственных избавителей от произвола и смерти»…
Ненависть к врагу и мщение за все горести войны пропагандировались статьями Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Кригера и других. Грабеж и насилие не преследовались, а наоборот поощрялись. По вступлении в Германию развязался бездонный мешок человеческих слабостей, желаний и рефлексов. Все это накапливалось, сдерживалось годами войны и разорвалось теперь на немецкой земле. И начался разгул в стране «изобилия», который продолжался много недель после окончания войны.
Изнасилование немецких женщин было ежедневным явлением. Да и не только немецких. Часто пьяные солдаты нападали на своих же русских остовок, и им тоже трудно приходилось, особенно если не было защиты. Иногда между расходившимися солдатами и остовцами-пленными происходили драки не на шутку. Были жертвы. Дело в том, что девушки-остовки не прятались, как немки, а надеялись, что у земляков не хватит совести насиловать своих русских. Для лучшей защиты от пьяной ватаги освободителей девушки стали держаться группами, старались быть вместе со своими остовцами и бывшими пленными.
Армейская дисциплина почти полностью отсутствовала среди победителей. Алкоголь был на первом месте. Я не пишу «водка», а именно алкоголь. Пили все, что содержало спирт. Были частые отравления со смертельным исходом. Надо сказать, что кроме грабежа (главным образом охотились за барахлом) и изнасилования женщин, я не видел открытого зверства советских солдат, даже когда они были пьяны. Конечно, были случаи, о которых хочется забыть. В одном из таких случаев заправилой был бывший пленный. Этот пленный, по фамилии Смирнов, знал одну немецкую девушку в деревне недалеко от Мейсена. Она ему никак не давалась мирным путем. Тогда он повел туда двух порядочно подвыпивших солдат, бросился на девушку и стал насиловать. Мать ее стала на защиту. Тогда, не долго думая, этот негодяй вынул пистолет и застрелил мать. На выстрел прибежали соседи, и вся шайка струсила и убежала. Я знал этого негодяя Смирнова из одного из рабочих лагерей около Мейсена. Мне кажется, это было в конце июля. Уже был немецкий комендант города и какая-то городская власть. Затереть этот случай не удалось. Он приобрел большую гласность среди местного населения.
Бывшего пленного арестовали. Если не ошибаюсь, немецкая городская полиция. Кто же должен судить бывшего пленного? Он не принадлежал к числу освободителей, но он не был и немцем. Каково же было его легальное положение? Советский подданный? Или бывший советский подданный? Военный трибунал его не судил. Судил его немецкий суд. Смирнов получил десять лет тюрьмы. Но где? В Германии или же в Союзе? Двоих соучастников-солдат немецкий суд не судил, да и вряд ли они вообще получили какое-нибудь наказание.
В первые недели после освобождения немцы прятались где только могли: на чердаках, в темных уголках своих владений, где угодно, только подальше от освободителей. Особенно женщины.
Бывшие военнопленные мстили своим издевателям, если могли их найти. Но находили немногих и только случайно. Я уже упоминал о рабочей команде, работавшей в каменном карьере. Там у них был мастер, который изувечил не одного пленного. Каким-то образом некоторые пленные знали его адрес и по окончании войны решили поймать его и наказать. Эту команду также увели из их лагеря перед концом войны, как и другие. Но двое ребят, один бывший летчик, а другой танкист, поставили своей целью найти этого подлеца. Они вернулись в Мейсен, пошли по адресу и увидели, что дом уже разграблен. В доме была одна плачущая женщина. Все двери были открыты. Это была жена того мастера-зверя. На вопрос, где муж, она сказала, что удрал, и она не знает, где он скрывается. Наши ребята решили проследить две ночи. На вторую ночь он пришел домой. Они дали ему войти в дом. Потом один стал у выходной двери, а другой у окна, через которое, они предполагали, он будет убегать. Ребята были вооружены пистолетами.
Спустя некоторое время тот, что стоял у дверей, постучал. Мастер, конечно, знал, что за ним охотятся. Он бросился в окно и выскочил во двор. У Виктора, стоявшего у окна, вероятно, была идея не стрелять сразу в него. Но мастер понял, что здесь идет о жизни и смерти. Быстро выхватив небольшой топорик из-за пояса, он рубанул Виктора по плечу. Но тот в это время выстрелил в упор. Подбежал Юрий и тоже выпустил пару пуль, для полной уверенности. Они не стали задерживаться, быстро ушли. У Виктора рана была глубокая, но не смертельная. Сильно кровоточила. Они пошли в наш ревир, где к этому времени собрался десяток или больше разных больных. Там был наш санитар, и он сделал перевязку.
Обо всем этом они мне рассказали, когда я вернулся назад в ревир в середине июня. Я хорошо знал их по рабочей команде, поэтому у меня не было никакого сомнения в правдивости их рассказа. Юрий тоже был ранен. Но тут по собственной глупости. Порядочно подвыпивший, он ехал на велосипеде с заряженным пистолетом в заднем кармане. Забыл поставить на предохранитель. Велосипед подпрыгивал на дорожных выбоинах, произошел выстрел и пуля раздробила ему кости ступни. У него было намного серьезнее, чем у Виктора, рана которого быстро заживала. У Юрия была сильная боль и никакой медицинской помощи. Ему надо было наложить гипс. Обращения в комендатуру не дали никаких результатов.
В ревире я застал двух советских солдат с какими-то ранениями и нескольких прежних больных ревира с серьезными болезнями. Они вообще не могли ходить. Кто-то приносил им пищу. Мне нужно было им как-то помочь. Посоветовавшись с Виктором и Юрием, я пошел в комендатуру, где часовой остановил меня и сказал, что комендант ничем помочь мне не может и этими делами не занимается, да и вообще никто такими делами не занимается. «Все празднуют победу, и не беспокой никого и не приходи опять, а то нарвешься на пьяного часового, так и сам получишь,» – это были его напутственные слова.
После моего рассказа Виктор решил, что он сам пойдет к коменданту или к одному из его адъютантов. Как дела развернулись назавтра, не знаю. Но через неделю я узнал, что всех из этого ревира, включая бывших пленных, забрали в советский военный госпиталь.


![Книга Занзибар, или Последняя причина (Сборник) [Занзибар, или Последняя причина • Рыжая • Вишни свободы] автора Альфред Андерш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-sbornik-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-ryzhaya-vishni-svobody-257365.jpg)



