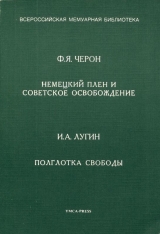
Текст книги "Немецкий плен и советское освобождение. Полглотка свободы"
Автор книги: И. Лугин
Соавторы: Федор Черон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Воровство лекарств фельдфебелем вышло наружу совсем неожиданно. В один из приездов доктор Шмидт спросил Л.Н., как помогло больному какое-то лекарство, которое он утвердил по списку. Наш доктор сказал, что такого лекарства он не получал. – Как не получал? Я видел список, где отмечено, что получили. – Л.Н. ответил, что список ему фельдфебель не показывает, а приносит только лекарства. Разговор дальше не пошел. Но после этого случая комендант приносил лекарства вместе со списком. Надо полагать, что фельдфебель получил взбучку от Шмидта. Таблеток все равно часто недосчитывалось. Иногда фельдфебель говорил, что взял лично для себя или для охраны. Спорить было бесполезно, но иногда Л.Н. бросал несколько резких слов по адресу коменданта. Начинались трения.
В нашем ревире было два приемных дня: вторник и четверг. Мы обслуживали 25 рабочих команд, расположенных в радиусе не больше 15–20 км. В один день было невозможно принять больше 50-ти человек. Поэтому для каждой команды устанавливался свой день приема. В случаях серьезных заболеваний или ранений разрешалось приходить вне очереди.
Из одной команды приводили на прием обыкновенно 7 человек в сопровождении одного конвоира. Если число больных было десять или больше, то два конвоира. Это случалось редко. Если количество больных в команде превышало 8–9 человек, то комендант рабочей команды выбирал тех, кто немедленно нуждался в помощи, а остальных оставлял на следующий прием. У него была своя мера определения «болезненности».
Первым делом в ожидалке измеряли температуру. Это было установлено нашим фельдфебелем как обязательное условие. Он очень верил в температуру. Доктор не противоречил. После этого по очереди входили в приемную, где был доктор, санитар и почти всегда фельдфебель. Там же в книгу я записывал имя и фамилию больного и тот диагноз, который поставил доктор. Все записи велись на немецком языке. Хотя я знал хорошо только два ревира, но мне кажется, такой порядок был во всех ревирах. Наш фельдфебель не знал русского языка, поэтому в разговор не вмешивался, и мы могли знать точную картину «болезни» пленного. Я поставил слово болезнь в кавычки потому, что очень часто никакой болезни не было и надо было ее выдумывать. Пленные уставали от работы и хотели отдохнуть несколько дней в ревире. С диагнозами пленного доктора фельдфебель соглашался почти всегда. Было несколько случаев, когда он хотел показать свои знания в медицине и вмешивался. Тогда Л.Н. поднимался со своего места и предлагал его фельдфебелю, говоря, что если он знает лучше, как поставить диагноз больному, то пусть ставит. Сам уходил в ожидалку. Кончалось тем, что фельдфебель, страшно нервничая, уходил совсем. Надо отдать ему справедливость, что он быстро отходил и никогда не вспоминал о том, что произошло. Он был верным служакой в прусском стиле. На первом месте у него была дисциплина и повиновение: нарушение закона или распоряжения должно было быть наказано. В столкновениях с русским доктором он знал, что он не прав, и поэтому не настаивал.
С температурой часто получалось комически. Если у больного была температура 39, то оставить его в ревире на несколько дней было делом решенным, хотя мы знали, да и больные нам говорили, что температуру подняли трением термометра об одежду. Это делалось, главным образом, для коменданта. Потом он сообразил, что здесь что-то не то, иногда стоял около больного, пока тот измерял температуру.
В первые недели по приезде русского доктора фельдфебель присутствовал при приеме больных почти каждый приемный день. Потом иногда только забегал на несколько минут и уходил.
Русский доктор мог не только оставить больного в ревире на неделю или две, но он также мог освободить его от работы в команде, максимум на три дня. В таких случаях больного не заставляли выходить на обычную работу, но часто заставляли подмести барак или выполнить какую-нибудь другую легкую работу. Как ни странно, но предписания доктора выполнялось немецкой охраной почти на сто процентов. Больного выгоняли на работу за редким исключением. Если этот факт доходил до нас, то мы были бессильны что-либо сделать прямо. Для этого надо было настроить фельдфебеля, так сказать, на правильную ноту.
В таких случаях, играя на его мании величия, мы ставили его на первое место и говорили: мол, смотри, не выполняют предписания ревира, собственно, твоего ревира, ты же здесь голова. Тогда он входил в азарт и при нас разносил охранника, приведшего больных из той команды, писал записку коменданту команды и, к удивлению, все налаживалось.
Фельдфебель был верным служакой Гитлера, он верил в своего фюрера до самого последнего конца. Нельзя было никак заподозрить его в симпатиях к русским. Но нарушение приказа или распоряжения, исходящего из его ревира, не допускалось по его прусской морали.
Изо всей сети лагерей, шталагов, концлагерей и рабочих команд ревиры были единственным местом, где русский пленный мог рассчитывать на помощь. Конечно, все зависело от русского доктора. Были и такие, которые все дело отдавали в руки немцев и не могли или боялись постоять за своих больных.
Больных с серьезными болезнями лечить в ревире не было никакой возможности. Даже для самых простых операций, таких как аппендицит, не было ни инструментов, ни оборудования. Болезни, которые не поддавались лечению таблетками, грелками, растиранием, уколами и банками, приводили больного в конце концов к могиле. Насколько я знаю, русским больным в обыкновенных ревирах операции не делали, а больниц для них не было. В немецкие больницы «унтерменшей» не принимали.
Ревиры были, в своем большинстве, местом отдыха для физически вымученного организма. В команде держать такого было невыгодно для работодателя, раз для работы он больше не годился. Вот и везли таких бедолаг в ревир, где они не могли надеяться ни на хорошую пищу, ни на лекарства. Могли надеяться только на свой собственный организм. Молодые пленные в большинстве поправлялись, хотя пища в ревире часто была хуже, чем в команде.
Нетрудоспособных пленных по нескольку раз отправляли в ревир, но не чаще, чем один раз в два-три месяца. Если больной не поправлялся через 3–4 (редко 6–8) недель, то назад в команду его не брали. Таких больных отправляли в «свалочный лагерь» Цайтхайн, в 7–8 км от города Ризы на Эльбе.
В ревире умирать «не разрешалось» по многим причинам, а главная была та, что негде хоронить «унтерменша». На немецком кладбище вместе с «оберменшами» – нельзя было в фашистской Германии. Зимой 1943 года у нас умерло два человека за одну неделю. Дело было в январе. Что делать? Фельдфебель решил похоронить их метрах в ста от лагерной ограды. Думаю, что он советовался с кем-то по этому вопросу. Может быть, с тем же самым доктором Шмидтом. Мне помнится, он привез наскоро сколоченные ящики.
Дело на этом не кончилось. Где-то и кто-то искал место для умерших, потому что оставить их на этом поле, вероятно, не разрешалось. Когда земля оттаяла, их выкопали наши санитары и еще двое пленных, положили в общий ящик и на ручной тележке повезли в город Ошац на городское кладбище. Там на самом краю кладбища уже была вырыта могила. Туда опустили ящик, засыпали (это делали пленные), тщательно сравняли могилу с землей и утрамбовали. Никакого признака могилы не было видно.
Как я сказал уже раньше, русских пленных не принимали в немецкие больницы ни под каким видом. Запомнился один случай, когда человека можно было легко спасти, но он умер, потому что был «унтерменш», и немцы не хотели спасать жизнь русского. Его фамилия была Зверев. Он был москвич. Работал в команде по разгрузке железнодорожных вагонов. Работать в колодках неудобно, особенно зимой. Он поскользнулся, упал на транспортер с углем и попал в какие-то валки. Ему оторвало всю ступню до косточки, и одна рука была переломана в двух местах. Переломы были закрытыми, но он истек кровью из ноги. Там торчали только кости. Когда его привезли к нам, кровь уже не шла. Он был в сознании и рассказал, как случилось. Человек он был сильного здоровья. Ему надо было немедленно сделать переливание крови. Нет сомнения, что он мог выздороветь через несколько недель. Наш доктор сказал, что нужна кровь и что каждый из нас готов дать своей крови сколько надо, если подойдет. Но как узнать, чья кровь подойдет? Фельдфебель отказался что-либо сделать, ссылаясь на то, что пленных-калек Германии не нужно.
Потом он пошел к шкафу с медикаментами, достал шприц и морфий и поднес русскому доктору. Доктор ответил, что убийством он не занимается и что если фельдфебель решил убить человека, то пусть сам делает. У фельдфебеля дрожали руки, но он сделал смертельный укол и быстро ушел. Остались мы смотреть, как умирает человек. Зверев сначала разговаривал, даже улыбался, когда морфий взял силу, но постепенно все медленнее и медленнее было его дыхание, и последний вздох он сделал через три минуты. И медперсонал и многие больные видели, как умирал один из нас. А ведь мог жить!
Единственный знаю случай, когда одному 19-летнему парню сделали нужную операцию за час или меньше и привезли назад в ревир на тележке, когда он еще был под местным наркозом. Собственно, у него не было никакой болезни. Он работал у фермера, был в хорошем физическом здоровье, и его гормоны начали работать. Думаю, что с ним работали девушки-остовки. Гормоны-то работают, а дело с эрекцией плохо: приращение крайней плоти, сильная боль и все распухло. Упросили фельдфебеля позвонить высшему начальнику, чтобы сделали операцию в немецкой больнице. Какой-то немец-доктор согласился, с условием, чтобы парня сразу же убрали назад в ревир. Я не знаю другого случая, когда бы «унтерменш» попал в немецкую больницу.
Туберкулез был самой распространенной болезнью среди русских пленных. За ним следовали воспаление легких, плевриты, простуды, фурункулезы и карбункулы. Ранения на работе, за редким исключением, были не серьезными, по крайней мере среди тех 25-ти команд, которые обслуживал наш ревир. Больных с хроническими заболеваниями легких, желудка, почек или печени отправляли в Цайтхайн.
В Цайтхайне скопилось около 50 тысяч пленных осенью 1941 и зимой 1942. Это главным образом измученные голодом и недугами пленные из польских лагерей. Их дальше и не отправляли. Они тут и осели в Цайтхайне. Потом потекли потоки и из ревиров, но еще немногочисленные. Никакого лечения в Цайтхайне не было, пища самая отвратительная. Нетрудоспособные немцам не нужны были. Оставили их на умирание. Зима 1941-42 года была самой страшной в этом лагере. За три с половиной месяца здесь умерло 37 тысяч. Тиф косил тысячи каждую неделю.
Когда эпидемия тифа захватила весь этот лагерь, немцы так боялись заразиться, что даже не входили в лагерь. В проволочной двойной ограде была сделана дыра, через которую бросали пленным пищу. Те, кто мог двигаться и мог подойти к проволоке, хватал, что попадало под руку, а кто не мог двигаться – умирал и от тифа, и от голода. Несколько русских санитаров выжило, и они вели картотеку погибших в эти месяцы. Эту картотеку продолжали до конца войны. К маю 1945 года в общей сложности, как говорил мне один доктор, пробывший в Цайтхайне два года, в этом лагере умерло больше 70 тысяч.
Эти детали мне известны по той причине, что мне приходилось несколько раз сопровождать туберкулезников из нашего ревира в этот лагерь, и я лично знал нескольких докторов, которые там работали. Обычно в такое однодневное путешествие отправляли одного или двух больных, одного из медперсонала и конвоира. Очень редко, но были случаи, когда больного везли на носилках. Тогда требовалось два человека из медперсонала. Так как наш ревир находился на расстоянии четырех километров от города Ошаца, то до железнодорожной станции мы шли пешком. В поезде мы занимали одно купе. Немцы нас сторонились, как чумы. Хотя до этого лагеря и было не больше 20 км, но уходил целый день, и мы возвращались только поздно вечером.
В мою последнюю поездку, в начале 1945 года, я сопровождал туда своего друга в бессознательном состоянии. У него был туберкулез головного мозга.
Одна еще деталь насчет лагеря в Цайтхайне. В этот лагерь поместили военнопленных девушек и женщин, которых взяли в плен под Вязьмой. Для них был отдельный барак, и их было там, кажется, не больше 50. Некоторые из них работали фельдшерами и сестрами. Был слух, что тех женщин, которые попали в плен в самом начале войны, – просто отправляли как остовок и не сажали в плен. Так было до вяземского окружения.
Инициатива в отправке пленного в Цайтхайн исходила от коменданта. Когда он замечал, что больной уже три недели или дольше в ревире и не поправляется, то он говорил доктору, что надо его отправить в туберкулезный лагерь.
Этого лагеря боялись, потому что оттуда возврата не было. Об этом знали во всех рабочих командах. Просили доктора повременить, не отправлять или задерживать отправку как можно дольше. В нашем ревире мы помогали всем, чем только могли. Ставили ложные диагнозы, чтобы обмануть коменданта, иногда прятали при обходе, или выписывали из ревира назад в команду, заранее зная, что через неделю-две вернется к нам обратно. Но при втором сроке в ревире уже становилось подозрительно для фельдфебеля: что-то неладно с этим больным. И от неизбежного уже было не уйти. Иногда же больного приводили с запиской от коменданта рабочей команды, чтобы этого пленного не выписывали назад в команду, а отправили в лагерь смерти, потому что работать он не может и все время болеет. Иногда нам удавалось отсрочить отправку и приютить человека на две-три недели в ревире, но неумолимый срок приходил.
Медперсонал нашего ревира никаких привилегий от немцев не получал. Для нас не было специальной кухни или чего-то в этом роде. Ели мы то же, что и больные. Разве только иногда нам повар давал пару лишних черпаков баланды или лишний литр снятого молока, которое изредка в 1943 году привозили пленным. Нам помогали свои же пленные из рабочих команд, они делились с нами краденными продуктами. Еще одна помощь приходила, но не регулярно, с аэродрома. Об этом потом.
Самый большой наплыв в ревир больных пленных был зимой 1941-42 года и продолжался, постепенно утихая, до середины 1943 года. Зима 1941-42 года была самой страшной для русских пленных.
Приблизительно после курской битвы, летом 1943 года, отношение немцев к русским пленным начало меняться в лучшую сторону. Пища улучшилась и количеством и качеством, физические издевательства и битье почти прекратились. И пленные, кто уж выжил до этого времени, стали настойчиво бороться за выживание. Если работали на работах, имеющих касательство с продуктами, воровали все съедобное. Воровали так искусно, что даже обыски не помогали. Команда, сезонно работающая на сахарном заводе, тянула темно-коричневый сахар, то есть сахар не совсем очищенный. И тянули в таком количестве, что во время приемных дней приносили нам по два-три килограмма. Другая команда, по разгрузке железнодорожных вагонов, тоже не терялась. В некоторых случаях они делились ворованным с конвоирами. Тогда ничего не выходило наружу, и каждая сторона выигрывала.
А те команды, которым нечего было воровать на работе, ночью уходили из лагеря и обворовывали ближайшие дома. Охрана лагерей уже была очень слабой: у немцев просто не хватало солдат для охраны пленных. Уйти из лагеря ночью и возвратиться до рассвета было сравнительно простым делом. Когда в деревне или городке поблизости с лагерем военнопленных обнаруживали кражу, немцы приходили в недоумение, откуда у них так много развелось воров. Начали задумываться, подозрение падало на русских пленных. Но здесь уже сами коменданты становились на защиту русских. Не потому что любили их, а чтобы их самих не обвинили в плохой охране лагеря. А если обвинят, то прямая дорога на Восточный фронт, почти на верную гибель. Поэтому обвинение советских пленных в покраже не приставало, хотя, думаю, коменданты знали, что это могло быть. Но наши пленные так ловко делали вылазки и так хорошо маскировали свои следы, что прямых доказательств не было. Рассказывали пленные нам на приеме, как они стащили несколько окороков в одном фермерском доме, и вся команда пировала пару дней. В другой команде воровали французские вина и коньяки на разгрузке вагонов. Как-то и нам принесли бутылку коньяка.
В одной команде обнаружили, что фермер гонит спирт из картошки, и он стекает в запломбированные цистерны для военных целей. Долгое время не могли придумать, как бы дотянуться до того спирта. Придя на прием, начали советоваться с другими пленными, которые работали на заводе по сбору военного оборудования. Те предложили за спирт принести на следующий прием дрель, резец для резьбы и нужные болты. Дело уладилось, и через две недели обмен спиртом состоялся через ревир. До самого конца войны так немцы и не узнали, куда утекал спирт. Цистерны были прикрыты соломой, и высверленные дырки хорошо маскировались.
Так что питание большинства пленных начиная с 1943 года намного улучшилось. Поражения на восточном фронте начали поворачивать немецкие умы: на всякий случай надо было лучше обращаться с «унтерменшами». И вообще с отступлением немцев из Советского Союза пленным в Германии становилось лучше. Не говорю обо всей массе пленных, но о тех нескольких тысячах, чью жизнь я знал с начала войны и до мая 1945 года.
Бегства из лагерей бывали, но не часто. Бежать было – самое простое дело. Но куда бежать? Расстояние от Германии до фронта громадное. Все равно поймают, не сегодня, так завтра. К тому же за побег посылали в такие лагеря смерти, как Саксенгауз, Дахау, Аушвиц. Но самой главной причиной, отклонявшей от побега, было то, что успешно бежавших пленных, которые добрались до своих, энкаведисты обвиняли в шпионстве, в измене родине и часто расстреливали, или посылали в штрафные батальоны, а это было равносильно смерти. Эти батальоны посылались на такие укрепленные немецкие пункты, что командование заранее знало: только ничтожный процент уцелеет. Как бы советские пленные ни были изолированы от источников новостей и происшествий на фронтах, все равно какими-то невидимыми путями эти новости просачивались к нам. В наш ревир поступил такой дважды-беглец. Дважды он убегал и дважды был послан в штрафной батальон. «Третий раз не буду убегать. Судьба спасла два раза, но на третий придет моя гибель. Нам не верят, мы враги, шпионы, изменники. Выходит, что у нас нет родины,» – говорил он. Подробно рассказывал, как его встречали, каким допросам подвергали энкаведисты, как долго держали в изоляторах, прежде чем выпустить в штрафной батальон.
До нас доходили слухи, что чаще всего бежали советские пленные во Францию или Бельгию, надеясь попасть там в подпольные организации. После войны стало известно, что некоторым это удалось, но большинство было поймано и посажено в концлагеря. Беглецов допрашивало Гестапо и страшно избивало. В этом я убедился на примере беглеца из рабочей команды нашего лагеря. Его поймали на третий день. Он сумел уйти только на 25 км, не имея карт и плохо зная немецкий язык. Язык все равно не помогал: советского пленного выдавала его форма с буквами SU. После допроса в Гестапо его привели в ревир на перевязку ран, нанесенных гестаповцами. Потом послали его в Саксенгауз. Может быть, он и не попал бы в концлагерь, если бы не сшиб с ног гестаповца, который хотел его остановить. (Он ехал на велосипеде, а за ним гнался немец.) Гестаповец полетел под откос, но Николая все равно поймали через несколько часов и страшно избили.
Можно здесь обобщить, что в своей массе русские пленные в Германии не бежали из немецкого плена, если им не угрожала верная смерть от голода или непосильной работы.
День в ревире начинался в семь часов утра. Открывали двери, которые были ночью на замках, и солдат выкрикивал слово «ауфштейн», что значило подъем. В ревире эти солдаты были санитарами. Помню двоих, и оба были инвалиды, получившие тяжелые ранения на Восточном фронте. У одного была исковеркана нога, он ее волочил, а другому оторвало руку. Первый был тихим, не злым человеком. Утром, входя в комнату, он стеснялся громко выкрикнуть команду на подъем. Другой первое время показывал себя «оберменшем». Роста он был небольшого, ничем в глаза не бросался, кроме своих плохих зубов. Сначала он пробовал кричать, командовать, но постепенно успокоился, поняв, что мы не обращаем на него никакого внимания и что мы неповинны в том, что он оставил свою руку на русской земле. К тому же фельдфебель не разрешал никому из своих подчиненных солдат забирать слишком много власти в ревире своими громкими выкриками.
После «ауфштейн» большинство продолжало лежать, и только к восьми часам все вставали. К этому времени уже на кухне был готов «чай». Его в ведрах приносили в каждую комнату барака. Утром кроме «чаю» ничего другого не давали.
В 12 часов брюквенный суп уже был готов. Этот суп ничем не отличался от супа любого лагеря. В супе была в основном брюква и несколько картошек. Брюкву чистили, а картошку только мыли. Иногда заправляли суп маргарином. Соли давали очень мало, так что суп почти всегда был недосолен. За три года в этом ревире в супе было, может быть, не больше десяти раз мясо, подозрительного качества.
В шесть часов вечера – ужин. Хлеб развешивался по пайкам в 300 грамм. К хлебу иногда давали маргарин, варенье или искусственный мед. В большинстве же случаев только хлеб. Одно время давали маргарин такого качества, что даже голодные желудки пленных отказывались его переваривать. Был слух, что этот маргарин делали из каменного угля и пробовали на пленных. Вскоре никто его не ел. Мне кажется, его тогда начали бросать в баланду. Количество супа было достаточным для больных, но о качестве говорить не приходится.
Каждому больному выдавалось по одному одеялу. Нары были двухэтажные с соломенными матрацами и подушками. В каждой комнате были запасные одеяла, и тяжело больных укрывали ими, когда было холодно. В комнате с разными заболеваниями вместе с больными находился санитар.
Обогревались комнаты чугунной печкой посередине. Для этого давали определенное количество угля. Надо было топить очень экономно, чтобы хватило угля на все холодные месяцы. К тому же охрана украивала для себя львиную долю. У них всегда было тепло. В наших комнатах под утро было прохладно, а часто холодно.
Для мытья были алюминиевые тазы, которые использовались и для кипячения воды и для варки, если было что варить. Вода в комнаты приносилась в ведрах. Алюминиевые чашки были у каждого больного. В комнатах были общие тарелки на всех, но ложки давали в личное пользование каждому пленному.
Запирали наши комнаты на замки с наступлением темноты, но не позже восьми часов летом. Иногда в теплые дни мы просили не закрывать в 8, и часто фельдфебель соглашался, и двери оставались открытыми до 9 часов или даже позже. Окна во всех комнатах открывались внутрь и на них были проволочные решетки. Из таких решеток делают заборы. Двери закрывались только на внутренние замки, открыть которые не представляло никакой трудности. Собственно, бежать из такого барака можно было в любую ночь, было бы желание.
С самого начала организации ревира для советских пленных проверку на вши проводили систематически каждые две-три недели, потом, если их не находили, реже. Тем не менее на газовое травление водили по крайней мере каждые три месяца. Если в ревире были больные, которые не могли идти, то забирали для дезинфекции все нижнее и верхнее белье, постельное белье, а голыша укрывали одеялами, под которыми он лежал несколько часов. Длинные волосы никому не разрешали носить. Всех стригли под машинку. Нам, медперсоналу ревира, разрешили иметь длинные волосы только в 1943 году. В рабочих командах было по-разному, это зависело от коменданта. Но они сменялись, и новый часто приказывал всех стричь под машинку.
После каждой санобработки менялось постельное белье. Если не было санобработки, то один раз в месяц. Нижнее белье менялось в ревире для больных каждые две недели и обязательно после душа. Для этого отводился один день, воду нагревали углем с самого утра, и по очереди все мылись. Грязное белье собиралось в мешки, нагружалась ручная тележка, и пленные тянули ее до городской прачечной. Прачечная обслуживала немецкие военные части, пленных и производства. Не было отдельных прачечных для пленных. Вместо привезенного белья конвоир получал чистое, и нагруженную тележку опять везли назад. Белье было сделано из грубого хлопка. Прачечная выбрасывала порванное, и часто мы получали половину нового, половину старого белья. То же было с полотенцами и носками. У многих не было носков вообще, а были портянки. Не помню, возили их в прачечную или сам пленный стирал их.
Прачечная была хорошим местом встреч с другими пленными. Я часто возил ту тележку. Там мы встречали поляков и французов. Эти встречи были случайными. Лучше всего информированы были поляки. Не знаю, каким образом, но они знали, что происходит на фронтах. От своих, советских, пленных мы узнавали об их лагерях, как их кормили, как обращались, какая работа. Здесь мы обменивались новостями.
За последние 30 лет мне приходилось читать в советской прессе, что среди пленных были подпольные организации. Я никогда в плену не слышал о них. Если б они существовали, то мы бы в ревире знали. Приходя на прием два раза в неделю, пленные нам приносили новости изо всех команд. Общая численность пленных этих команд была приблизительно две тысячи человек. В прачечной мы также встречали остовцев и много иностранцев, которые тем или иным образом попали в Германию. Но о подпольных организациях я никогда не слышал. Голодному пленному думалось только о пище. Об этом и говорили. Ну, и еще, под конец войны, когда большинство поправилось физически, из лагерей убегали к своим остовкам по ночам, чтобы под утро возвратиться опять в лагерь.
Я уже упоминал раньше, что на территории ревира был второй барак, который оставался пустовать некоторое время после ухода пленных других стран. Пустовать ему пришлось недолго. Ранней весной 1942 года в этот барак прибыло 65 советских пленных для работы на аэродроме. Там они убирали здания и территории аэродрома, чистили кухни, подвалы. Всех работ не перечислить. Часто чистили картошку для кухни немецких солдат.
Вскоре они знали весь аэродром, где, что и как найти, где можно раздобыть кусок хлеба или тарелку супа. Быстро из доходяг, которыми приехали, они стали настоящими, здоровыми ребятами. Остатки пищи из немецкой кухни, особенно суп, выбрасывались в кухонную пристройку. Пленные по очереди забегали туда и ели, что находили. В первые дни, когда многие из них были еще слабыми, получались комичные сцены. Вдруг слышится крик заглушенный из кухонной пристройки. Вбегают немцы и видят – из бочки торчат чьи-то ноги. По обуви сразу узнавали, что это «унтерменш». Помогали вылезти. Большинство смеялись, а некоторые ругались. Оказывается, суп был только на дне бочки и, потянувшись за ним, пленный не удерживался и падал на руки. Начинал кричать о помощи.
Обыкновенно, все остатки из кухни забирал фермер по уговору и кормил своих домашних животных. Теперь, с появлением пленных, мало что оставалось фермеру. После происшествия с супом стали запирать пристройку на замок. Но это продолжалось недолго, замок научились открывать.
Было почти невозможно охранять всех пленных, работающих во многих углах большого аэродрома. Обычно команда охранялась двумя, редко тремя солдатами. При возвращении с аэродрома всех тщательно обыскивали. Так что пронести что-либо в карманах не всегда удавалось.
Наш ревир и аэродромная команда составляли один лагерь за одной общей колючей проволокой. С появлением рабочей команды между нашими бараками поставили еще забор из колючей проволоки. Общими у нас были кухня, уборная и умывальня, где мы и встречались. Запрещалось ходить друг к Другу в бараки. Когда наш повар начал часто забегать в рабочую команду играть в карты, то после нескольких предупреждений комендант в наказание отправил его в команду на тяжелую работу.
На кухне было два повара: один готовил суп для рабочей команды, другой – для ревира. Качество супа было одинаковым. Охрана рабочей команды охраняла весь лагерь. Охрана никогда не превышала 6 человек.
Учебный аэродром рядом с нашим лагерем был в одно и то же время отправочным пунктом на Восточный фронт. Когда набиралось несколько сот солдат, то приземлялись самолеты и увозили их на фронт, которого они боялись, как смерти. Приказ об отправке приходил очень часто неожиданно, около двух-трех часов дня, когда уже в котлах варился ужин. Улетало, скажем, четыреста человек. А что делать с супом? Когда на Восточном фронте дела для немцев шли неплохо, то с аэродрома звонили в наш лагерь, что есть суп для пленных. Часто супа было много и хватало всем, но иногда получала только рабочая команда. Кроме супа, случалось, бывала вареная картошка.
По тому, как часто нам звонили с аэродрома, можно было судить о делах на Восточном фронте. Если суп стоял бочками на выброс и нам не звонили, то дела были плохи. А эту информацию, что стоят бочки с супом, приносила рабочая команда, приходя с аэродрома. Не дают, значит немцев бьют на Восточном фронте. Пусть лучше суп удобряет немецкое поле, а «руссише швайн» пусть голодают.
На этот аэродром часто и прилетали с Восточного фронта. Некоторые солдаты могли связать несколько слов и пробовали разговаривать с пленными рабочей команды. Один был случай, что приехавший, увидя пленных, бросился на них и стал их бить палкой. Они стали убегать, и получилась такая неразбериха, что срочно был вызван вооруженный отряд для успокоения. Его арестовали, потому что он пробовал стрелять, когда его окружил отряд. Пленных на скорую руку увели вообще с аэродрома. Но таких стычек было очень мало. В основном были словесные стычки. Наши пленные уже довольно прилично говорили по-немецки. Не все, конечно, но многие. Один раз какой-то высокий чин, чуть ли не генерал, приказал вовсе убрать пленных с аэродрома. Их спешно увели. Но назавтра опять повели на работу: генерал уже улетел на Восточный фронт.
Несколько раз немецкое начальство испытывало качество продуктов на советских пленных. Запомнился случай с рыбой, привезенной не то из Норвегии, не то из Швеции. Когда раскрыли бочки, то немецкому доктору запах показался подозрительным и он запретил давать эту рыбу немецким солдатам. А почему бы не попробовать на русских желудках? Помрут – спишем в расход, выживут – значит рыба неплохая. Позвонили в рабочую команду, что есть две бочки рыбы для пленных. Поехали с двумя ручными тележками. Через час или меньше привезли две большие бочки копченой рыбы. Рыба была залита маслом. Громадные куски. Думаю, что бочки были килограммов по 200. Одна бочка для ревира, одна для рабочей команды. Здесь уже спора не было, кому сколько. Было видно, что всем хватит и останется. Если не ошибаюсь, это было осенью 1943 года. Под присмотром коменданта рабочей команды и нашего фельдфебеля начали раздавать рыбу по комнатам. Несколько алюминиевых тазов на каждую комнату.


![Книга Занзибар, или Последняя причина (Сборник) [Занзибар, или Последняя причина • Рыжая • Вишни свободы] автора Альфред Андерш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-sbornik-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-ryzhaya-vishni-svobody-257365.jpg)



