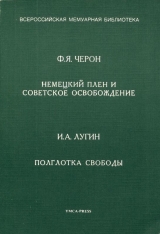
Текст книги "Немецкий плен и советское освобождение. Полглотка свободы"
Автор книги: И. Лугин
Соавторы: Федор Черон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Вероятно, с аэродрома поручили фельдфебелю наблюдать, как рыба подействует на пленных, потому что он долгое время ходил то в одну комнату, то в другую и спрашивал, не болят ли желудки, не болит голова. Но все было благополучно. Рыба была очень вкусная, хотя и с запахом.
У рабочей команды было много картошки, потому что за два дня до рыбы они ночью уворовали с аэродрома два мешка картошки. Да, с аэродрома, который охранялся часовыми с собаками. Прорезали дырки в ограде лагеря и аэродрома, и через час вернулись с мешками. Поделились с нами картошкой, и начался пир по всему лагерю, который продолжался три дня. Это было самое лучшее, что я когда-либо ел почти за четыре года плена. Никто не отравился и даже не заболел. Нескольких человек понос пробрал, потому что было много жира, и желудок без привычки не мог справиться. Варили картошку на тех же чугунных печках в комнатах. Рабочей команде разрешалось приносить с аэродрома дровишки для печки. Обычно поломанные ящики. Они установили очередь и каждый день приносили семь вязанок дров. На этих дровах и варили картошку.
Варить вообще в бараках не разрешалось. Все делалось тайком. Обычно два человека дежурили и предупреждали, когда солдат направлялся к бараку. Тогда быстро снимали таз и прятали. Конечно, по запаху можно было понять, что происходит. В большинстве случаев солдат делал вид, что ничего не замечает, и уходил. Так стало с 1943 года. А до того бывали очень неприятные истории, когда дело кончалось плохо.
Очень многое зависело от коменданта команды. Если попадался хороший человек и понимал, что под его властью голодные люди, то он многое прощал и старался не замечать. Около года комендантом рабочей команды был толстяк, которого прозвали «парашей». Когда он подходил к бараку, предупреждали выкриком «параша идет». Услышав несколько раз это выражение, он спросил одного пленного, что означает «параша». Тот не долго думая ответил, что по-русски это значит «хороший человек».
Он хорошо относился к пленным, многое прощал. А если наказывал, то не жестоко. Обычно приказывал пробежать вдоль двора несколько раз или присесть и встать раз двадцать. Он никого не отправил в концлагерь из этой команды. Даже не особенно рассердился, когда узнал истинное значение слова «параша».
Споров на политические темы было очень мало среди советских пленных солдат. Когда умирали от голода, проклинали немцев, вспоминая лучшие времена. Когда положение улучшилось, вспоминали обиды советской власти, чистки, гибель родственников и знакомых во время чисток, во всю разносили и революцию, и большевиков, и советских «вождей». Особенно доставалось Сталину. Не помню ни одного человека, кто бы хвалил советскую систему на сто процентов. Говорили о положительных сторонах системы тоже, но они казались такими малыми по сравнению с отрицательными. Рассказывали много анекдотов о советских «вождях». Среди пленных было много хороших рассказчиков этих анекдотов.
В самом городе Ошаце был, по слухам, большой сборный лагерь. Там, как будто, содержались и пленные, и остовцы. Находился он в двухэтажных зданиях и внешним видом напоминал тюрьму. Мне кажется, при этом лагере находились две команды: одна сапожников, для ремонта обуви, другая портных. Обе команды занимались ремонтом обуви и одежды для пленных всех национальностей. О них знаю мало, потому что они очень редко приходили в ревир. Несколько человек из нашего ревира попало туда в команду портных, потому что не могли нести тяжелую работу. Кормили в том лагере очень плохо.
Среди советских простых пленных солдат было много офицеров, которые попали в плен или переодетыми в гражданское или, по каким-то соображениям, в солдатском обмундировании. Некоторые в разговоре открывались, но многие хранили этот факт как большую тайну.
В мае или июне 1942 года нам объявили, что можно писать письма домой, если это на территории, занятой немцами. Текст письма был уже подготовлен, и к нему разрешалось добавить не больше двух-трех предложений. Ничего отрицательного. Не помню, чтобы многие ухватились за эту идею. К моему греху, я не написал, и оставил свою маму на долгие годы жить в страданиях и мыслях обо мне, не зная моей участи. Маме хотелось верить, что я жив, и сколько у нее было бессонных ночей, слез материнских, слез горечи, надежд и сомнения. До сих пор боль ношу в душе и мучит совесть. Что это было: боязнь, страх за будущее? Может быть, молодость, жизненная неопытность и незнание, как матери тяжело было жить в неизвестности. Эта привилегия писать письма продолжалась, мне кажется, не больше шести месяцев.
В 1943 году, точно не помню месяца, вдруг фельдфебель принес нашу «зарплату». Сказал, что теперь мы будем получать по две марки в неделю. Эти немецкие марки не были похожи на нормальные, циркулирующие среди немецкого населения. Это были специально выпущенные для иностранцев, работающих в немецкой индустрии и сельском хозяйстве. В 1943 году решили платить и пленным. В некоторых лагерях, по слухам, платили уже в 1942 году. Но в этой части Германии, то есть в Саксонии, это было в 1943. В рабочих командах начали получать марки приблизительно в то же самое время. Шли эти марки как будто на уровне настоящих немецких. Но я в этом не уверен. В некоторые лагеря даже привозили махорку за эти марки. К нам ничего не привозили. Единственно, что можно было купить, это карандаш, бумагу и книги. Но для этого надо было попросить охранника или фельдфебеля. Иногда солдат соглашался, а многие отказывались. Комендант вспомнил, что он мне купил словарь в 1942 году, и сказал, чтобы я заплатил теперь этими марками. Вообще, в большинстве случаев эти марки пропадали, потому что пленные не знали, что с ними делать.
В конце 1942 года по лагерям ходили пропагандисты, объясняющие политику Германии в оккупированных областях Советского Союза. Пропагандисты были пленные, в сравнительно приличном обмундировании советского солдата, и их приводили под охраной. Обычно охранники не понимали по-русски и мы смело задавали пропагандистам разные вопросы, заранее зная, что, не покривив душой, они ответить на наши вопросы не могут. Они так же не верили в немецкую победу, как и мы, и сознавались, что голод заставил их повторять то, чему их натаскали на курсах пропагандистов.
За этой волной пропагандистов стали приезжать другие в гражданском. Эти записывали в национальные батальоны. Потом появились власовские офицеры. Они приезжали в рабочую команду, но мы тоже присутствовали на их лекциях.
Был такой случай с Амбарцумяном. Попал он к нам в ревир при непонятных обстоятельствах. Он не был болен, кроме обыкновенного изнеможения от полуголодного существования и тяжелой работы. Его поместили по распоряжению коменданта в комнате медперсонала. Недели две мы были в недоумении, зачем его приняли в ревир без всякого диагноза и докторского осмотра. Он сам тоже ничего не говорил. До войны он был учителем, и дома в Армении у него осталась жена и маленькая дочь, о которых он часто вспоминал. Потом приехал армянин в гражданской форме, и Амбарцумяна вызвали в барак коменданта. Содержание двухчасового разговора он нам не рассказал, но сказал, что записался в национальный батальон. Все уже оформлено, и через несколько дней он уезжает. Сейчас стало все понятно. О своем решении он заявил еще в рабочей команде, и ревир стал, по неизвестным для нас причинам, как бы транзитным пунктом. Это был единственный такой случай в этом ревире, пока я там находился до лета 1944 года.
Через дней десять приехал солдат, и Амбарцумяна куда-то увезли. Прошло, думаю, месяца три-четыре, и вдруг он опять появляется в ревире, на этот раз в немецкой форме, с отличием национального батальона на рукаве. Фельдфебель привел его к нам с гордым видом и оставил на пару часов. Мы засыпали его вопросами и убедились, что за эти месяцы он действительно стал убежденным сторонником немецкой политики на Востоке. Мечтал об освобождении Армении и всего Кавказа от советской власти. Уверял нас, что победа Германии не за горами и очень смело парировал наши вопросы. Об одном не сказал, где находится его часть.
Потом уже после войны стало известным, что национальные батальоны, если не все, то большинство, защищали французское побережье от вторжения союзников. И там же большинство из них нашли свою смерть. Читая послевоенные книги о высадке союзных войск, мы поняли, что за независимый Кавказ они боролись во Франции. В нескольких книгах упоминаются случаи, когда союзные солдаты врывались в бункера, а им навстречу кричали: «Не стреляйте нас, мы русские, мы русские». Но солдаты оставили сотни трупов, чтобы дойти до этих бункеров… Пощады не было…
Власовские офицеры объясняли цели власовского движения, но они не могли ответить на вопросы, где и когда будет воевать Власов со своей армией. Было очень много недосказанного или сказанного с неопределенными намеками. Главное было то, что не верили немцам, убедившись, как они обращались с пленными и на оккупированной части Союза с населением. Далеко не во все команды ездили пропагандисты, и не во всех командах знали о власовском движении. Запись во власовскую армию коснулась только ограниченного числа пленных, но тем не менее она спасла несколько тысяч пленных от голодной смерти. Пропагандисты не имели успеха в командах, где сносно кормили и работа была сравнительно легкой. Нет сомнения, что среди пленных многие хотели видеть гибель большевизма, но не за счет порабощения немцами России.
Из нашей рабочей команды записалось во власовскую армию только два человека, хотя комендант команды нажимал, чтобы все записались. Остальные уже настолько окрепли физически и морально, что не хотели и слушать об армии, о фронте и войне. Они даже концерты стали устраивать в своем бараке. Среди них два человека хорошо пели. Появилась откуда-то балалайка, и даже охрана иногда приходила послушать.
Начиная с января 1942 года нам привозили в ревир газету для советских пленных «За Родину». Получали мы ее довольно регулярно до 1944 года. Ничего, конечно, о жизни пленных ни в лагерях, ни в рабочих командах. Воспевалась Германия и ее политика на оккупированных территориях Советского Союза. Можно сказать, содержание газеты было немецкое, хотя редакторы и были русские.
В конце 1943 года рабочую команду нашего лагеря куда-то увезли. Предупредили за несколько дней быть готовыми к отъезду. Куда и почему – никто им не сказал. За ними приехали машины, и рано утром их увезли.
Прошло больше месяца, и мы узнали, что их поставили на зенитные батареи где-то ближе к французской границе. Дали им французскую военную форму без знаков отличия и приставили пару немецких младших командиров. Недалеко от батареи находился барак, где они спали, а пищу привозили им из другого места. При известии, что приближаются американско-английские бомбардировщики, им приказывали наводить батареи и открывать огонь по самолетам. Но кто мог проверить, куда они стреляли? Палили куда-то, только не по самолетам. Командир боялся их: он был один, а их много. Потом после войны рассказывали, что в большинстве случаев немецкие командиры теряли контроль над вынужденными зенитчиками. Кем считать этих зенитчиков: добровольцами, власовцами, пленными, коллаборантами? Никакое из этих определений не подходит.
Их барак пустовал две недели. Потом туда привезли из центрального лагеря другую команду советских пленных. Они тоже работали на аэродроме и скоро тоже стали физически трудоспособными людьми. Но они продержались не больше 7–8 месяцев, и их куда-то отправили. Может быть, они тоже стали зенитчиками.
Единственное, что запомнилось об этой команде, это то, что там пленные нашли бывшего полицая. У пленного, который его узнал, этот полицай в прежнем лагере отнял сапоги. Бывший полицай сначала ни в чем не сознавался. Ему устроили суд в бараке, и он признал свою вину. Сапоги ему пришлось отдать и получить взамен ботинки. Его немного побили, но главное было то, что все пленные оттолкнули его от себя, и это он переживал.
После капитуляции Италии в наш лагерь пригнали около 150 пленных итальянцев. Они заняли рабочий барак и одну комнату ревира. Было тесно, но половину их увезли куда-то через две недели. Они не знали ни русского, ни немецкого языка. Нам пришлось на скорую руку учиться итальянскому языку. Один из наших санитаров запомнил несколько десятков фраз от одного итальянца, который кое-как понимал по-немецки.
Это было в самом конце 1943 или в начале 1944. Помню, что итальянские пленные очень мерзли, потому что все они были в летней одежде, и немцы им другой не дали. Большинство из них были совсем молодые мальчики. Они уже прошли стадии голода немецкого плена, но не достигли стадии изнеможения, до которой доходили советские пленные, прежде чем попадали в рабочие команды. В рабочую команду на аэродроме отобрали 80 человек, а остальных куда-то увезли. Отношение немцев к пленным итальянцам было, пожалуй, хуже, чем к советским пленным на этой стадии. Рабочая команда итальянцев работала на аэродроме, но за ними очень строго следили и никогда ничего не давали из кухни, если там и оставалась пища. Голод заставил итальянцев ловить на территории лагеря все, что было живое, то есть мышей и кроликов. Рядом с нашим лагерем в двух больших зданиях разводили кроликов, которые убегали из клеток. Иногда они забегали в лагерь через колючую проволоку. Итальянцы научились ловить их петлями, правда, без большой удачи.
У пленных других национальностей были свои библиотеки, особенно в шталагах и офицерских лагерях. У советских пленных никаких книг не было ни в шталагах, ни в рабочих командах. Те библиотеки, которые немцы захватили на оккупированной территории, до Германии не дошли. Они боялись, что с этими книгами попадет в Германию большевистская пропаганда. Первое время они думали, что и пленные привезут эту пропаганду, и одно время стоял вопрос, стоит ли вообще привозить в Германию советских пленных.
Зная, что в городе Ошаце есть лагерь польских офицеров и там есть книги на польском языке, мы попросили у фельдфебеля разрешения одалживать эти книги. Сначала он не знал, как нам ответить. Поговорив, вероятно, с доктором Шмидтом, он сказал, что можно, но не больше чем две книги в месяц. Книги эти привозил нам поляк-офицер из Барановичей, который знал прекрасно русский язык. Это был для него второй плен в Германии: первый раз во время Первой мировой войны, а сейчас второй раз. Говорил он хорошо и по-немецки и считался официальным переводчиком для нашего лагеря. Сидел он в плену с 1939 года. Ходил из своего лагеря к нам и обратно без охраны. Ему немцы больше доверяли, чем нам. К тому же его жена была немецкого происхождения. Он сказал нам, что об этом он никогда не говорил немцам. У них было двое детей. Был он преданным патриотом Польши и непримиримым врагом советской системы.
Читать по-польски нам было сначала трудновато. Но тем из нас, кто знал украинский или белорусский языки, справиться с польским не представляло большой трудности. Когда заходили в тупик, спрашивали поляка из Барановичей. Он был неплохой человек и никогда не отказывал в помощи. Книги нам приносил с большой охотой.
В начале 1943 года наш комендант принес лопаты и сказал, что пришел приказ вырыть траншеи в человеческий рост от нашего барака до кухни. Зачем? Прятаться от бомб. Бомбардировка немецких городов американско-английской авиацией набирала силу. Можно подумать, что немцы хотели сохранить нашу жизнь… Что же они раньше отправили на тот свет тысячи пленных, а сейчас вдруг им стала дорога наша жизнь? Многие считали, что они старались сохранить рабочую силу, которая им так нужна была. В этом есть большая доля правды. Собственно, почти вся индустрия под конец войны и держалась на принудительном труде.
Траншеи мы вырыли и несколько раз прятались там, когда объявлялась воздушная тревога. То же самое делала рабочая команда. Но наверное, американско-английская разведка знала, что аэродром был учебный, и только один раз прилетело несколько самолетов, бросили несколько осветительных ракет, для страха одну бомбу и несколько сот листовок над лагерем.
В этих листовках были новости о фронтах, о ходе войны. Мы подобрали много листовок, но как только комендант узнал об этом, то приказал отдать ему. Мы уже успели прочитать, так что не жаль было отдавать. Неужели разведка западных стран знала о нашем совсем небольшом лагере? Получалось, что знали. Зачем им было тогда бросать листовки? Может быть для немецкого населения, потому что они были на немецком языке.
С поражением немцев на Восточном фронте фельдфебель стал придирчивым, особенно с русским доктором. Иногда казалось, что он специально искал повод, чтобы сказать доктору что-нибудь неприятное. И выговаривал ему ежедневно, за разные мелочи.
Доктор не выдержал и решил бежать, заранее зная, что никуда он не убежит. Попросил меня помочь ему. Среди больных подговорил одного москвича, и решено было бежать в воскресенье, когда не будет фельдфебеля и когда бараки остаются открытыми до самых сумерок. Часовые обходили лагерь редко, так что можно было бежать за два часа до закрытия бараков. А рядом с ревиром был небольшой лес, в котором можно было хорошо спрятаться до наступления темноты. В заборе была уже раньше проделана дырка в колючей проволоке и хорошо замаскирована.
Расставили наблюдателей, которые были посвящены в это дело, чтобы оповестить, когда появятся часовые. Я открыл проволочную дыру и они проскользнули в нее и побежали до леса, который был метрах в 150–200 от бараков. Время шло, а часовые не выходили, и это играло на руку беглецам. Прошло около двух часов, когда пришел часовой проверять и считать жителей ревира.
Обычно для проверки все выстраивались в одну линию, кроме лежачих больных, и солдат считал. Как всегда, его счет совпадал с бумажной цифрой. Но не на этот раз. В чем дело? Еще раз пересчитал. Потом я пересчитал, с целью оттянуть время. Потом кто-то сказал, что доктора нет. Иногда доктор и не выходил на вечернюю проверку. Он пользовался этой привилегией. «Где доктор?» – повернувшись ко мне, спросил солдат. – «Не знаю. Я его видел только полчаса тому назад. Может быть, он с больными, – ответил я, – сейчас обойду все комнаты и найду его.» Зайдя во все комнаты, а у нас их было только четыре, стараясь оттягивать время, я вернулся через пять минут и сказал, что не могу найти. Тогда солдат сам пошел и вернулся ни с чем. Вызвал еще одного часового и они пошли проверять проволоку. Замаскированной дырки не обнаружили. И только спустя минут сорок до их сознания дошло, что доктор, вероятно, убежал. До этого никто не бежал из ревира. Это был первый случай.
Заперев бараки, вызвали фельдфебеля, который прикатил на своем мотоцикле, ворвался в нашу комнату и стал допытываться, как доктор убежал. Мы все его уверяли, что не знаем, что доктор весь день был с нами, и мы видели его за полчаса до проверки. Быстро ушел и, вероятно, сообщил местному Гестапо о беглецах.
На приеме во вторник сам фельдфебель распоряжался: кого оставить, кого назад в команду отправить. Я заметил удивительную вещь, что он был довольно либерален в решениях, кого оставить, кому сколько дней дать отдыха в команде. Он очень любил, когда ему говорили, какой он хороший. Я переводил ему и приукрашивал симптомы больного, заранее зная, чего больной хочет. Фельдфебель брал даже стетоскоп и выслушивал больных. Смешно все это выглядело и забавно, как он играл роль доктора. Мы все думали, что он расправится с больными круто, а вышло почти наоборот. Все остались довольны, а больше всех фельдфебель в роли доктора.
Эту роль ему пришлось играть две или три недели. Принимал он в ревир многих, но и выписывал часто из ревира без всяких оснований. Противоречить ему никто не смел. После бегства доктора он настойчиво пытался узнать среди больных, кто ему помогал. Но так ни с чем и остался, хотя многие видели, как это происходило. Через три дня пришел и громогласно и, можно сказать, с восторгом объявил, что доктора поймали и отправили в Саксенгауз, страшный лагерь смерти. Не имея другой информации, мы ему поверили.
Спустя несколько недель до нас дошли слухи, что доктор работает в другом ревире, в 80-ти километрах от нас. Это было подтверждено доктором Шмидтом через некоторое время, в ответ на мой прямой вопрос, что случилось с доктором Л.Н. (Спустя много лет, когда я был в Советском Союзе, я созвонился с доктором Л.Н. Встреча не состоялась. Он боялся).
Недели через три нам прислали другого доктора, по фамилии Иванов. Ему было лет сорок. С первых дней стало ясно, что это немцеугодник. Коменданту он понравился тем, что всегда соглашался с ним и принимал его рекомендации. В его поведении на приеме, даже при выслушивании больного стетоскопом замечалась какая-то неловкость. Получалось как-то грубо, неуклюже. Нам показалось довольно странным, что все таблетки он прописывал в страшно маленьких дозах. Мы были озадачены, потому что хорошо знали, как это делал доктор Л.Н. В чем дело? Экономия таблеток? Начали гадать, и кто-то сказал, что может быть он ветеринар и боится прописывать лошадиные дозы, а чтобы не ошибиться, он бросился в противоположную сторону: от маленькой дозы никто не пострадает, а лошадиной можно убить человека.
Наши подозрения оправдались. В один из приемных дней привели больного, который знал его по какому-то лагерю и знал, что он ветеринар. В том лагере он тоже работал доктором, но его быстро разоблачили. Тем не менее, у немцев он числился доктором, и им затыкали дырки, где спешно нужен был доктор. А так как докторов русских не хватало, то в каждом месте, куда его посылали, проходило несколько месяцев, пока его разоблачали. И так он плавал из одного ревира в другой.
Он был неприятная личность. Остальных пленных медперсонала он ни во что не ставил. Например, когда приносили суп в нашу комнату, то никто не смел притронуться первым. Он должен был наполнить свою тарелку и выловить все, что было лучшее в супе, а потом мы шли за ним. Ключ от шкафа с медикаментами, по настоянию доктора Л.Н., у нас лежал в условленном месте, и весь медперсонал открывал шкаф, когда была нужда. А сейчас этот забрал ключ себе в карман и никогда с ним не расставался. Надо было всегда просить его дать ключ, а он спрашивал, зачем, и если находил нужным, то сам выдавал, а в большинстве случаев отказывал, говоря, что он лучше знает нужды больных.
От лошадиного доктора надо было избавиться как-нибудь. Потому что его поддакивание фельдфебелю ничего хорошего не обещало. В первые же несколько приемов он принял в ревир очень мало пленных, несмотря на мольбы и просьбы действительно больных. Почти никому не дал освобождения от работы в команде. Мы хотели было его поправить, говоря, как вел себя предыдущий доктор и как было вообще у нас заведено. Он резко рубил нас, говоря, что надо делать так, как немцы хотят, а если идти против них, то нам же и будет плохо. Всегда подчеркивал, что не станет рисковать своей жизнью из-за каких-то «симулянтов, которые не хотят работать». Он был толстый как боров, и его трудно было прошибить гуманными идеями.
У нас уже было заведено, что кто-либо из медперсонала ходил среди пленных, приведенных на прием, и они нам говорили, зачем пришли в ревир и чего хотят. Поэтому доктор заранее знал, как разговаривать с пленным и как повернуть дело таким образом, чтобы просьба его была удовлетворена. К этому времени мы уже отлично изучили нашего коменданта и знали, что он принимает за чистую монету, а что ему не понравится. По этим неписанным законам мы действовали, и вся жизнь ревира катилась гладко до появления лошадиного доктора. Установившиеся правила не нарушались даже в то время, когда комендант играл роль доктора. Симптомы выдумывались всегда такими, что приводили к желаемой цели. А с лошадиным доктором все сорвалось.
Надо было действовать решительно и осторожно. Первое, что мы сделали, это выразили удивление в присутствии фельдфебеля, какими ничтожными дозами доктор лечит больных. Повторили это несколько раз как бы невзначай. Комендант сам начал присматриваться и пришел в недоумение. Теперь уже надо было играть на самолюбии фельдфебеля, на его медицинских «знаниях».
Никто из нас не пошел с доносом к коменданту. Решили использовать поляка-переводчика, которому немцы доверяли больше, чем нам. Я говорю везде «мы», имея в виду медперсонал: два санитара, я и фельдшер. Рассказали ему, в чем дело, и он передал фельдфебелю. Через пару дней комендант стал внимательно смотреть за доктором. Потом спрашивал нас, правда ли, что доктор ветеринар. Мы подтвердили, добавив при этом удивление, как он, так хорошо понимающий в медицине, может возглавлять ревир с лошадиным доктором. К этому времени у нас уже было второе прямое подтверждение, что Иванов – ветеринар. На прием привели пленного, который служил в кавалерийском полку, где Иванов был ветеринаром. У нас не было пренебрежения к его профессии. Но ветеринар никак не подходил для людей. Наш подход сделал свое дело. Фельдфебель вызвал его к себе, допросил, и Иванов признался, что да, он действительно ветеринар, но что с момента плена все время «лечил» пленных. Деталей допроса мы не знали, но раздосадованный ветеринар ругался и чем-то грозил нам.
Иванов пробыл в нашем ревире около трех месяцев, потом его перевели в другой ревир. Доходили слухи, что он там держится устойчиво, но пленные его презирают за услужливость к немцам и вообще за его поведение.
Скоро нам прислали нового доктора, который не отличался ни мужеством, ни знаниями. Личность бесцветная, запуганная и подозрительная. Мало о нем знаю, потому что работал с ним только несколько месяцев.
С каждым годом количество остовцев в Германии увеличивалось. В 1942 году мы еще их не видели. Они, конечно, были, но никогда не подходили к нашему лагерю. Боялись, а часто и не знали, где находятся лагеря пленных. Но уже в 1943 году они по воскресениям подходили ближе к ограде, и мы разговаривали. Нам вообще было строго запрещено всякое общение с внешним миром за пределами лагеря. Комендант в этом отношении был жесток и никогда не уступал. Если замечал, что мы разговаривали с остовцами, сам прибегал, гнал остовцев и давал нам нагоняя. Но так как по воскресениям он почти всегда уезжал домой в деревню за 20 км в направлении Лейпцига, то нам часто удавалось разговаривать и узнавать новости из внешнего мира. Часовые сидели в своем бараке и не видели нас, позади барака разговаривающих с остовцами. В своем большинстве это были девушки, работавшие на фермах. Они иногда даже приносили нам хлеб, пару яиц или еще что-нибудь из продуктов.
В 1944 году встречи с девушками-остовками через проволоку шли полным ходом, несмотря на запрещения и крики часовых. Особенно нам удавалось разговаривать, когда наступали сумерки до закрытия бараков. Коменданту, вероятно, доносили, что пленные почти в открытую общаются с остовцами. Тогда он делал вид, что уезжает домой, а на самом деле возвращался назад или же приезжал назад поздно в субботу с целью накрыть нас на месте преступления. Наказанием было: бегать по двору под команды «ложись», «вставай», «беги», – и так до изнеможения.
Но трудно было уже в 1944 году остановить порывы молодого тела. Нам уже хотелось подержать девушек за руку, а мечты летели и дальше. Если днем не разрешалось общение, то для этого была ночь. Часовые ночью спали, и только изредка и не каждую ночь кто-либо из них обходил лагерь. В одну из таких апрельских ночей 1944 года я рискнул пойти в деревню к девушке. Деревня, где она работала у фермера, находилась приблизительно в трех-четырех километрах от лагеря.
Откуда я знал деревню и дом, где девушка живет? Очень просто. Комендант ревира, как и другие коменданты рабочих команд, продавал пленных фермерам на день или несколько часов. По желанию. Желающие всегда были, потому что фермер кормил хорошим обедом. Один раз и я изъявил желание и работал один день у фермера, где работала эта остовка. Познакомились мы раньше через проволоку. Поэтому я знал, куда и как идти. С ней договорились на определенный день, и она рассказала, как пройти во двор с задней стороны и в ее комнату.
Замаскированная дырка в проволочной ограде уже давно была. Сейчас пришлось поработать над проволочной решеткой на окне. Дело было совсем простым, а окно открывалось. Часов в 11 было темно, и через несколько минут я уже был за пределами лагеря и шагал по лесу, прилегающему к аэродрому. По дороге идти не решился. Через 15 минут наткнулся на часовых. Они закричали «Хальт» (стой!), и я замер. Потом рванулся в сторону и побежал что было духу. Раздалось несколько выстрелов в темноту.
Вероятно, они охраняли склады или зенитную батарею, или еще что-нибудь. Тогда идти по лесу я отказался. Вышел на дорогу, проложенную по тому же лесу, и пошел по ней. Было темно. Слышу, навстречу идут два или три человека. Разговаривают по-немецки. Я подвинулся на другую сторону дороги. Услышав мои шаги, они притихли, и мы молча разминулись. Сердце стучало в груди, нервы натянуты как струны. Прошел лес, еще через какой-нибудь километр или полтора будет деревня. Но вдруг опять беда грянула. Навстречу мне шла колонна солдат. По шуму решил, что их не меньше батальона. Я поддал в сторону и попал то ли в картошку, то ли в сахарные бураки. Пришлось лечь. И как раз случись, что послышалась команда и батальон остановился на отдых. Пролежал минут двадцать. В такой ситуации минуты медленно бегут. Пойти в обход не решился: а вдруг заметят и остановят. Тогда что? Решил переждать, пока они уйдут.
Весь я превратился в слух, потому что только на него и была надежда. Кругом стояла ночь и темнота. Пошел довольно быстро и скоро – через задний ход во двор к фермеру и по условленным сигналам в комнату к девушке. Нервы были взвинчены до предела. Несколько минут прошло, чтобы придти в себя. Ноги и брюки до колен были мокрыми, потому что шел по росе. На фермерском дворе все было тихо и казалось, что моего прихода никто не заметил.
Путь назад был быстрым. Надо было спешить. Луна светила полным светом. Решил идти назад по дороге и никуда не сворачивать. Навстречу проехали две машины, осветив меня фонарями. На моей одежде не было меток SU. На мне были французские брюки и какая-то рубашка. С другой стороны ограды аэродрома прошли часовые с собакой, тихо разговаривая между собой. Никакого внимания на мои шаги. Собака тоже молчала. У самого лагеря мне стало страшновато: ведь он был весь освещен лунным светом. Меня могли видеть даже с другого конца ограды. Рассуждать не было времени. Опять через ту же дырку в ограде, к окну. Легкий стук, и мой друг Николай открыл мне окно и решетку. Помог влезть. Гора сразу свалилась с плеч, и усталость от нервного напряжения как пеленой накрыла меня.


![Книга Занзибар, или Последняя причина (Сборник) [Занзибар, или Последняя причина • Рыжая • Вишни свободы] автора Альфред Андерш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-sbornik-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-ryzhaya-vishni-svobody-257365.jpg)



