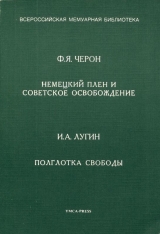
Текст книги "Немецкий плен и советское освобождение. Полглотка свободы"
Автор книги: И. Лугин
Соавторы: Федор Черон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Прошло два дня, и вдруг фельдфебель стал проверять решетки на окнах. К этому времени я решетку приделал, как была раньше, так что фельдфебель ничего подозрительного не нашел. Тем не менее на окна поставили двойные решетки, хотя из той же проволоки.
Через два дня комендант спросил нашего повара, где он был ночью в воскресение. Почему фельдфебель заподозрил его, для меня осталось тайной. Повар сказал ему, что спал, это могут подтвердить пленные соседи по комнате. Он был в общей комнате с больными.
Значит, до коменданта дошло, что кто-то уходил из ревира, но кто – он не знал. Наверное, фермер все же проследил или слышал мое появление в комнате девушки. Вероятнее всего, слышал, потому что к ней надо было подыматься по лестнице на второй этаж. Девушка говорила, что на следующий день фермер спрашивал, кто у нее был ночью. Она не призналась, но он ей не поверил. Скорее всего, он сообщил коменданту.
После этой нервной вылазки я отказался от подобных приключений. Пусть лучше девушки подходят к нашей ограде в сумерки до закрытия бараков. Воскресения были тихими днями в 1944 году. Охрана оставалась в своем бараке и только изредка обходила лагерь. Калитка была тоже открыта, и несколько человек из рабочей команды выскакивали в лесок рядом, где их ждали остовки. До леска добежать брало не больше двух минут. Такие вылазки были не частыми, но они были.
В начале июня 1944 года и я рискнул выйти на прогулку в лесок. Быстро прошмыгнув через калитку и повернув за угол по направлению к лесу, я наткнулся на часового.
– Куда ты идешь?
– А вот в этот лесок. Там меня ждет русская девушка, – сказал я смущенно. Я решил сказать ему правду, потому что мы ему доверяли. Он был один из тех, кто хорошо относился к пленным.
– Ну иди. Только быстро приходи назад. Я ничего не видел и никому ничего не скажу. Ганс скоро пойдет обходить лагерь. Не попадайся ему.
С этими словами он ушел, а я побежал в лес. С обеих сторон ручья в этом лесу росли густые кусты и одиночные большие деревья. Спрятаться было очень легко.
В лесу я пробыл около часу. Посмотрев сквозь ветви, я ничего подозрительного не заметил и пошел быстрыми шагами в направлении лагеря. Вдруг навстречу мне с ругательствами бежит помощник коменданта с пистолетом в единственной руке (другая осталась на Восточном фронте). Я иду ему навстречу. Подбежав ко мне и тыча пистолетом мне в грудь, он кричит, что застрелит меня.
– Стреляй! – говорю, заранее зная, что его пистолет неисправный. Нам это говорил пленный, который убирал барак охраны и чистил их оружие. Я поверил его словам. А может быть, пистолет и работал?
– Зачем ты выходил в лес?! – прокричал он.
– Я встречался там с русской девушкой.
– А разве ты не знаешь, что это запрещено?
– Конечно, знаю.
– Я сейчас вызову унтер-офицера, и он тебе покажет, как ходить на встречи! – С этими словами мы направились в лагерь. Я пошел в свой барак, а он, заперев калитку, пошел звонить фельдфебелю.
О моем уходе из лагеря знал только один пленный из медперсонала и тот охранник, которого я встретил. Не думаю, что кто-нибудь еще видел. Но кто мог донести, что я ушел? Неужели этот солдат? Помню, за несколько дней до этого, чувствуя, что не сегодня-завтра его отправят на Восточный фронт, он просил нас написать ему записочку по-русски. С этой записочкой он намеревался сдаться в плен. Воевать не хотел. Он был музыкантом в лейпцигском симфоническом оркестре. Никто из нас такую записку ему не дал. Все мы боялись. Может быть, он донес? Несмотря на все наше доверие к нему, он все же оставался немцем. Все-таки мое подозрение упало не на него, а на нашего повара. Но я так никогда и не узнал, кто донес на меня.
Когда безрукий впустил меня в лагерь, ко мне подошел Ганс, который действительно обходил лагерь и сказал: почему ты, мол, не предупредил меня, что идешь к девушке? Я тебя бы не выдал, а выпустил бы и впустил в лагерь. А теперь дело обстоит плохо. Фельдфебель тебя тяжело накажет. Он старый хрен и забыл, чего хочет молодость. Ему под шестьдесят. Плохие дела.
Хотя Ганс и говорил мне эти слова, но возможно он и поднял всю тревогу, чтобы показать свою бдительность. Может, повар болтнул ему о моем уходе, не предусмотрев, какая будет реакция, а Ганс, не долго думая, поднял на ноги безрукого.
Минуты были тревожные. Я знал, что фельдфебель никогда мне не простит этого. Собственно, я не бежал, а только вышел из лагеря. Но для него факт оставался фактом: я нарушил дисциплину.
– Что он с тобой сейчас сделает? – сыпались вопросы со всех сторон.
– Попадешь определенно в концлагерь.
– А вот у нас был случай…
Прошло часа два, когда зашумел мотоцикл и грозный «Рундо» влетел в лагерь. С сигарой во рту. Когда он нервничал, то всегда был с сигарой. С размаха ударил меня по лицу. Сносно, кровь не пошла.
– Принесите машинку, – приказал он.
Его помощник принес, и он с остервенением снял мою прическу, которой я так гордился.
– А эту девку поймали? – бросил он как будто в воздух.
– Никто ее не ловил. Мы не знаем, куда она убежала, – ответил солдат.
– Из какой она деревни? – спросил меня.
– Не знаю точно, из Т. или из Д. – Я назвал три ближайших деревни, названия которых знал.
Потом началось физическое истязание гонкой по двору со всеми его идиотскими командами. Сил больше не было и было страшно обидно: за что? Было такое состояние временами, что я убил бы его, если бы у меня было какое-нибудь оружие, не думая о последствиях. Я упал на землю и сказал, что пусть делает со мной что хочет, я не встану.
Когда его неистовство немного укротилось, он некоторое время был в нерешительности, что со мной делать. Потом ему пришла мысль посадить меня в «мертвецкий домик», как мы прозвали хибарку, напоминающую большую собачью конуру. Построена была эта конура с намерением выносить туда трупы умерших. Это после того случая, как у нас внезапно умерло два человека зимой 1942 года. Только один раз она была использована по назначению, когда умер 17-летний пленный от туберкулеза (запомнился он: умирая, все время звал маму на помощь). Обычно там складывались разные вещи, которым не было места в бараке. Втолкнул туда меня фельдфебель и плотно закрыл дверь. Воздуха там не хватало, было жарко.
Он приказал солдату запереть меня в этот домик и не давать мне ни есть, ни пить. Сам он был взволнован и зол, что такое случилось в его ревире. Уехал опять домой, пригрозив мне при отъезде еще худшими наказаниями. В этом домике был деревянный пол и ни одного окна. Не хватало воздуха. Когда стемнело и заперли бараки, солдат-музы кант, которого я встретил около уборной, открыл дверь и разрешил моим друзьям дать мне два одеяла на пол и воды. Дверь оставил открытой на всю ночь, но сказал, что утром закроет до приезда коменданта.
На меня напало какое-то безразличие. Переменить что-либо я не мог. Страшно было думать о Саксенгаузе или другом концлагере. Я же не бежал из лагеря, и намерения не было бежать, но ярый старый вояка мог состряпать и преувеличить.
На следующее утро в понедельник он даже не пришел посмотреть на меня. Вероятно, звонил во все концы, стараясь найти пути, как бы меня более жестоко наказать. Я хорошо знал его, в одном он никогда не переменился: оставался преданным своему фюреру и военной дисциплине. Инструкции и приказу он подчинялся в каждом пункте: если он этого не сделает, то какой же он тогда немец и солдат гитлеровской армии? Иногда у него проскальзывали и человеческие чувства. Главным образом, из-за его самолюбия. Но он всегда помнил, что мы «унтерменши», а он из высшей расы. Он до последнего дня был уверен, что Германия выиграет войну.
После полудня пришел мой приговор: трое суток одиночного заключения в своеобразном карцере в немецкой городской тюрьме. Вместе с немецкими заключенными? Выходило, что да. Карцер не больше трех метров на три, с деревянным настилом. И ничего больше. Вверху маленькое окошко, до которого не дотянуться. Пища – один раз в день суп и все. Разрешалось только одну кружку воды в день. Суп был лучше, чем в ревире. Лежать днем не разрешалось. Ночью тоже не спалось на твердых досках.
Три дня вымотали достаточно, но мучил вопрос: а что же будет дальше? Концлагерь, как обещал комендант? Страшно было думать о концлагере. Но эти мысли настойчиво лезли в голову, как бы я ни старался их отогнать от себя.
По истечении трех суток меня опять привели в ревир часов в 10 утра. Сразу же фельдфебель приказал собираться, грозя Саксенгаузом. Я стал собирать свои вещи, и тут вмешался грозный вояка. Он решил отнять у меня всю хорошую одежду и оставить мне тряпки. Собственно, у меня было двое брюк (одни французские), ботинки, две рубашки и бритва. Сказал, что это он оставляет здесь. Приказал снять ботинки и дать мне какие-то порванные. Я попросил оставить мне ботинки и, к моему удивлению, он уступил.
Он старался не смотреть на меня. Иногда мне казалось, что по его лицу пробегала тень досады, что все так случилось. Скоро три года как он видел меня каждый день, за исключением тех, когда он уезжал домой. Неужели жалость ко мне? Думаю, что нет. Было что-то другое.
Пришел неизвестный солдат с винтовкой. Я попрощался с товарищами по комнате и со многими больными, которые все вышли проводить меня в неизвестность. Выйдя на дорогу по направлению к городу Ошацу, я оглянулся несколько раз на знакомые бараки и другие здания лагеря. Почти три года я видел их, привык. И сейчас, закрыв глаза, вижу очертания и бараков, и проволочной ограды, лесок со всех сторон и дорогу, отделяющую лагерь от аэродрома. Прожитая жизнь не стерла в памяти эту картину. Может быть потому, что здесь я нашел приют и спасение от почти что неминуемой смерти.
После войны, осенью 1945 года, я поехал посмотреть, что же сталось с этим лагерем. Тот же лес и заросли остались с левой стороны, противоположной аэродрому, и знакомая дорога рядом с аэродромом. Но вместо лагеря был пустырь. Все было предано огню и дыму. Проволочной ограды тоже не осталось. Стоял я странником на пепелище. Смотрел, вспоминал, искал следы ушедших дней… Свидание с русской девушкой и последствия… Кругом тишина. Не ревели самолеты, как когда-то – с раннего утра до позднего вечера, каждый день во время войны. Воспоминания об этом лагере всегда ассоциируются с самолетным шумом. Так он прожужжал уши за три года. Думаю, что сами пленные сожгли этот лагерь и все ближние постройки. А по ограде было видно, что прошел советский танк: кое-где виднелись столбы и проволока, вмятая в землю. С весны до осени вся территория лагеря заросла бурьяном.
Вспомнил я и фельдфебеля. Знал название деревни, где он жил. Проскочила мысль поехать и найти его. Ну, а потом что? Застрелить его или отдать пощечину, которую он мне отвесил когда-то? Решил не ехать, не расковыривать старых ран.
7. Ревир в Мейсене
Солдат, который вел меня в неизвестность, был молчалив. Свои думы думал. Шел позади меня. Думал ли он о гибели Германии или как спасти свою жизнь в эти последние месяцы войны? Ведь была середина 1944 года.
Прошли ворота аэродрома, за оградой видны были наши пленные с метлами и лопатами. В Ошаце пошли прямо на железнодорожную станцию. Сели в вагон, наполовину пустой. Только здесь я спросил солдата, куда он меня везет.
– А разве ты не знаешь? – с удивлением посмотрел он на меня.
– Мне комендант сказал, что в Саксенгауз меня отправляет.
– Дурак он старый. Ни в какой Саксенгауз. Штабс-арцт (главный врач) переводит тебя в другой ревир, в город Мейсен. Этот ревир тоже под его управлением и, я думаю, лучше вашего. Ревир в самом городе, и комендант хороший человек. Тебе понравится.
От его слов весь мир как будто перевернулся. Все приобрело другой цвет. Я был бесконечно рад и хотелось больше расспрашивать солдата. Но он был немногословен и опять углубился в свои размышления. Я забыл даже о голоде. С утра ничего не ел. От Ошаца до Ризы было не больше 15–18 километров, и часа в четыре дня мы уже были там.
От станции до ревира шли по узким улицам, вымощенным булыжниками. Узкие улицы, средневековые, они показались мне уютными. Сразу бросился в глаза собор Санкт-Йоханнес-унд-Донатус на скале, возвышающейся над рекой Эльбой. Небольшие домики, узкие улицы и много зелени. Шли мы по старой части города, как потом мне стало известно.
Через каких-нибудь полчаса мы пришли к трехэтажному зданию, мало чем отличающемуся от других подобных домов, но с решетками на окнах, как в тюрьмах. Вот это и был ревир. По ступенькам поднялись в маленький дворик, где стояло тенистое дерево. Обыкновенный городской дворик, окруженный с трех сторон квартирами, а с улицы каменная стена метра в два. Нигде никаких признаков колючей проволоки. Вход в ревир по лестнице на второй этаж. Почти рядом со входом комната караула.
Оставив меня во дворике, солдат вошел в эту комнату и доложил начальнику караула, что пленный из Ошаца доставлен. Вышел пузатый человек маленького роста, окинул меня незлым взглядом и повел на второй этаж в приемную ревира, где сидел за столом комендант по фамилии Зингер. Начальник караула, доложив о моем прибытии, сразу ушел. Зингеру было под пятьдесят, с почти седыми усами, он как-то иронически, но добродушно смотрел на меня. Он был в военной форме, в чине младшего офицера. «Я знаю твое преступление. Молодость, влечет к противоположному полу. Все понятно, от этого не убежишь в твоем возрасте. Мне все рассказал о тебе штабс-арцт Шмидт и хвалил тебя как хорошего работника, и он же перевел тебя к нам. У нас везде решетки, как в хорошей тюрьме. У нас невозможно уйти незамеченным на свидание с девушками. Не нарушай установленную дисциплину, и мы будем работать без лишних трений».
Он ошарашил меня своим разговором без крика, без повышения голоса. Он был солдатом совсем другого покроя. Человеком он был интеллигентным, в этом я убедился очень скоро. Такая встреча «унтерменша» была неожиданной и приятной. Потом он перечислил мои обязанности.
Из приемной выходила дверь прямо в громадную залу, заставленную двухэтажными нарами. Здесь помещались все больные. Другой комнаты для больных не было. Для серьезно больных и для инфекционных отводили несколько нар.
С одной стороны залы было несколько окон, с другой – сплошная стена. У окон стояли небольшие столы, на них кувшины с водой. В конце залы на оконной стороне была комната доктора и медперсонала. Постучавшись, мы вошли в комнату, и Зингер сказал доктору Л. Береговому, кто я такой. Тот тоже уже знал о моем приезде.
В комнате стояла у окна кровать доктора, а напротив у стенки двухэтажные нары. Нижние были для фельдшера, верхние для меня. В этом ревире было еще два санитара, которые спали в большом зале вместе с больными.
Зингер оставил нас и быстро ушел. Начались разговоры, расспросы, откуда, как и что. У пленных много любопытства, и это вполне понятно в изоляции. Доктор оказался из Киева, попал в плен из Харьковского окружения. Одет он был в полную форму советского офицера без унижающих букв на спине. И никто из медперсонала не носил этих букв.
Среди обслуживающего персонала ревира запомнился паренек 18-летний, звали его Петя. Фамилию его забыл. Острый парень на язык и всегда навязывался поспорить с комендантом. Не всерьез, а так, для игры в слова. Комендант смотрел на него как на еще не совсем повзрослевшего и часто переводил разговор в шутку, зная, что от Пети, как от навязчивого ребенка, не избавишься. Петя всегда пропагандировал, что ничего нам не будет, что придут наши и встретят нас с распростертыми объятиями. Люди постарше, знающие суть жизни под сталинскими бессердечными законами или беззаконием, старались его переубедить, что все будет не так, как он себе рисует. Но он никогда не сдавался. И какую горькую пилюлю ему пришлось проглотить после войны! Но об этом потом.
Обязанностями Пети было привозить пищу из кухни, которая находилась приблизительно в полукилометре. Он брал двух больных, ручную тележку, чистые бидоны и другую посуду и отправлялся на кухню без сопровождения патруля. Он только докладывал охране, что едет за супом. Здесь не говорили «за баландой», потому что был настоящий суп. Может быть, его было немного меньше, но он был в сотню раз питательнее и вкуснее. Подрядчиком для ревира был мясник, у которого был свой мясной магазин. Здесь на ужин давали кусочек колбасы и немного хлеба. Но утренняя порция хлеба была меньше. Здесь впервые за все время плена нам давали несколько раз яблоки и груши осенью 1944.
На этой же улице близко был ревир для французов и англичан. Французский доктор с помощниками принимал своих пленных больных в нашей приемной в определенные дни, потому что их ревир был очень маленьким. Я тоже помогал французскому доктору на приемах. Мы подружились.
Доктор-француз с двумя своими помощниками-французами (я думаю, они были простые санитары) жили на третьем этаже в нашем же ревире. Санитар-англичанин жил вместе с больными во французском ревире. Англичанин был безучастен к чужой судьбе. Он был из Манчестера. Поражал своей холодностью. Казалось, никакие человеческие эмоции его не пробивают. Французы были общительные. Часто мы с ними играли в карты, в шахматы. Они получали посылки и изредка делились с нами. Помню даже, что у них появилось откуда-то вино, и мы вместе распили две бутылки. Им разрешалось ходить по городу без конвоиров. Почти весь день они были в ревире и только вечером приходили в свою комнату. Разговор у нас шел на немецком, пересыпанном французскими словами. Так что очень быстро мы научились ежедневным французским фразам. Французы очень не любили и немцев, и их язык. Иногда даже с нами нарочно говорили только по-французски. Тогда мы переходили на русский язык. Они нас не понимали. Начиналась перебранка на двух языках. Поэтому и ругательным словам научились мы очень быстро. Но вряд ли кто-нибудь из французов заучил хотя бы десяток русских слов. А среди нашего медперсонала многие умели даже вести примитивный разговор по-французски, помогая жестикуляцией.
Во дворик мы могли выходить в любое время, когда была открыта дверь, и с высоты в пол этажа наблюдать за движением по улице. Там было больше свежего воздуха. Больным, за редким исключением, не разрешалось выходить во дворик. В этом отношении преимущество было у ревира около Ошаца. Там можно было пропадать снаружи целый день и дышать свежим воздухом. А здесь, как в тюрьме, можно было смотреть на улицу только через решетку. Но окна можно было открывать.
Этот ревир с 1940 года занимали французы и пленные других стран. С появлением русских пленных он стал тесен. Так как количество больных пленных других стран было гораздо меньше русских, то их перевели в меньшее помещение, а здесь разместились только русские пленные.
До 1940 года этот трехэтажный дом был местом развлечения немцев. Внизу – пивная, на втором этаже – большой танцевальный зал, а на третьем – отдельные комнаты. Вход в пивную был с улицы, а в танцевальный зал по ступенькам во дворик, а оттуда по лестнице в зал. Те, кто хотели и выпить и потанцевать и продолжать свое веселье дальше, могли снять номер на третьем этаже. Так рассказывал сам хозяин о своем деле. На вид ему было лет 60.
Так продолжалось до начала войны с Польшей. С развертыванием немецкой военной машины увеселительное предприятие начало терпеть убыток. По словам хозяина, он тогда решил сдать дом под ревир для пленных, оставив за собой весь первый этаж и пивную. Но, мне кажется, он не договаривал. Было похоже, что его заставили насильно превратить увеселительный дом в тюрьму для пленных. Вряд ли он сам согласился бы.
На окнах всех этажей были поставлены железные решетки. Да какие решетки! Не хуже чем в хорошей тюрьме. Но толстые железные прутья не были преградой для побега. Во всем доме было так много дверей, что не надо было ломать тюремную решетку. Легче было бы выломать дверь или, еще лучше, вырезать дыру в двери. Впрочем, не было ни одной попытки пленных бежать из ревира.
Хозяин дома не закрывал пивную, хотя посетителей было мало. Странная комбинация: на втором и третьем этаже тюрьма, побежденные враги – пленные, а на первом этаже развлечение. Уже в 1944 году, когда я появился в этом ревире, в пивную заходили остовцы. Сначала осторожно и не часто, а в конце этого года посещали целыми группами.
Вход в пивную с улицы был закрыт. Для того чтобы попасть туда, надо было подняться во дворик, а потом по нескольким ступенькам спуститься на первый этаж. Пивная открывалась только тогда, когда запирался ревир, то есть с наступлением сумерок. Было это легально или нет, но старый немец не запрещал остовцам заходить в его заведение.
Танцевальный зал на втором этаже служил сейчас палатой для больных русских пленных. Там было двухэтажных нар на сто человек, а при нужде и больше можно было разместить. Уборная для ревира находилась на первом этаже в задней части зала. Туда вела лестница. Двери снаружи в эту уборную были заколочены. Вверху было два окна. Здесь же и умывальник. Одним словом, ревир со всеми удобствами. Вода по трубам была во всех помещениях: в приемной, в зале, в докторской комнате. Для душа вода грелась, в другие дни была только холодная. К 1944 году вши были полностью уничтожены, и больше нас не водили в вошебойки.
Кроме французского доктора и его двух санитаров, на третьем этаже еще жила одна бедная немецкая семья: болезненный муж, жена и двое маленьких детей. Остальные комнаты пустовали. Эта немецкая семья никогда ни с кем не разговаривала. Мы видели их редко, и нам казалось, что они нас боятся.
Весь дом стоял как будто прилепленный к горе. Гора возвышалась намного выше дома. Для постройки дома срезали гору под прямым углом и вплотную подогнали стену дома. Поэтому на одной стороне не было окон. С третьего этажа по лестнице можно было выйти на плоскую крышу дома, потом на гору и дальше.
Во дворике был еще одноэтажный маленький домик. Часть его занимала наша охрана, в другой, большей, части жили муж и жена, лет по 60 или больше. Они не боялись и охотно вступали в разговор с нами. Там же во дворике стояло тенистое дерево и скамейка под ним. На верху каменной стенки были железные перила, опершись на которые, мы смотрели на улицу вниз. Охрана всегда нас видела из окна, которое было как раз напротив каменной стенки. Сходить вниз на улицу нам не разрешалось.
С высоты каменной стенки мы разговаривали по воскресениям с девушками-остовками, которых было очень много в Мейсене. Многие работали на предприятиях, на фарфоровых заводах, в немецких семьях. Иногда наши охранники командовали им уйти или нас запирали в ревире. Но это мало помогало: девушки возвращались, и мы разговаривали через окна. Молодых ребят остовцев, вероятно, было мало, потому что не помню ни одного разу, чтобы они подходили к ревиру.
Окна ревира упирались через улицу в трехэтажную фабрику. На этой фабрике работало около 70 русских девушек, которых мы видели через окна и разговаривали жестикуляцией. Там же много было и немецких женщин. Всем женщинам было запрещено подходить к фабричным окнам и разговаривать с нами на расстоянии. Мы видели, как их отгоняли от окон.
Вскоре после моего перевода в мейсенский ревир доктор Береговой заболел язвой желудка. По крайней мере, таков был его собственный диагноз, и с ним соглашался французский доктор. Он поговорил с комендантом ревира Зингером, и тот выхлопотал ему пол-литра молока каждый день. Лечение его состояло в принятии каких-то таблеток с молоком, после этого лежание на левом боку около часа и отдых. От физического бездействия и без свежего воздуха мы хирели, находясь почти 24 часа с больными, кроме часа-двух во дворе. В июле 1944 года доктор Береговой попросил у Шмидта разрешение на прогулки. Тот сразу не ответил, а потом через Зингера нам были разрешены прогулки два раза в неделю по два часа. Обычно нас сопровождал солдат с пистолетом вместо винтовки, как обычно. Шли мы по длинной улице, усаженной деревьями по обе стороны, мимо знаменитых мейсеновских фарфоровых заводов, и приходили в городской лес (штадтсвальд). Это не парк, парки были отдельно. Это настоящий лес, куда в выходной день приезжали горожане и на лоне природы отдыхали. Обычно такой лес находился в нескольких километрах за пределами города. Там были скамейки кое-где, но не было подметенных дорожек. Был лес в своем естественном виде. Вот в такой лес мы приходили и вдыхали свежий воздух, разговаривали, а иногда встречали земляков-остовцев.
Эти прогулки мы любили, ожидали их. Во время ходьбы по улице города мы видели жизнь немцев в настоящем виде, без прикрас и пропаганды.
Потом мы начали ходить в городской парк, который был совсем рядом, не больше чем 10 минут ходьбы. Находился парк на высоком возвышении над Эльбой, и оттуда был прекрасный вид на весь город, особенно его новую часть. Парк был благоустроен, но безлюден, а это как раз нравилось нашему конвоиру, потому что нам не разрешалось вступать в разговоры с немцами ни на улице, ни в парке. Правда, конвоир смотрел в другую сторону, если нам встречались остовцы, и мы с ними разговаривали.
От лекарств ли с молоком, или от прогулок, но язву доктор вылечил и был этому очень рад. С приближением конца войны эти прогулки стали нерегулярными, потому что не хватало солдат-конвоиров. Но они были очень регулярными с июля 1944 по март 1945 года.
Начальник охраны, младший офицер по фамилии Моргенштерн, был местным мейсенским жителем и больше проводил времени с семьей, чем при ревире. У него было только два-три солдата, и их главной обязанностью было охранять вход на лестницу, ведущую в ревир. Они никогда, по моим наблюдениям, не подымали голову и не смотрели, целы ли решетки на окнах. Они никогда не стояли даже во дворике, потому что из окна их караулки был виден весь дворик и вход на лестницу. Дверь с лестницы в ревир запирали на замок с наступлением темноты, а отпирали в семь часов утра.
Комендант ревира Зингер не прочь был за пару бутылок вина продать в эксплуатацию на день или два желающих из ревира поработать. А таких было много, хотя голод в этом ревире и не был так ощущаем. Иногда же он сам выбирал «здоровых» среди больных и отводил их к винодельцу, оставлял их там на целый день. Доверял, что не убегут. Но мне рассказывали, что до меня был один случай, когда пленный убежал из виноградника. Иногда Зингер спрашивал, не хочет ли кто-нибудь из медперсонала поработать на свежем воздухе.
В первый же свой приезд в мейсенский ревир после моего перевода сюда штабс-доктор Шмидт спросил, как мне нравится здесь. Я ему сказал, что ожидал перевода в Саксенгауз, как обещал фельдфебель. «Это не он решал, я тебя перевел сюда. Он что-нибудь сделал с тобой, наказал?» – спросил он. Я не стал ему рассказывать о наказаниях, но пожаловался, что фельдфебель отнял у меня хорошие брюки, оставив в старых и рваных. Он ничего на это не ответил, но дней через десять мои брюки каким-то образом приехали ко мне. Просто не верилось.
Из всех команд, которые обслуживал наш ревир, запомнилась одна. Это была каменоломня в пригороде Мейсена. Пленных из этой команды часто приводили в ревир с разного рода ранениями и поломами костей. Гражданский мастер этой каменоломни был зверь, а не человек. Он отправил на тот свет несколько пленных в 1942-43 годах и оставил с увечьями других, заставляя подымать камни не под силу или разбивать их тяжелыми молотками. Многие падали под тяжестью и получали ранения, ломали руки и ноги. Многие нажили грыжи. Даже Зингер подавал куда-то жалобу, что его ревир полон больными из этой команды. Ничто не помогало. Мастер старался всеми силами не попасть на фронт, принося в жертву русских пленных. Он выиграл, на фронт не попал. Правосудие пришло после войны, и он от него не убежал. Об этом потом.
Союзная авиация никогда не бомбила Мейсен, но когда городская сирена оповещала о приближении самолетов, нас выводили во двор и на улицу, а иногда в ближайший парк. На улице мы выстраивались вдоль каменной стенки и ждали, когда дадут отбой. Зимой 1944-45 года это стало почти ежедневным явлением. Страшная бомбардировка Дрездена в феврале 1945 года была и слышна и видна в Мейсене, на расстоянии больше чем 25 километров. Мы слышали взрывы и несколько ночей видели зарево от пожара. Потом из пригородов Дрездена привозили к нам пленных с ранениями, которые они получили во время бомбардировки. Они же принесли нам и жуткую новость о гибели двух тысяч советских пленных и остовцев в одной из дрезденских тюрем. Охрана тюрьмы обрекла их на верную гибель, убежав и не открыв двери камер. И все сгорели вместе с тюрьмой.
Весна 1945 года была особенной. И пленным и немцам было ясно, что война приходит к концу. Наша охрана все реже и реже останавливала наши разговоры с остовками. Наш фельдшер незаметно спустился на улицу и ушел на четыре часа в одно из воскресений в парк, где его ожидала девушка из Ростова. Его уход мы замаскировали, и немцы об этом не узнали. Потом под его руководством нам удалось открыть одну запертую дверь и попасть в другую залу, которую хозяин превратил сейчас в своего рода кладовую. Из этой залы шла лестница прямо на крышу дома и на гору.
В апрельский вечер часов в 11 решили сделать вылазку на гору, а оттуда спуститься в чей-то сад. Там нас ждала компания земляков. Провели мы в этой компании часа три и тем же путем возвратились назад.
Наш уход был замечен, по всей вероятности, хозяином, потому что на следующий день он поставил железный засов на дверь и закрыл ее так, что совершенно не было возможности открыть ее. Но комендант нам ничего не сказал, даже намеками.
Больных с каждой неделей становилось все меньше и меньше. Кормить пленных стали лучше с некоторого времени, а так как почти все болезни русских пленных были от голода, то вполне понятно, что теперь они предпочитали оставаться в командах. К тому же в марте-апреле во многих командах не заставляли работать тех, кто говорил, что он болен. Охрана смотрела в другую сторону, если пленные делали что-нибудь не совсем то, что им разрешалось. Охрана страховала себя.
Гибель Германии и поражение фашизма приближались. Многие из советских пленных ждали этого дня почти четыре года. Ждали и надеялись выжить, перенося и голод, и холод, и все издевательства немцев. Многие и дождались этого желанного дня, но миллионы ушли в могилы на чужой земле…
Для нас, сидящих в плену недалеко от Дрездена, бомбежка этого города показала, что наш плен исчисляется теперь неделями, а то и днями.
Потоки беженцев с востока уже достигли Мейсена и других городов в марте-апреле 1945 года, и остовцы приносили нам новости с фронтов почти каждый день. После бомбежки Дрездена мы уже не видели союзных бомбардировщиков. Советских самолетов тоже не было.


![Книга Занзибар, или Последняя причина (Сборник) [Занзибар, или Последняя причина • Рыжая • Вишни свободы] автора Альфред Андерш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-sbornik-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-ryzhaya-vishni-svobody-257365.jpg)



