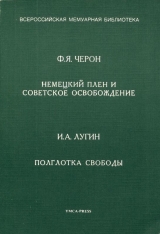
Текст книги "Немецкий плен и советское освобождение. Полглотка свободы"
Автор книги: И. Лугин
Соавторы: Федор Черон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Один раз я был очевидцем, как остовцы опознали своего заводского мастера. Говорили, что рука у него была тяжелая, бил многих. Попался он совершенно случайно. Он старался затеряться среди массы беженцев, остовцев и других. И вдруг один из его бывших подчиненных узнал его в толпе. Мастер попробовал было убегать. Но тут поблизости был советский офицер, и его попросили арестовать немца. Нашлось еще несколько остовцев с того самого завода, и подтвердили, что немец избивал их. Суд был тут же, на месте. Услышав подтверждения многих остовцев, лейтенант приговорил его к расстрелу. Вокруг стояла толпа человек в 30. Лейтенант посмотрел кругом и, заметив дом с подвалом, повел немца туда в сопровождении десятка человек. Когда спустились в подвал, лейтенант вытянул свой пистолет и, указав пальцем на одного паренька лет 20-ти, сказал: «Ты будешь его расстреливать!» – «Почему я? Я этого немца никогда раньше не видел. Он мне ничего плохого не сделал. Я расстреливать его не буду», – ответил тот и продолжал стоять. Тогда лейтенант спросил, кто узнал этого мастера. Молодой остовец лет 18-ти сказал, что он. Тогда лейтенант взвел курок, дал ему пистолет и сказал: «Стреляй!» Тот шарахнулся в сторону от пистолета, но выхода не было. Мне показалось, что обвинителю-остовцу тяжело было стрелять в беззащитного человека. Видно было, что он никогда не держал пистолета в руках. Вероятно он думал, что лейтенант расстреляет немца, а теперь по всему было видно, что если бы он знал исход всего дела, то не начинал бы эту историю.
Дрожащими руками он взял пистолет и выстрелил в упор два раза. Кроме слов «биттэ, биттэ» немец ничего не говорил. Думаю, что он знал свои преступления. Может быть, он только не ожидал такого быстрого суда.
На многих лицах я заметил смущение и что-то вопросительное. Перед лицом смерти, что ли? Эти молодые остовцы никогда не воевали, и многих эта сцена потрясла. Сам обвинитель был мрачным и молчаливым и быстро куда-то скрылся. Мне было тоже не по себе. Может, обвинение не стоило смертного приговора? Может быть, этот паренек хотел чем-то выпятить себя перед победителями и правдой-неправдой обратить их внимание на себя? Неопытность, наивность, а иногда и глупость руководила подобными поступками. Подобных сцен, но не с таким спешным исходом, мне пришлось много видеть в первые месяцы после войны.
Продолжая разговор о трофейниках, можно рассказать очень много интересного и смешного, но это не входит в мои намерения. Замечу, что были трофеи, которых никто не ценил и не понимал. Мне пришлось быть очевидцем расстрела мейсенского фарфора. Всему миру известны фарфоровые изделия Мейсенских заводов. Сколько там было изящных вещей: чайники, графинчики, чашки, тарелки. Никто их не брал. По крайней мере я не видел. Это называли «черепками». По ним стреляли как по мишеням. Такая ситуация была первые недели после прихода советской армии. Под пьяную руку Ванька стрелял пулеметом по фарфоровым тарелкам, не задумываясь об их ценности.
Мне также не пришлось встретить охотников за золотом, бриллиантами, ювелирными изделиями и вещами подобного рода. Были, конечно, и такие, но мне не попадались. На первом плане были костюмы, рубашки, брюки – вообще, что-нибудь из одежды.
Нельзя обойти молчанием собирателей трофеев, специализировавшихся на «урах», то есть часах. Преимущественно, ручных часах. Немецкое слово die Uhr на языке солдата превратилось в «уры».
Мне встречались и солдаты и офицеры с десятками часов на обеих руках, от самой кисти до локтя и выше, не считая карманных, которые не были популярны. Получилось своего рода соревнование, кто больше приобретет часов. Снимали часы со всех, кто не был в солдатской форме, включая остовцев-пленных. Если солдат был русский и попадал на русского остовца, то дело кончалось миром. Но если солдат был из нацменов, калмык, киргиз или туркмен, то никакие мольбы не помогали. Ему было все равно, он знал по-русски несколько десятков слов и одно немецкое слово «уры». Я сам стал жертвой калмыка, подъехавшего к дому, где мы ночевали. Он соскочил с какой-то маленькой лошадки, вбежал в комнату рано утром, когда мы еще не встали, наставил свой автомат на меня и кричал «уры, уры, уры». Я пробовал ему доказать, что я не немец. В ответ он поставил автомат на взвод, и я струсил. Пришлось отдать ему память от француза-санитара. Он быстро выскочил, сел на лошадь и уехал. Вскоре появились два лейтенанта, и я пожаловался. Те сказали, что я правильно сделал, что с этими болванами шутить нельзя. Он мог бы разрядить очередь из автомата и уехать, и его никто искать в такое время не будет.
Самым ярким примером разграбления немецкого имущества стала для меня та шахта, о которой я упомянул раньше. На второй день прихода советской армии ко входу в шахту подъехала машина, часов в 11 утра. Из машины вышли два капитана и начали спрашивать толпившихся остовцев, что находится в шахте. Те были хорошо осведомлены, потому что их бараки были только в 300-х метрах от главного входа, и все они видели, сколько чемоданов и ящиков было спущено на хранение в последние несколько недель. Не один из них подумал, как бы добраться до этого добра. Рассказали офицерам, что там много чемоданов. А немцы уже с самого рассвета приходили и уносили свои вещи. Офицеры спустились вниз и удивились количеству чемоданов. Потом через переводчика приказали немцам покинуть шахту и поставили часовых у входа, с распоряжением никого не пускать. Взяли с собой десяток остовцев-пленных, спустились вниз, обошли все залы подземелья и остановились как бы в раздумьи. Я был в этой группе. Прежде чем начать ломку чемоданов, я задал офицерам вопрос, что они хотят найти в этих чемоданах и чем они, вообще, интересуются. «Мне нужны сапоги», – сказал один. А другой велел все, что попадется спиртное, передавать ему. – «И это все?» – удивился я. – «Нам ничего больше не надо», – последовал ответ.
Началась бешеная ломка чемоданов и выбрасывания из них разных вещей: костюмов, рубашек, постельного белья, полотенец… Гораздо легче было бы назвать, чего там не было. Нашли несколько бутылок крепких напитков и, наконец, к моему удивлению, сапоги тоже нашли, и они как будто подошли по размеру.
У входа в шахту скопилось около сотни остовцев, главным образом тех, что жили рядом, но были и другие. Кто-то попросил офицеров пропустить остовцев-пленных к чемоданам, но не пропускать немцев. Они разрешили, и толпа двинулась вниз. Офицеры уехали, а вскоре и часовые ушли. Немцы бросились спасать свое имущество. Но как его найти в этой суматохе? Все было перевернуто вверх дном. Остовцы не терялись. Некоторые управились вынести по несколько чемоданов. Пару раз завязалась драка между немцами и остовцами-пленными. Кончалось не в пользу немцев. Только один раз я видел, как немец выиграл. Серебряный сервиз в коробке тащил остовец с одной стороны, а немец с другой. Немец почти плакал, говоря, что это его свадебный подарок и что он уже все потерял и умоляет оставить ему хотя бы этот сервиз. Тут еще кто-то вмешался, и отпустили немца с его сервизом. Многие же немцы боялись спускаться вниз и с грустью смотрели, как остовцы уносят их чемоданы.
Плач, крики, хохот и стрельба эхом отдавались в проходах шахт. Почему стрельба? В чемоданах нашли несколько пистолетов и началась пристрелка в стены шахты. Плакали потерявшие свое добро, смеялись грабившие. Поменялись ролями: «унтерменши» стали хозяевами сегодняшнего дня. Мы забирали только их барахло и не стеснялись. Они ограбили нас больше, и то, что делали мы, этим как-то оправдывалось. Может быть, не в отношении каждого немца, но целой нации, которая шла за Гитлером на все преступления и оправдывала их. А сейчас, мол, пусть они поплачут о своих костюмах, о тряпках. Сколько они отправили пленных на тот свет, сколько жизней искалечили. Даже в самом диком разгуле освободителей не было такого зверства, которое совершили немцы на оккупированной русской земле.
Гора чемоданов таяла на глазах. Образовалась громаднейшая куча одежды. Около нее кольцом и мы и немцы. Нас больше, и выбор товаров большой. Только немецкую партийную форму никто не брал. Она так и осталась лежать кучей. Конца «раздела» немецкого имущества я не видел. У меня тоже появился чемодан и я ушел.
Обчемоданившись, остовцы-пленные старались побыстрее уйти от шахты, как бы боясь потерять «трофеи». Страх перед немцами все еще жил в их сознании? Или же за годы бесправия выработалась определенная психология? Или же совесть говорила, что это не твое, ты награбил, это несправедливо? Так или иначе, но не только старались уйти подальше от шахты, но и уехать из этой местности. Однако нести чемоданы было невозможно. Тогда пошли отнимать у фермеров телеги и лошадей. Обычно собиралась группа в несколько человек, грузили чемоданы на телегу и уходили, идя рядом. Куда шли? Никакого определенного направления у большинства не было. Обычно в ближайший город. В данном случае это был Дрезден, Фрейбург или Мейсен. Некоторые оставались в остовских бараках, где уже к вечеру второго и следующие несколько дней шел пир победителей. Офицеры привозили разную пищу, спиртные напитки, и музыка и песни раздавались чуть ли не до утра. Почему остовские бараки? Потому что там было много русских девушек, пили, пели и танцевали под «трофейный» аккордеон.
Первые три недели после окончания войны ни остовцам, ни бывшим военнопленным никто не давал никаких указаний, куда ехать и что делать. Большинство потянулось на восток, на родину. Некоторым, находившимся недалеко от польской границы или в самой Польше, удалось попасть домой в первые же недели после окончания войны. Но когда основная масса из самой Германии двинулась на восток, то они запрудили все дороги. Получилась ситуация: советская армия стремилась в Германию, но навстречу им шла другая армия остовцев-пленных. Слышал, что армии пришлось расчищать дороги танками и что был издан приказ никого не пропускать через границу.
Из всего виденного мною можно вывести, что советское командование не было вполне осведомлено о многомиллионной массе русских людей в Германии. По крайней мере, создавшаяся ситуация сделала очевидным отсутствие разработанного плана, что делать с этой массой людей.
10. Репатриационные лагеря
Примерно в первых числах июня стали организовывать репатриационные лагеря. Никому не разрешалось ехать на восток в одиночку. Лагеря создавали наспех. А массы людей волнами поступали с запада, из оккупированных союзниками зон. Репатриационные лагеря создавались часто в бывших немецких казармах, на опустевших аэродромах и даже в бывших лагерях военнопленных. Так был создан репатриационный лагерь в бывшем лагере туберкулезников в Цайтхайне, где погибло около 70 тысяч советских пленных. Я поехал посмотреть этот лагерь, где, казалось, каждая доска барака была пропитана туберкулезными бациллами. Встретил доктора, который два года был с туберкулезниками. Я не говорю «лечил», потому что лечения не было.
Я поинтересовался картотекой погибших в этом лагере. Доктор сказал, что советское командование не обратило никакого внимания на картотеку, и какой-то офицер приказал ее уничтожить. А сколько там осталось братских могил! Зимой 1941-42 года могил не зарывали до самой весны. Каждый день трупы засыпали известью, до тех пор пока края могилы не поравнялись с землей. И таких могил было много в ту страшную зиму. Каждый год появлялись новые. Вряд ли оккупационные власти поставили какой-нибудь памятник над этими могилами.
Репатриационные лагеря растянулись по всей Германии, начиная от польской границы. Эти лагеря были во всех оккупированных зонах. В советской зоне они были переполнены до отказа. Скажу на примере репатриационного лагеря в Мейсене, который находился в немецких казармах. Он был рассчитан на 10–12 тысяч, но были дни, когда там пребывало до 32 тысяч людей. Не только казармы были заняты, но и вся территория вокруг них под открытым небом. Хорошо, что это было летом. При таких обстоятельствах надо было быстро отправлять партиями по полторы-две тысячи почти каждый день. Не всегда это удавалось. Не хватало транспорта.
Кто кормил эту массу людей? Немцы, в прямом и переносном значении этого слова. И до репатриационных лагерей и после. Официально же на каждого репатрианта давался солдатский паек. Но репатрианты, попробовав уже лучшую пищу в первые послевоенные дни, не хотели есть перловой каши. Уходя и днем и ночью из лагерей, они рыскали по окружающим деревням и воровали. То, что не давалось по доброй воле, забирали насилием.
У каждого были свои методы охоты за пищей, которые диктовались атмосферой, сложившейся обстановкой, собственной находчивостью и уменьем. Кто раз голодал, тот знал, как найти хлеб насущный.
С организацией репатриационных лагерей всех нас стали называть «репатриантами», избавившись тем самым от слов «бывший пленный» или «насильственно увезенный», хотя последнее выражение было в частом употреблении. Но о бывших пленных – полное молчание, как будто их никогда не было. Это была официальная линия.
Чтобы описать, как рассматривало советское командование бывших пленных, приведу два случая, которые лично знал.
В мейсенском репатриационном лагере я познакомился с человеком по фамилии Колосов. Попал он в плен в самом конце 1944 года где-то на территории Венгрии или Чехословакии. Был ранен во время уличных боев, и его немцы подобрали в бессознательном состоянии, по его словам. Уже в Германии в ревире пленных он совершенно поправился. Форма на нем была в хорошем состоянии, он так и остался в ней, только спрятал свои знаки отличия. Освобождение пришло быстро, и он провел в плену только пару месяцев. В Советской армии он служил в штабе армии и был хорошо знаком с генералом, с громким именем. Тот генерал как раз стоял во главе корпуса в Саксонии. Колосов был в чине подполковника. О генерале говорил, что они друзья со времени начала войны. У Колосова не было никакого сомнения, что он – часть Советской армии. И как только пришли освободители, он надел свои погоны и в таком виде расхаживал по городу.
Он ничем не отличался от регулярного советского офицера. Твердо веря, что он не потерял своего офицерского звания, Колосов ходил в своей форме несколько дней. Его задержали патрули, потребовали документы и привели в комендатуру. В комендатуре с него погоны сорвали, в буквальном смысле слова, потому что он не хотел добровольно снять их, выругали последними словами и грозили арестом, если он еще раз покажется в офицерской форме. На его заявление, что он офицер и провоевал почти всю войну, ему ответили, что в этом разберутся соответствующие органы.
Он поехал искать защиты у генерала. Встреча состоялась. Надо полагать, что они выпили изрядно и генерал сказал ему, что ничем помочь не может. Просил больше не беспокоить его, если подполковник не хочет принести неприятностей генералу. Тяжело было смириться подполковнику с таким положением дел, а человек он был смелый и бравый. Проглотил он пилюлю горькую и рассказывал мне и моему другу эту историю со слезами на глазах. Что-то оборвалось у него, потерялось навсегда.
Некоторое время он был помощником, от репатриантов, начальника репатриационного лагеря. Не знаю, как потом повернулась его судьба. Нет сомнения, что он попал на один из транспортов домой и зачислен как единица в каком-нибудь рабочем лагере или хуже.
Другой пример: встреча отца с сыном-летчиком. Отец уже под 50 лет, по фамилии Щербаков, за несколько месяцев до начала войны был взят как инженер на строительство по укреплению советской границы. В плен попал на второй день войны. Не знаю, как и каким образом он встретил сына в Германии. Насколько помню, сын был в летном училище перед войной. Обстоятельств их встречи не знаю. Сын уже командовал эскадрильей и был, если мне память не изменяет, в чине майора. После встречи с сыном Щербаков с горечью рассказывал мне, что сын ему ни в чем не может помочь, увезти его домой не может, хотя летает туда почти каждую неделю. Сын ссылался на какой-то приказ, по которому надо пройти сети НКВД, и только таким образом можно попасть на родину. Не знаю, сколько раз он встречался с сыном, продолжая сидеть в репатриационном лагере. Думаю, что все же ему сын посоветовал как можно дольше оставаться в Германии, потому что, несмотря на свой возраст, отец уехал на демонтаж немецких заводов.
Были встречи неожиданные, радостные, счастливые: встречались братья, брат находил сестру, насильственно увезенные родители находили сына в солдатской форме. А земляков из одного города или округи было хоть отбавляй. Иногда встречи с земляками не кончались счастливо.
Поняв официальное отношение оккупационных властей к бывшим пленным, большинство стало скрывать факт пленения и подделываться под остовцев. Теперь мы были «репатрианты». Остовцев признавали, а мы попали в тень, и не замечались освободителями. Так выглядело на поверхности.
Нет сомнения, что самое высшее командование не забыло ни Минск, ни Харьков, ни Киев, ни Вязьму, где немцы окружили целые армии и взяли в плен миллионы советских воинов. По чьей вине? Не простой же Ванька с винтовкой в руках завел полумиллионные армии в немецкие мешки? «Мудрые вожди» в верховном командовании пожертвовали миллионами солдатских жизней. А сейчас они предпочитали молчать, притворяясь, что все хорошо, что мы победили, что все было и есть гладко, пленных нет и не было.
Ни по окончании войны, ни сейчас, спустя 40 лет, советская пресса открыто не писала о количестве пленных и их судьбе в немецких лагерях. Официальная партийная линия молчит и продолжает молчать о миллионах советских солдат, попавших в немецкие руки, о миллионах замученных в концлагерях, умерших от голода и болезней во всей оккупированной немцами Европе. А сколько их после войны попало в советские лагеря?
Но народ обмануть нельзя. Слухами земля полнится, как говорит русская поговорка. Неудивительно, что недавно, во время моего пребывания в Советском Союзе как туриста, одна старушка подошла ко мне и спросила: «А моего сынка ты случайно не встречал там у вас за границей?» Многие матери и жены ушли из этого мира, а те, кто жив, все еще продолжают ждать. Официально они так никогда и не получили сообщения, что сталось с сыном, мужем или отцом.
Несмотря на рассказы беженцев о насилиях и грабежах, у некоторых немцев были намерения приготовиться к хорошей встрече русских. Не все немцы были стопроцентные национал-социалисты. Их умозрение менялось по ходу войны. Особенно среди тех немцев, что жили ближе к Польше. Но вся беда в том, что волна насилия и произвола не разбирала, кто каков. Она поднялась под лозунгом «Вот она – проклятая Германия» и сметала на своем пути всех. Сначала командование поддерживало разбушевавшиеся страсти, но когда был потерян контроль над массой солдат, разбежавшихся из частей на поиски трофеев, то начали бить в набат. Но было уже поздно. Надо было приложить много усилий и дисциплинарных взысканий, чтобы как-нибудь утихомирить низменные страсти.
В деревне, где расположили наш ревир после эвакуации из Мейсена, я знал немца, который готовился с достоинством встретить советскую армию. Еще за неделю до прихода освободителей он уже приносил нам в ревир продукты, желая и нас расположить к нему. На вид он был здоров, не старше 50 лет. Жил в большом двухэтажном доме, и видно было, что он не бедствовал во время войны. Когда наша охрана убежала, то он приглашал несколько человек пленных в свой дом. Угощал пивом и еще чем-нибудь. В подвале хранил две бочки вина, которые специально приготовил для встречи советской армии.
Я не был свидетелем встречи этого немца с победителями, но видел последствия ее. Все в доме было разграблено, разбито, расстреляно. Вино, конечно, выпито, и следов от бочек не осталось. От посуды одни осколки. На каждом этаже словно ураган прошел. Думаю, что в этом разгуле принимали участие и остовцы и пленные. Но стреляли по стенкам определенно солдаты.
Для стремительно катящейся армии все немцы были враги, всех стригли под одну гребенку. Все разрешалось, все можно, валяй, Ванюха, ты победитель. Можно только представить, как этот немец, имея хорошие намерения, стоял у открытых дверей и ждал гостей. Стоило только узнать одному-двум солдатам о вине, как целая вооруженная толпа бросилась туда. Немца, конечно, оттолкнули, не понимая ни его слов, ни его добрых намерений. Если немец к этому времени не сообразил, что происходит, и не убежал, то могли изнасиловать его жену и пристрелить его, если бы он бросился защищать ее. Гостеприимного немца я больше не видел.
С приходом освободителей с Востока и с Запада, побежденная Германия превратилась в многонациональный и многомиллионный муравейник, беспрестанно двигающийся по всем направлениям. И остовцы и пленные потянулись к ближайшим городам. Большой процент людей направился на восток. Многие, как я в Мейсен, ехали в те места, из которых были эвакуированы. Наша группа в шесть человек шла за телегой, на которой были нагружены чемоданы. Мы совсем не спешили в Мейсен и делали не более чем 10 км в день. И путь наш был не по прямой дороге, а зигзагами. Вскоре мы очутились рядом с рекой Эльбой и ехали вдоль нее. После обеда останавливались на ночлег, если находили место, которое нам нравилось. Надо было кормить лошадей, да и самим искать пищу. С кормежкой было проще: косили траву.
В эти майские, теплые, красивые дни никуда не хотелось спешить. Хотелось наслаждаться свободой и тем, что позволяла обстановка и давала сама жизнь. На большие дороги мы не показывались, потому что по ним все еще прибывала советская армия.
Иногда мы останавливались на несколько дней, если нам нравилось место. Из таких мест запомнилась большая, красивая усадьба на берегу Эльбы, окруженная парком со всех сторон. Прекрасный трехэтажный дом был построен со вкусом и чем-то отдаленно напоминал старинные русские помещичьи усадьбы 19-го столетия. Разве только не хватало липовых аллей. Но там было много других больших деревьев, уходящих вдаль к реке. Дом красивой внешней архитектуры, внутренне он был также хорошо благоустроен. По всему было видно, что жил в нем человек богатый. Освободителей он не ждал. Своевременно убежал, захватив с собой необходимое и вероятно с надеждой, что вернется назад.
В доме оставалось все как было, насколько можно было судить, когда мне пришлось провести здесь несколько дней. Изящная мебель, фарфоровая посуда из Мейсена, сотни граненых стаканов и стаканчиков, шкафы, набитые разной разностью, – все говорило, что здесь жил человек со вкусом и средствами. Но после нескольких волн победителей, остовцев, пленных, собирателей трофеев – ото всей роскоши и изящности остался только призрак прошлого. Черепки, разбитая посуда, разбросанные стаканы, разбитые окна… Широкая красивая лестница с одного этажа на другой усеяна осколками разбитой посуды. Картины разорения и безграничного разгула во всех комнатах. Кроме одной. Библиотеки. В многочисленных шкафах хранилось не менее 50 тысяч томов книг. И ни одна книга не валялась на полу, ни одна не была разорвана. Были здесь и классики русской литературы. В шкафах не было разбито ни одно стекло. Уважение ли к книгам или полное безразличие к ним пощадили коллекцию убежавшего хозяина? Вероятно, ни то ни другое. Обстоятельства.
В этом доме никто победителей не встречал, бочек с вином никто не готовил. Гостеприимного хозяина не было. Но результат оказался таким же, как и в случае, когда хозяин встречал победителей.
Подвалы были пусты. Но так только казалось на беглый взгляд. Кто-то из остовцев, подсчитав количество окон с внешней и внутренней стороны, заметил недочет: с наружной стороны окон было больше, чем с внутренней.
Начали искать секретную комнату и нашли. Ее единственное окно вырисовывалось только на 30 см над землей. Взялись за лопаты, раскопали окно, разломали железную решетку и перед глазами открылся винный подвал, до отказа наполненный французскими и немецкими винами, коньяками и другими дорогими напитками.
Слух о винном погребе стрелой пролетел по всему дому и по парку, где находились в это время около ста остовцев-пленных. У единственного окошка образовалась толпа, и каждый старался первым попасть в подвал, как мне потом рассказывали. Те, кому это удалось, хватали крепкие напитки: коньяки и ликеры. «Разгрузка» подвала происходила через это единственное обнаруженное небольшое окно, потому что дверь с подвальной стороны была заложена кирпичами. Дверь эта к тому же была так умело замаскирована, что первые волны собирателей «трофеев» ее не заметили.
Когда я пришел посмотреть на погреб, а это было часа через два после его открытия, то там оставалось только вино. Около 500 бутылок лежали в порядке на специальных полках. Вино было 1918–1922 годов. Мне кажется, оно было местного мейсенского производства. Кто-то открыл пару бутылок и назвал содержимое «кислятиной», другие называли «квасом». Мое отношение к этому вину не отличалось от других. Я тоже прошел мимо, взял только две бутылки. К вечеру разошлось не больше 50 бутылок. Остальные лежали на полках в полном порядке. Любителей вина не было.
На следующий день я отправился на разведку в Мейсен на «трофейном» велосипеде. Около советской комендатуры я встретил бывшего пленного, с которым я подружился, когда он несколько раз был в ревире. Он что-то делал при комендатуре. Я рассказал ему о вине, а он передал какому-то лейтенанту при коменданте, который без лишних вопросов сказал, что поедем за вином. Нашел где-то машину, и мы поехали.
Бутылок вина все еще было много, хотя уже с утра некоторые немцы осмелились и брали по бутылке-две. В машину мы нагрузили около 50–60 бутылок. Лейтенант больше не пожелал брать. Да и машина была маленькая. День был жаркий, и я решил утолить жажду «квасом». К моему удивлению, квас опьянил меня. Лейтенант понес несколько бутылок коменданту, а когда тот узнал, в чем дело, то приказал поехать и забрать все бутылки. Но уже было поздно. Мы приехали и увидели только пустые полки.
Этот дом так и остался для меня «замком». Много мне еще приходилось встречать красивых зданий, но память сохранила почему-то детали вот именно этой усадьбы.
В тени деревьев этого парка я провел несколько незабываемых майских дней в кругу своих друзей. Как давно это было, как быстро улетели годы и как свежо воспоминание! Словно это было вчера. Те первые послевоенные недели были истинно радостными, счастливыми. Бродя часами по парку на высоком берегу Эльбы в окрестностях Мейсена, мы не думали о мрачных днях. Казалось, что все самое худшее прошло, осталось позади. Была молодость, светлые мечты и вера в будущее. Послевоенный хаос не казался страшнее пережитого, а советская власть еще не оскалила на нас зубы. А если и были рычащие, то от них можно было легко уйти. Мы довольствовались немногим, жили настоящим днем.
В самом начале июня произошло то, о чем мы и думать не могли. Оказалось, что война еще не окончена, что надо еще воевать с Японией. На всех главных дорогах, ведущих в Мейсен, по которым толпами валили остовцы-пленные, была поставлена военная заграда. Останавливали всех входящих в город, отбирали молодых ребят, заводили их рядом в большой двор какого-то бывшего учреждения, и начиналась регистрация. Там за столом сидело два лейтенанта. Записывали имя, фамилию, день и место рождения. Никаких документов не спрашивали. У нас никаких и не было. Никто не ожидал этого, и как результат – паника, волнение. Те, кто увидели или узнали об этом издалека, повернули назад, пошли в обход, спрятались. Никто их не преследовал и не останавливал. Думаю, что так происходило и в других городах.
Во время регистрации никто ни одного раза не спросил о прежней службе в Красной армии. На наши вопросы отвечали, что нас повезут скорым путем в Сибирь, где формируется армия для похода на Японию.
Попался в эту ловушку и я, и был изрядно обеспокоен. В голове завертелись разные мысли в поисках выхода из этого положения. Бежать с пункта регистрации совершенно не было возможности – кругом стояли солдаты с винтовками. Мечталось жить без охраны, без военщины, без проволоки. Война и плен покалечили нашу молодость, и нам вовсе не хотелось снова надевать солдатскую шинель, а тем более воевать. Кругом благоухала весна, цвели цветы, и хотелось радоваться тому, что остался жив, и мечтать о чем-то красивом и радостном. Я решил приложить все усилия, чтобы бежать отсюда.
Когда численность группы достигла нескольких сот человек, нам приказали выстроиться в колонну и шагать по направлению к городу Ризе, большой железнодорожной станции в 25 км от Мейсена. Колонна сопровождалась вооруженными солдатами. Их было немного, не больше десяти. Многие из нас ехали на велосипедах, многие шли. По дороге начали разговаривать о войне с Японией. Все думали, что война окончена, – начались обсуждения, рассуждения. Пересмотрев всю колонну, я не нашел ни одного знакомого лица, с кем мне бы приходилось встречаться в лагерях.
Я ехал на велосипеде рядом с грузином, тоже бывшим военнопленным. Воевать я определенно не хотел. Поделился с грузином своими мыслями и предложил ему бежать на первой же остановке. Он отказался. Он совсем не был против армии и говорил, что пойдет воевать и, может быть, искупит свою «вину». Вина его была в том, что он был в плену. Не знаю, может быть, он и был в чем-то виноват. Я не стал его отговаривать, пусть воюет. За собой я никакой вины не чувствовал. Грузин предложил помочь мне бежать на первой же остановке, хотя, собственно, никакой посторонней помощи не нужно было. Просто надо было рискнуть. Охрана мало обращала на нас внимания.
Шли мы по берегу Эльбы: с правой стороны текла река, слева возвышался крутой берег. Между рекой и крутым обрывом шла дорога, росли кустарники, попадались большие деревья, весь берег был усеян густой растительностью. День был жаркий, лето набирало свою силу. От Мейсена мы ушли, вероятно, на 7–8 км. Вся колонна остановилась на привал, и каждый старался найти место в тени деревьев. Наши охранники делали то же самое. Вероятно, их не проинструктировали охранять нас строго и смотреть за беглецами. Мне кажется, им было все равно. Война окончена, и они также вздохнули свободной грудью. Собственно, мы не были ни заключенными, ни частью армии. Может быть, они и думали, что мы все были добровольцами. Какой-то процент добровольцев определенно и был. Возможно, некоторые думали, как тот грузин.
Когда все расположились на отдых, я начал подходить к крутому обрыву, покрытому сплошь густыми кустами. Велосипед свой не оставлял. Это был мой трофей. Никто не обращал на меня внимания, когда я начал забираться все дальше и дальше в кусты. Не скажу, что я был спокоен, страх какой-то был. Не легко было взбираться на крутой обрыв, но я приложил все усилия, чтобы за самое короткое время подняться наверх, где уже начиналось открытое поле. Грузин проводил меня до крутого подъема, подал руку, а я пожелал ему успеха.


![Книга Занзибар, или Последняя причина (Сборник) [Занзибар, или Последняя причина • Рыжая • Вишни свободы] автора Альфред Андерш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-sbornik-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-ryzhaya-vishni-svobody-257365.jpg)



