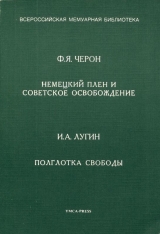
Текст книги "Немецкий плен и советское освобождение. Полглотка свободы"
Автор книги: И. Лугин
Соавторы: Федор Черон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Американцев в деревнях не было, и немцы не особенно чувствовали оккупационный режим.
Деревня Григория не пострадала от военных действий. Бывший хозяин Григория встретил нас приветливо. Но, мне кажется, и не без боязни: неизвестно, что взбредет в голову этим освобожденным рабам! О Кнопке ее хозяин ничего не знал, и Григорий окончательно решил, что ее увезли в Бельгию. Мы переночевали. Хозяева нас хорошо накормили и дали бутерброды еще и на дорогу.
От деревни уже было недалеко до нашей цели. Но мы сделали небольшой круг, чтобы посмотреть позиции Фау-1. На большой поляне мы увидели спаренные рельсы-лафеты, поставленные под углом 45 градусов к горизонту. Это были запускные приспособления. Рядом в траве валялось несколько ракет. Никто этим секретным оружием Третьего Рейха не интересовался. Бери и стреляй для развлечения! Воображаю, сколько бы сюда нагнали охраны, захвати эту местность Советы!
Сначала я показал спутникам нашу старую землянку. Она уже успела отсыреть. Поэтому мы поселились наверху в избушке, где когда-то жили беженцы, испугавшие нас. В избушке мы нашли полмешка старой картошки. Вместе с оставшейся спрятанной мукой получился прекрасный суп.
Назавтра у нас было много дел. Я хотел, наконец, поохотиться. Ведь мы так и не выстрелили из винтовки ни разу. Алексей пойдет в Арбрюк проведать лесничего. У Григория также была важная цель. Дело в том, что при эвакуации кухни, в общем беспорядке, ему удалось спрятать в кустах большую бутыль водки – сливянки. Но бутыль тяжела и Григорию нужна моя помощь. И первым делом мы отправились за водкой. Бутыль легко нашли. Она была в том месте, где мы, с другим Григорием, сидели в кустах, готовясь к спуску в подвал. Хлебнули. Водка была очень хороша.
На охоту я отправился после обеденного супа. Пошел в «Сибирь». Возле горы свернул по заросшей тропинке налево. Сделал только несколько шагов, как увидел шагах в десяти молодого пасущегося оленя. Он меня не слышал. Я поднял винтовку и выстрелил. Олень от неожиданности высоко подпрыгнул, бросился в мою сторону и сбил меня с ног. На этом я и закончил свою охоту.
У Алексея также неудача. Семья лесничего давно уехала в Австрию. Вечером мы пили водку. Напившись, подняли страшную стрельбу из винтовки и автомата.
Утром отправились проведать старика Блезера. В подарок понесли бутылку водки и несколько кусков мыла из моих запасов. Погода испортилась. Накрапывал дождик.
Старик встретил нас как родных. Постарел, осунулся. Но по-прежнему живые глаза. Живет один. Жена умерла. Пьет водку, как русский. Весь сияет. Вот-вот скажет старое: «Leben ist Süss!» Спали, накрывшись пуховыми одеялами, необычайно жаркими. Деревенский сапожник починил нам обувь. В деревне все еще жил доктор-белорус с семьей и украинка со своим немцем.
Последний день в лесу. Алексей решил угостить нас французской едой – жареными улитками. Собрал их целое ведро и на ночь засыпал солью. Наутро все улитки вылезли из раковин. Алексей их почистил и изжарил на подаренном стариком маргарине. Я отправился побродить по лесу. Пошел к малиннику, что рос на склоне горы, перед нашей деревней. Сел и задумался: увижу ли еще когда-нибудь свой лес? Как не хочется ехать домой!
Вдруг мое внимание привлек какой-то предмет, слегка торчащий из-под камня. Предмет оказался немецким полковым знаменем в чехле. Его зарыли, по-видимому в спешке, после разгрома фронта бегущие солдаты. Знамя можно было выгодно продать американцам. Но имею ли я право его присвоить? Кто-то умирал и проливал кровь под этим знаменем. Далеко не всякий солдат был преступником. Он исполнял приказ и отдавал свою жизнь так же, как делают солдаты всех армий. Я снова закопал знамя и ничего не сказал спутникам о находке.
Уходя, тщательно спрятал все оружие в старом месте. Но сделал ошибку, показав захоронку Григорию. Он с двумя другими товарищами позже посетит эти места. В результате мой нож исчезнет, а автомат, израсходовав патроны, просто выбросят… Останется нетронутой только винтовка.
Домой мы шли кратчайшей дорогой, прихватив водку и мыло.
12. Репатриация
Во время нашего отсутствия в лагере начали циркулировать слухи о скорой репатриации. Но прошло еще более месяца, прежде чем первая партия отправилась на родину, точнее, в восточную часть Германии, оккупированную советской армией. 2 августа, под звуки баяна, 1500 человек покинули лагерь. Некоторые ехали тяжело нагруженными. Тащили в разобранном виде велосипеды. Один репатриант нес швейную машину. Большинство, однако, имело скромную поклажу, умещавшуюся в мешке с пришитыми лямками.
Я по-прежнему находился на распутье и оттягивал отъезд.
За первой партией последовали другие. Лагерь быстро разгружался. Из брошенных частей я собрал велосипед и обменял его в Брандте на часы. Советовался с немцами. Но они были не в курсе нашего юридического положения. Кроме того, немцы с нетерпением ожидали нашего отъезда. От нас они имели только неприятности. Иногда я склонялся к немедленному уходу из лагеря. Но что дальше? Куда идти, на что жить? Все неясно. Давала знать себя наша тотальная отрезанность от свободного мира и условий жизни на Западе.
5 августа уехали «мой» Григорий, Василий и другие. Я остался без друзей. В громадных казармах, еще несколько дней назад людных и шумных, – непривычно тихо и пусто.
Пришла и моя очередь. 7 августа отходил последний транспорт. Ехали комендант лагеря со своими помощниками и все остальные. Итак, я прибыл в лагерь с первой партией и покидаю его с последней.
Перед погрузкой, под надзором советского и американского офицеров, нам давали на подпись хитро составленную декларацию, объясняющую, что у нас есть единственный выбор – добровольное возвращение на родину. Взглянув в колючие глаза смершевца, репатрианты быстро подмахивали документ.
В час дня посадка и выдача провианта. Мы получаем консервы, хлеб и галеты. Против всяких правил, я прихватываю с собой прекрасное американское одеяло, причем никто не возражает. В 4 часа машины покидают лагерь. Прощай, Ахен!
По словам советского офицера, нас везут в Берлин. Оттуда военнопленных направят в часть. Так ли это?
В 6 часов мы уже сходим во временном лагере в окрестностях Кельна. Дальше нас повезут поездом. На следующее утро мы грузимся в товарные вагоны, и поезд медленно двигается на восток. Только теперь, проезжая Германию, мы видим, какие страшные разрушения причинила немцам союзная авиация!
Едем медленно. По мере приближения к границам советской зоны настроение репатриантов меняется. Меньше смеха, больше страха в глазах, тише шепот пар, сблизившихся в лагере.
Вагон охраняют два американских солдата. На станциях охраны больше. Солдаты, однако, охотно отпускают по 10–15 человек в соседний лесок, чтобы наломать веток и украсить ими вагон. Репатрианты должны проявлять максимум радости – это для истории. Но из отпущенных добрая половина не возвращается назад. Именно в дороге, по моему мнению, сбежала основная часть людей, решивших не возвращаться.
На третьи сутки езды мы прибыли к зональной англо-советской границе около города Гельмштедта. До вечера мы ожидаем встречного поезда. В советской зоне оставлены только одноколейные пути, и движение поездов еще медленнее, чем в западных зонах.
У границы мы впервые увидели советских часовых. Даже у самых храбрых упало сердце. Каждый понимал, что после близкой невидимой черты возврата назад уже не будет. Человек станет рабом злой и беспощадной машины. Грешен, я подумал, да вероятно не только я, что лучше бы мне пробыть еще несколько лет в плену, чем возвращаться к «своим»!
Вечером медленно прошел встречный поезд с французскими военнопленными, возвращающимися домой. Они были освобождены советскими войсками и находились в Курске. Французы были шумны и веселы. Щеголяли приобретенным в лагере русским матом. В ватных куртках и ушанках, они вовсе не имели французского вида.
Наступил страшный момент. С нашего поезда сошли все американцы и выстроились на платформе. Мы помахали им руками. Поезд тронулся и медленно пересек границу. Минут через пятнадцать нас выгрузили на маленьком полустанке около цементного завода. Здесь отделили военнопленных от гражданских лиц. Последних куда-то увели, а нас выстроили в одну шеренгу. Вдоль строя прошел сержант и молча сорвал картонные погоны с плеч нашего лагерного начальства. После этого нас распустили. Ночевали мы на полу в заводских зданиях с другими репатриантами, прибывшими раньше нас.
Утром я увидел, что недалеко в поле расположилась примерно рота азербайджанцев в полном немецком обмундировании и даже с рюкзаками. Но палатка у них была только одна – санитарная. Жили эти репатрианты под открытыми небесами, и их часто мочил дождик. Раз в день к азербайджанцам подъезжала полевая кухня и они получали еду. По слухам, их выдали англичане из Голландии. Но самое удивительное, что, кажется, не было никакой охраны вокруг их лагеря.
При заводе стояла какая-то армейская часть. Красноармейцы, или по-новому – солдаты, как-то не похожи на нас самих и тех, каких мы помнили в начале войны. Во-первых, погоны – мятые тряпки на плечах. Затем, обращение с командирами – почти панибратское, вероятно, результат войны. В большинстве молодые лица. У всех гимнастерки и пилотки почернели от пота и с белыми разводами соли. Но вид имеют бравый и составляют как бы одно целое с автоматом.
Солдат кричит через улицу высокой красивой медсестре: – «Сестра! Парашютики привезла?» – Та кивает головой.
К нам отношение разное. Особой нелюбовью мы пользуемся у грудастых баб в гимнастерках. Они бросают на нас косые презрительные взгляды. Многие солдаты дружелюбны. Один в разговоре сказал мне: «Замучают они вас! Нас каждую неделю вызывают в Особый отдел и все выпытывают!» – Но в общем – отчуждение. Иногда с долей зависти: вот, люди побывали на свободе, повидали мир!
Мы же сразу почувствовали себя людьми второго сорта, будто замаравшими себя чем-то постыдным.
Я проклинал себя за нерешительность, за то, что не остался на Западе. Как ни стесняли нашу свободу американцы, но даже те полглотка свободы были достаточны, чтобы теперь, с необычайной сердечной болью и страхом, почувствовать их потерю навсегда.
Среди репатриантов я встретил Ивана Иванова, из нашей лесной команды. Мы были прежде соседями по койке. Я разделил с ним сбереженные галеты. Однажды, греясь на солнышке под домом, я предложил ему бежать на Запад. Запомнился его ответ: – «Знаешь, я был лейтенантом войск НКВД. Если меня поймают, то разговор со мной будет короткий!» – На меня он не донес.
Временный лагерь при заводе перестал пополняться репатриантами. По-видимому главная страда прошла. Возвращенцев партиями отправляли куда-то дальше. Я, как и в Ахене, старался задержаться подольше. Но пришла и моя очередь. Завтра с последней партией должен уходить и я. Перед уходом я решил поговорить с немцами, жившими рядом с заводом в небольшом селении. Встретив неряшливо одетую женщину, я заговорил с ней. Она, кривляясь, сразу же запричитала: «Дай хлеба! Дай хлеба!» Но когда вошли в дом, ее юродство как рукой сняло. В доме были дети. Мужчин немцев на заводе и в селении я вообще не видел. Я спросил женщину прямо, не знает ли она человека, который бы переводил людей через границу? Она ответила, что такой человек есть, но он берет за работу 1500 марок. Таких денег у меня не было. Я дал детям плитку шоколада и ушел.
Утром нас выстроили. Сообщили, что предстоит трехдневный марш. Наша конечная цель – лагерь, из которого нас направят в часть. Построившись в колонну, мы потянулись на восток. Было нас, вероятно, человек полтораста. И 10 человек охраны. Каждый час делали десятиминутные привалы. В обед – часовой. Провиант нам выдали сухой.
Первую ночь спали в поле. На второй день тяжело нагруженные репатрианты начали бросать свое имущество. Его подбирал солдат, ехавший сзади на подводе. Барахло затем делилось между охранниками. Все было мирно и тихо. Никто ни у кого ничего не отнимал.
У меня все вещи вмещались в небольшую американскую сумку, которую я подобрал в лесу. Но шерстяное одеяло, взятое мной в лагере, вызывало завистливые взгляды, и я решил с ним расстаться. В первом же попавшемся селении я обменял его на буханку хлеба.
В одном из селений, где мы отдыхали в обеденный перерыв, я впервые увидел немецких пленных под советской охраной. Они работали на конюшне. Внешний вид их не был очень страшен. Но взгляд, как и когда-то у нас, – отсутствующий. Я спросил сержанта, следившего за их работой:
– Когда же вы отпустите их домой?
Сержант встрепенулся, как будто его обожгли:
– Что, тебе их жалко стало? А они тебя жалели? Как ты думаешь, когда бы ты вернулся домой?
Угнетающее впечатление произвела сцена, виденная нами на очередном привале. По дороге мимо нас на мотоцикле медленно ехал молодой немец в солдатской форме. Белая повязка на руке означала, что он полицейский. Навстречу ему шел наш солдат – здоровенный детина в грязном обмундировании и с буханкой хлеба за пазухой. Солдат остановил немца и знаком показал, что забирает мотоцикл. Немец покачал головой и что-то сказал. Солдат схватил за руль мотоцикл и начал тянуть его к себе. Оба упали на землю. У солдата вывалилась из-за пазухи буханка хлеба. Он бил немца, а тот изо всех сил цеплялся за свой мотоцикл. Минут пять продолжалось избиение. Наконец солдат отнял машину, сел на нее и, виляя из стороны в сторону, поехал по дороге. Немец плакал, растирая рукавом слезы по грязному лицу. Все молчали. Чувствовалось, что симпатии были на стороне немца.
По старой привычке я запоминал дорогу. На третьи сутки марша мы достигли Магдебурга. На вокзале вечером долго ждали поезда. Я заметил в стороне небольшую группу людей. Это были командиры, бывшие военнопленные. В разговоре один из этой группы позавидовал нам:
– Вам что! Придете в лагерь, пройдете комиссию и пошлют вас в армию. А нас гоняют из лагеря в лагерь – не опознает ли кто бывшего переводчика или власовца. Так и дрожим в ожидании ошибки или подлости!
Поздно вечером нас погрузили в вагоны, а утром мы уже сходили на небольшой станции под названием Премниц, стоявшей недалеко от городка под тем же названием.
13. Фильтровочный лагерь в Премнице
Лагерь, в который нас загнали, напоминал ахенский. Такие же огромные казармы, разделенные плацем для упражнений. Но кроме казарм, в одной части поля было вырыто с полдюжины больших землянок. Это указывало, что в прошлом здесь были пленные.
Лагерь был переполнен возвращенцами, и нам нашлось место только в корпусе со снесенной при бомбежке крышей. Мы разместились на третьем этаже под открытым небом. Мне достался к тому же третий этаж койки. Когда шел дождик, а шел он довольно часто, меня приглашал к себе сосед на нижней койке – осетин Виктор. Мы с ним быстро разгадали друг друга и делились самыми сокровенными мыслями.
Глядя за проволоку, мы видели только фигуры наших солдат. По-видимому, немцев выселили. Вскоре после нашего приезда лагерь обнесли второй линией проволочных заграждений. Но на политзанятиях никто не осмелился спросить: «Почему это при немцах была одна проволока, а при Советах две?» Проводилась мысль, что хотя, благодаря мудрой политике Сталина, мы победили фашистскую Германию, но почивать на лаврах рано, на нас точат зубы капиталисты Америки и Англии. Комиссар однажды разошелся и, полагая, вероятно, что мы забыли прелести режима, сообщил нам, что советская власть уже не та, что была раньше: «Мы научились вешать и расстреливать изменников родины!» Намек попал в цель.
Время проводили также на маршировках с веселой песней.
Кормили по-армейски на кухне, голодно.
По словам ранее прибывших, репатрианты в этом лагере не задерживались. Проходили фильтровочную комиссию и отправлялись в часть. Но при нас такое положение изменилось. Направления в воинские части прекратились. Началась демобилизация старших возрастов. Вскоре очередь дошла и до меня. Я официально стал гражданским лицом. Демобилизованные солдаты из селения уезжали домой. Они приходили к нам, предлагали хлеб и американскую тушенку за уцелевшие у некоторых вещи. Нас же домой не отпускали. В отношении нас у начальства, по-видимому, были другие планы…
В лагере циркулировали различные слухи. Так, рассказывали о злой судьбе остовок первых волн репатриации в соседнем лагере. Из-за того, кому их насиловать, разгорелось целое сражение между стрелковой частью и танкистами. Победили, говорят, танкисты…
Среди массы репатриантов я встретил порядочное число знакомых не только из ахенского лагеря, но и из прежних пленных лагерей и даже из армии. Так попался мне парень, который лежал со мною рядом на нарах в Больхене – лагере, из которого я бежал в первый раз. Он поправился и не имел больше туберкулезного вида. Производил вполне здоровое впечатление. Мы порадовались встрече. На второй или третий день пребывания в Премнице я столкнулся с человеком, показавшимся мне знакомым. Он также обратил на меня внимание и спросил, где мы встречались? Я не помнил. Несколько дней мы проходили мимо друг друга, скашивая глаза. В напряженной обстановке, которая царила в лагере, все становились чрезмерно подозрительными. Полагалось вспомнить мне, но вспомнил лейтенант: «Да ты же был в роте лейтенанта Радченко, а я был командиром второго взвода!» Теперь припомнил и я. Они – группа молодых выпускников-лейтенантов – прибыли к нам в дивизию из артиллерийской школы в Баку. Дивизия вместе с другими частями 44 армии была предназначена для десанта на Керченском полуострове в конце декабря 1941. Еще накануне отправки я был в списках уходящих, но на следующее утро меня при построении и поверке уже не вызвали. Дивизия ушла, а я остался с немногими больными в военном городке в Кутаиси. Почему это случилось – осталось мне неизвестным. Десант постигла та же участь, что и наше окружение, и в том же месяце мае.
В лагере оказался также Григорий, с которым мы ходили в лес из ахенского лагеря.
Не только я, но и большинство репатриантов остро переживали потерю даже той куцей свободы, которую мы имели при американцах. В Премнице оборвались всякие надежды на светлое будущее. А человеку, как известно, трудно существовать без веры, даже иллюзорной, но согревающей и помогающей переносить невзгоды. При мне было несколько случаев самоубийств. Люди вешались в землянках. Скрыть этого было нельзя, и начальство объявило, что вешаются власовцы, боящиеся расплаты. Было это, конечно, грубой ложью.
Уход в лучший мир был своеобразным избранием свободы. Попутно отмечу, что самоубийство в плену было чрезвычайно редким явлением, мне лично неизвестным.
Товарищи из нашей лесной команды подходили ко мне и говорили: «Да, ты был прав во всем!» Они вспоминали мои слова, что советская власть ничего не прощает и ничего не забывает. Но я-то, умник, так же попал сюда, как и другие доверчивые…
Я твердо решил бежать. Как и все мои твердые решения, это возникло самопроизвольно. Вместе с этим я стал искать причин, оправдывающих мой поступок, – тех, что мог бы сказать матери. Найти их было не трудно: я не хочу своим трудом содействовать укреплению дьявольской власти; я не хочу порабощения еще свободных народов; в предстоящей войне я хочу быть на стороне Америки; наконец, я просто не в состоянии жить и дышать под их собачьей властью! Но теперь, оглядываясь назад, я могу добавить и еще одну причину: трудно ставшему на ноги снова падать на колени.
Кажется, на седьмой день пребывания в лагере я пошел на фильтровочную комиссию. Комиссия заседала в одном из домов городка. Из лагеря репатриантов водили партиями, примерно по 20 человек, под охраной одного солдата. В день успевали «профильтроваться» две партии. По слухам, комиссия была довольно безобидная. При допросах следователи дальше крика не шли.
Городок утопал в зелени. Домики внешним видом напоминали больше польские или украинские, чем немецкие с типичными островерхими крышами. Нас завели во двор, огороженный невысоким забором, и посадили на траву. Некоторое время мы ждали прихода следователей. Солдат стоял в углу двора и скучал. С нами он не разговаривал. Когда явились офицеры – их было четверо, – первая партия пошла на допрос.
Я внимательно осмотрел небольшой дворик. Одна сторона забора, напротив дома, густо заросла вьющимся плющом. Раздвинув стебли в углу двора, я заметил, что в заборе не хватает двух досок и через образовавшуюся дыру можно пролезть в переулок. В окнах, выходящих во двор, видны были спины следователей. Они сидели так с расчетом, чтобы свет от окна падал на лица допрашиваемых. С этой стороны все было благополучно. Препятствием был солдат. Но он от безделья старался завязать разговор с кем-то по другую сторону внутреннего забора и на нас не обращал большого внимания.
Подошла моя очередь. Я стукнул в дверь и зашел в комнату. За столом против меня сидел молодой офицер в морской форме. Над ним висел портрет Сталина. По ассоциации, я вспомнил допрос в гестапо. Офицер предложил мне сесть. Он явно не был профессиональным энкаведистом. На должность следователя, вероятно, попал по партийной линии в страдные времена наплыва репатриантов.
Допрашивал он меня около часу, тщательно записывая ответы в анкету. Среди заданных вопросов были: где попал в плен, в каких лагерях был, какую носил форму в плену и т. п. Я понимал, что это только начало. Утрамбовывается фундамент, на котором профессиональный чекист потом построит здание обвинения.
Оценивая возможности побега, я пришел к выводу, что наибольший шанс представляет двор фильтровочной комиссии. Бежать из самого лагеря трудно. Лагерь огорожен двойной проволокой и охраняется днем и ночью.


![Книга Занзибар, или Последняя причина (Сборник) [Занзибар, или Последняя причина • Рыжая • Вишни свободы] автора Альфред Андерш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-sbornik-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-ryzhaya-vishni-svobody-257365.jpg)



