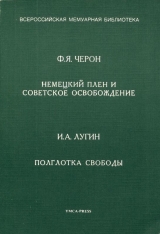
Текст книги "Немецкий плен и советское освобождение. Полглотка свободы"
Автор книги: И. Лугин
Соавторы: Федор Черон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
В плену многие меняли свои фамилии. Одни старались скрыть свое армейское прошлое. Другие боялись за судьбу родных: репрессии к семьям лиц, попавших в плен, не были пустой фразой. Наконец, третьи предпочитали украинские фамилии. И, конечно, меняли фамилии евреи.
Из этого лагеря направляли в рабочие лагеря. Я попал в рабочую команду на металлургический завод в г. Франкентале, записавшись токарем.
Когда мы уезжали, лагерь выглядел так, как будто здесь пролетала саранча и съела всю зелень, оставив только голые ветви.
3. Рабочий лагерь во Франкентале
Всего в лагере, считая наше пополнение, находилось 200–250 пленных. Жили мы в стандартных деревянных бараках, выкрашенных в зеленую краску. Изобретение этих жилищ, покрывавших в военное время всю Германию, принадлежало известному архитектору Альберту Шпееру.
Барак вмещал около 50 человек. В конце барака находилась умывальня с холодной водой. Кровати были двухэтажными, с соломенными матрасами, покрытыми серыми хлопчатобумажными одеялами. Таким же одеялом укрывались. Печь в бараке была, но она не топилась, даже зимой.
Всего бараков было пять. Они располагались вдоль проволоки на небольшом расстоянии друг от друга. Напротив бараков находилась кухня и столовая. По левую сторону – большая крытая уборная. Направо от столовой были ворота с будкой для часового. Лагерь был огорожен высоким проволочным забором. Вышек и часовых за проволокой не было. Двор покрыт крупным шлаком.
На ночь бараки запирались. В каждом бараке ставилась параша, которую дежурные должны были выносить сразу же после подъема в 5 часов утра.
Комендантом лагеря был пожилой фельдфебель, призванный из запаса. Вид имел туповатого служаки. Занимался, хотя и не часто, рукоприкладством. Строго следил за чистотой и порядком. В распоряжении коменданта находились два полицая, западных белоруса, и переводчик Андрей, русский лейтенант. Передавали, что до Андрея были случаи избиения пленных полицаями, но новый переводчик это прекратил. Однако в сердцах Андрей сам отвешивал оплеуху и крыл матом зарвавшегося пленного, за что потом извинялся и давал пайку хлеба.
В лагере нас переобмундировали. Забрали все советское. Выдали нижнее белье и верхнюю одежду, состоявшую из куртки и брюк образца Первой мировой войны. На правом колене и спине красной масляной краской были выведены буквы SU (Советский Союз). Обувью служили большие деревянные колодки, очень неудобные для ходьбы. Быстро двигаться или бежать в колодках можно было двумя способами: не отрывая ног от земли на манер лыжника, или же высоко поднимая ноги, подобно породистому рысаку. Колодки стали опознавательным признаком советского пленного. Пленные других государств носили собственную обувь. В баню нас водили в город каждую вторую субботу. Там же выдавали стиранное нижнее белье.
Ели мы в столовой. Утром давали буханку хлеба на пять человек, ложку брюквенного мармелада и поллитра эрзац-кофе. Иногда вместо мармелада давали грамм 15 маргарина.
В 6 часов было построение. Комендант считал пленных. После этого мастера забирали свои бригады на работы. Идти на завод было недалеко – не больше квартала. Завод и лагерь стояли на окраине города. В полдень в перерыв из кухни нам приносили бачок кофе. Иногда на дне мы обнаруживали куски хлеба. Кто-то на кухне жалел нас.
Вечером около 6 часов мы возвращались с работы и получали запоздалый обед – большой черпак брюквенного супа, заправленного мукой. В 8 часов получали пустой кофе. В общем, было голодно и еда занимала главное место в жизни.
Спасало то, что работа не была слишком тяжелой. В цеху я вначале был на подсобной работе: подавал детали, убирал стружки, подметал. Но затем меня поставили на токарный станок. Кстати сказать, этот станок был предназначен для Советского Союза: все таблички и объяснения были написаны на русском языке. От того, что я стал токарем, я ничего не выиграл. Помощь пришла с другой стороны.
У меня давно была повреждена кость на среднем пальце левой руки. Однажды, поднимая тяжелую болванку, я прижал палец к станине. От боли я потерял сознание. Чудом считаю, что при падении не разбил голову и ничего себе не повредил. Немцы, предполагая, что я упал от слабости, перевели меня в категорию тяжелоработающих. Преимущество заключалось в том, что теперь я получал четвертую часть полуторафунтовой буханки, а не пятую. Переводчик Андрей по этому поводу заметил, что дурить немцев вовсе не грех. Он не верил моему обмороку.
Мы не были первой партией пленных, прибывших на этот завод. До нас здесь уже работали русские, попавшие в плен в 1941. Все они были кадровиками. Пережив страшную зиму 41–42 гг., они утеряли все иллюзии в отношении немцев и их политики. Пленные «первого захода» с жадностью расспрашивали нас о положении на фронтах. Обычно собрания происходили возле уборной. Я рассказывал, что немцы все еще идут вперед, но не имеют таких успехов, как раньше. Слова ловились на лету и глубоко переживались.
Соседи по койке стали моими приятелями. Вначале я сошелся со студентом третьего курса Харьковского университета Павлом И. Он знал немного немецкий язык и вызвался заполнять карточки при нашем прибытии в этот лагерь. Мы работали в одном цеху и говорили на разные темы. Сходились мы и в критике советской системы. Но с некоторых пор я стал замечать, что Павел как-то переменился. Замкнулся и все что-то думает. Однажды, когда нас только что привели на завод и мастер стал указывать нам рабочие места, Павел ступил шаг вперед и громко сказал: «Я больше на врагов работать не буду!» Все застыли, глядя на него. А он стоял с высоко поднятой головой и сжатыми кулаками. Мастер растерялся. Опомнившись, вызвал охрану. Спешно прибыли два пожилых заводских охранника. В черной форме, низкие и толстые, они напоминали жуков. Охранники подхватили Павла, стоявшего к ним лицом, под руки и повели его спиной вперед, что было очень неудобно и охранникам, и Павлу. На лицах охранников был испуг.
Когда мы вернулись в лагерь, Павла уже не было. Комендант сообщил переводчику, что Павла отправили в концлагерь. К счастью, это оказалось неправдой. Позже я видел его. Но концлагерь в Германии за подобные действия был обеспечен. Не знаю, кто спас Павла, думаю, дирекция завода. И здесь не без добрых людей. Отказ работать на немцев, независимо от того, по каким соображениям Павел пришел к этому решению, наиболее героический поступок, виденный мной в плену.
Второй сосед, с которым я подружился, был небольшого роста нескладный парень. Вид у него был заговорщицкий, как будто он бережно хранил важную тайну. Фамилия его была Щербаков. Настроен он был просоветски. Мечтал о постройке радиоприемника и слушании советских передач. Я прозвал его «таинственный Щербаков». Узнав меня ближе, он открыл, что служил в пограничных войсках и был сверхсрочником. Я тогда не знал, что погранчасти принадлежали к войскам НКВД. Его признание не произвело на меня никакого впечатления.
Некоторые немцы-рабочие сочувствовали нам и нередко помогали. Рабочий у точильного станка как-то шепнул мне: «Шталинград нихт капут!» В то время шли тяжелые бои в Сталинграде. После он регулярно сообщал мне о положении на фронтах. Другой рабочий-фрезеровщик, когда мы работали в ночной смене и не было сменного мастера нациста, вел со мной длинные беседы о жизни в Советском Союзе. Был он бывший социал-демократ и считал Советский Союз раем для рабочих. Я ему описывал настоящее положение вещей. Не уверен, что его убедил. Люди подчас отталкиваются от правды, даже если она очевидна. Однажды, по поводу какого-то праздника, этот рабочий принес бутылочку коньяку, которую по микроскопическим порциям и споил мне. Я бы предпочел кусок хлеба или картофелину.
Жизнь в лагере не была легкой: долгие часы работы в холодном цеху, где температура была ниже нуля, придирки и крик мастеров-нацистов, недостаточное питание – трудный и голодный день раба, когда каждая минута казалась часом. У нас не было шинелей и холод донимал во дворе и в бараке. Старый пиджак на тонкой подкладке никак не согревал тело. Болели куриной слепотой. Но доходяг в лагере не было.
В общем, лагерь во Франкентале оказался наиболее благоустроенным из тех, в которых мне довелось побывать. Получали мы и деньги, специально выпущенные для пленных, что-то около двух марок в неделю. На эти деньги можно было купить иногда пачку подпорченного третьесортного табаку. Употреблялись марки главным образом для игры в очко. В углу или под кроватью, при свете самодельного ночника, азартные игроки просиживали ночи.
С первых же дней по прибытии в Германию я усиленно занялся изучением немецкого языка. Язык я знал немного по курсу педагогического института. Особенно меня занимало чтение газет и журналов, информировавших о событиях за проволокой. Заметив это, товарищи стали приносить мне листовки, сбрасываемые союзниками. Постепенно я стал агентством последних известий. Иногда обрывки газет или журналов приносил и переводчик Андрей, не так уж хорошо знавший немецкий язык.
Подошло немецкое Рождество. По этому поводу нам устроили роскошный обед. Дали суп с макаронами и целый котелок пюре. Первый раз с тех пор, как я попал в плен, я не смог съесть всей порции зараз и оставил часть на завтра. То же повторилось и на Новый год. Под Новый год видел сон – моток проволоки, который я старался распутать. В плену мы стали суеверными и верили снам. Сон был к тяжелой дороге. Сжалось сердце – не хотелось уезжать из этого лагеря.
4. Лимбургский шталаг
Сон был в руку. 2 января 1943 г. нас выстроили на площадке перед бараками и вызвали 36 человек. Среди них был и я.
Через час мы уже куда-то ехали на грузовой машине. Причина отправки и признаки, по которым отбирали людей, остались невыясненными. Но сказали, что везут в шталаг.
Путь военнопленного, попавшего в Германию, как я уже писал выше, начинался со шталага – сборного лагеря для пленных определенного военного округа. В шталаге пленного регистрировали и он получал «паспорт» – карточку с номером, которая вешалась на шнурке на шею. В шталагах советские военнопленные долго не задерживались. Их направляли в рабочие команды.
Жизнь в рабочих лагерях не была одинакова. Различными были питание, работа и обращение. Но питание, как правило, в рабочих лагерях было лучше, чем в шталагах.
В советской литературе умышленно смешивают лагеря военнопленных с концлагерями. Это совершенно различные вещи. Прежде всего, концлагерь – это штрафной лагерь. В концлагере находились не только военнопленные, но и гражданские лица. Пленный мог попасть в концлагерь по суду и без него – за побег, саботаж, агитацию, отказ от работы и – «за здорово живешь». Концлагерь нередко был последним этапом жизни заключенного – в нем находились специальные команды по уничтожению приговоренных к смерти и «нежелательного элемента».
Питание в концлагерях нередко было лучшим, чем в шталагах. Объясняется это, вероятно, тем, что концлагерники работали и отсутствием стандартного подхода к питанию и обращению как с военнопленными, так и с концлагерниками.
По дороге в шталаг на ночь мы остановились в польском офицерском лагере. Здесь я и увидел Павла-отказника. Живого и веселого. Он работал уборщиком в казармах и жил припеваючи. Поляки, кроме обычного пайка военнопленного, получали посылки Красного Креста (одну в две недели). На ужин Павел по старой дружбе принес мне вареной картошки.
Поляки достали бачок супа и принесли в барак, где мы остановились. Наши пленные как звери бросились к бачку, опрокинули его и, падая, начали собирать остатки супа на полу. Поляки были ошеломлены. А у нас сработали рефлексы пережитого голода.
Утром нас загнали в товарный вагон. Сошли мы во второй половине дня на товарной станции Лимбург-на-Лане. Отсюда проселочной дорогой мы, гремя колодками, потащились на юг. Как только мы вышли за городскую черту, сразу же начал идти мелкий, но густой дождь. Дождевые капельки сыпались со всех сторон и легко пробивали потертый пиджак. Края колодок быстро растирали ноги, как всегда – выше пятки и у подъема.
Уже была глубокая ночь, когда мы доплелись до большого, неярко освещенного лагеря в поле. При нашем приближении у ворот вспыхнул высоко подвешенный фонарь. Часовой в мокром плаще отворил ворота.
Это и был Лимбургский шталаг, судя по собственному опыту и рассказам других – один из худших в Германии.
Под крики «лос-лос» (быстро-быстро) колонна вползла в лагерь и остановилась. Сразу же заныли растертые ноги. Хотелось только одного – отдохнуть и согреться. Пересчитав, солдаты внутренней охраны погнали нас по широкой лагерной улице. Направо и налево стояли слабо освещенные фонарями бараки. Наконец пришли. Отворились ворота последней загородки, и нас загнали в холодный барак. Там уже находились пленные. Выжав из пиджака воду, я залез на третий этаж койки с соломенным матрацем. Накрылся мокрым пиджаком и моментально уснул.
Утром как выстрел хлопнули двери. Хриплый голос полицая разрезал сырой воздух барака: «Подъем! Ауфштейн! Вылетай строиться!» Толкая друг друга и теряя колодки, мы побежали к выходу, стараясь не попасть под палку полицая.
Дождь перестал, но было сыро и пасмурно. Мы стали строиться лицом к бараку. Колодки засасывала размокшая земля. В отсеке находились только большой барак и уборная. За наружной проволокой лежало черное, прибитое дождем поле.
Полицейский выровнял строй. Минут через десять явился унтер-офицер. Стараясь не запачкать начищенные сапоги, прошелся вдоль строя. Отсекая стеком пятерки, пересчитал пленных и отметил в книжке. Полицейский распустил строй.
Наступил самый важный момент дня – раздача хлеба. В загородку рабочие внесли бачки с кофе и большую корзину с хлебом. Рабочий, под надзором полицейского, наливал пленному в подставленную посудину черпак эрзац-кофе. Другой рабочий отсчитывал семь человек и вручал последнему полуторафунтовый кирпичик хлеба. Хлеб по виду был гораздо хуже того, что мы получали в рабочем лагере. Семерка моментально отскакивала в сторону и начинала делить хлеб.
Происходило это так. На сухом месте расстилалась тряпочка и на нее клали хлеб. Все садились или присаживались на корточки. Находился резчик, обычно владелец ножа, изготовленного из расплющенного гвоздя. Некоторое время резчик, наклоняя голову направо и налево, примеривался, как лучше резать: сначала поперек, а затем вдоль, или же наоборот.
Осторожно, стараясь не крошить, разрезал хлеб на семь частей. После этого пайки дважды перевешивались на самодельных весах. Затем один из семерки отворачивался, а другой, дотрагиваясь пальцем до пайки, вопрошал: «Кому?» Отвернувшийся говорил: «Петру, Степану», – и т. д. Каждый мечтал о краюшке – она считалась более питательной.
Получив хлеб, пленный садился под барак и, держа пайку в ладонях, осторожно начинал есть. Покончив с хлебом и запив его тепловатым кофе, пленный начинал искать место, где бы спрятаться от холодного ветра. В барак уже не пускали. Там специальная команда производила уборку.
Лагерь с внешней стороны ограждали высокие столбы с густыми рядами колючей проволоки. По углам и посредине наружной стороны, видимой с нашего отсека, стояли вышки с часовыми. Время от времени за проволокой проходил солдат, ведя на ремне овчарку.
Кроме русских, в этом шталаге находились американцы, англичане, поляки и югославы. Излишне повторять, что хуже всех было нам, лишенным защиты и помощи международных организаций. Советская власть выдала нас на милость нацистских преступников.
Тяжесть нашего положения была не только в нашем полном бесправии, но и в абсолютном чувстве одиночества. Мы, русские, не поддерживали друг друга, как это делали французы, поляки, югославы. В массе своей, у русских пленных отсутствовало чувство спайки по национальному признаку. Оно было вытравлено всей шкурнической советской действительностью. О патриотизме и России вспомнили только, когда очутились над пропастью. Какая разница с дореволюционной Россией! Звучит сказкой забота царской семьи о раненых и пленных воинах, не говоря уже о помощи Красного Креста!
Съежившись и подняв воротники курток, пленные старались укрыться от ветра, казалось, дувшего со всех сторон сразу.
В углу двора уже действовал базар. Ассортимент предлагаемых товаров был обычен: несколько консервных банок с проволочными ручками; две-три самодельных деревянных ложки – товар излишний: суп легко выпивался из котелка, как чай; нож, изготовленный из гвоздя; спичечная коробочка окурков и несколько тряпок для портянок. Все это менялось на что-либо съестное: кусок брюквы, несколько мелких картошин или кусочек хлеба. Впрочем, курс хлеба стоял очень высоко, и хлеб редко когда менялся, разве что на курево заядлыми курильщиками.
Важное место в жизни пленного занимала уборная. Это было общественное место, где можно было узнать последние новости, лагерные и международные. Здесь бесплатно предлагались рецепты добычи огня самыми примитивными способами и средствами.
Прослушав новости, я пошел дальше. Мое внимание привлекли трое пленных, сидевших посреди двора. Подойдя ближе, я увидел, что они палочками вскапывают землю. Пленные, это были татары, охотно мне объяснили, что копают картофель. На месте нашего лагеря, может быть части его, несколько лет тому назад было картофельное поле. Пленные искали оставшиеся в земле картошины. Тут же они продемонстрировали добычу – несколько дурно пахнувших светло-серых мячиков, наполненных какой-то жидкостью. По словам татар, если эти бывшие картошины высушить, то получится крахмал, очень повышающий питательность супа.
Холод чувствовался сильнее. Он проникал отовсюду и леденил тело, не согретое ленивой кровью. Куда ни глянь – посиневшие заросшие лица со слезящимися глазами. Согбенные, дрожащие фигуры в огромных колодках со свисающими наружу грязными портянками… Не красит человека голод и холод!
Резко меняется и характер человека. Рождаются зависть и недоброжелательство. Человек легко плачет. Пленный – во всех отношениях неполноценный, усеченный человек. Он становится похожим на ту картошину, что выкапывали пленные татары.
К полудню лагерь начинает оживать и готовиться к получению баланды. Все лица обращаются к кухне, находившейся от нас через несколько секций. Вот из кухни понесли первые бачки. Но пройдет еще немало времени, пока очередь дойдет до нас.
Мы слоняемся по двору, как звери в клетке. Наконец, солдат отворяет ворота и в нашу секцию вносят бачки с супом. Мы выстраиваемся в шеренгу. Полицейский отсчитывает двадцать человек и вручает двум последним бачок с супом. Восемнадцать пленных сразу же хватаются за руки, чтобы никто не влез со стороны, и, как планетная система, совершают сложные движения вокруг бачка-солнца в поисках подходящего места для дележки супа. Найдя сухое место, все усаживаются вокруг бачка, ставят котелки и ревниво следят за дележкой. Каждому достается около полулитра жидкого брюквенного супа, часто с песком. Картошина в супе считается необычной удачей. Чтобы обмануть желудок, некоторые разбавляют суп водой. Но все равно, после обеда чувство голода не исчезает и хочется плакать от мысли, что еду получим только завтра утром.
Опять начинается бесцельное брожение вдоль стен барака. Кажется, время остановилось. Но всему бывает конец. В 6 часов снова черпак теплого кофе, построение, пересчитывание и долгожданный отбой.
Бараки в шталаге были большие и вмещали около 200 человек каждый. От входной двери до умывальника на противоположном конце барака шел широкий проход, по обе стороны которого стояли стандартные трехэтажные койки, сдвинутые по четыре. Невдалеке от входной двери возвышалась большая квадратная печь, сложенная из кирпича. Она обычно не топилась. Моя койка, если смотреть со стороны входной двери, находилась по левую сторону от прохода.
Рядом со мной на третьем этаже соседней койки лежал высокий и очень худой парень по имени Петр Пирогов. Родом из-под Вологды. Несмотря на свое северное происхождение, очень мерз. Но был он счастливчик в одном отношении – у него была шинель. Мы с Петей сразу сошлись и стали вести нескончаемые разговоры о прошлом и настоящем. Ночью мы спали на одной койке и укрывались Петиной шинелью. Одеял нам не было положено.
О себе Петя рассказал следующее: «Родители мои умерли в голодные годы после гражданской войны. Взял меня к себе дед. У деда был сад и пасека. Когда загнали в колхоз, дед остался пасечником. Был дед умел, и жили мы с ним получше других. Но пришел 37 год, пришили деду вредительство – злостное убийство пчелиной матки. Получил дед 10 лет дальних лагерей и навсегда исчез из деревни.
В ту пору был я уже трактористом. Скоро и в армию забрали. Прошел курсы и стал водителем тяжелого танка КВ. Когда началась война, наша часть стояла в Латвии. На второй день войны получили мы приказ двигаться к границе. Но тут открылось, что немцы уже обошли нас. Пошли мы на прорыв. В бою с немецкими танками мой КВ уничтожил несколько мелких немецких танков. Но вышло горючее, и я вместе с другими сдался в плен.
Собрали немцы нас несколько тысяч в молодом леске и огородили лесок проволокой. Кормили гнилой картошкой. Вываливали ее кучей у входа, а мы бросались на картошку и устраивали свалку на потеху немцам. Но нашлись среди нас люди, установившие порядок. Каждый стал получать свою порцию. Но что несколько порченых картошин для здорового мужика? Стали пленные слабеть. А тут и осень подошла – дождь, холод. Начали пленные разбиваться на пары и строить землянки. Землю копали котелками, палками, а то и просто руками. Зазубренными ложками или острым камнем резали еловый молодняк. Ствол шел на стропила, а ветки на крышу, ими же устилали пол. Через месяц стало голо в лагере – ни людей, ни деревьев. Только проволока вокруг.
Удивлялись немцы русскому уменью. Даже приезжали снимать для кинохроники.
Землянка спасала от холода и дождя, но от голода спасенья не было. Все меньше и меньше людей вылезало наружу за скудным пайком. Остались бы мы навечно лежать в землянках, но неожиданно пришло спасенье. Всех еще двигавшихся собрали и увезли в Германию. Так я и попал в Лимбургский шталаг.
Жизнь в шталаге тогда была не в пример тяжелей теперешней, и многие дошли уже здесь. Буханка хлеба тогда полагалась на десять человек. Правда, баланда была такая же. В уборную мы ходили с мучениями, раз в неделю, а то и реже.
Зверствовали немцы. Однажды в нашу загородку вошло крадучись трое солдат. Подошли они тихонько к пленному, стоявшему посередине двора. Схватили за руки и ноги и, раскачав, под команду „айнс-цвай-драй“ бросили его в открытую выгребную яму. Навернулась на него густая жижа, и скрылся он из вида – только пузыри пошли. Немцы шли к воротам веселые и только зыркали по сторонам.
Прошел слух, что и в других загонах такое же происходило. Тут пленные окончательно упали духом и уже не ожидали от германца ничего хорошего. Не стало пленным вовсе жизни. Смерть-то какая? Целый день сторожим – не идут ли немцы?
Спрашивали мы полицаев: – „Да что же они делают? Пленные же мы!“ – Молчали полицаи. Только один сказал: – „Не хотели, сволочи, воевать за советскую власть, понюхайте теперь немецкой!“
Зашел и переводчик в добротной комсоставовской форме. Обступили его пленные, спрашивают: – „Господин переводчик, что же с нами будет?“ – А он знал, конечно, о чем речь идет, может быть потому и пришел. Отвечает: – „Ребята, не бойтесь, то больше не повторится! Доложили коменданту, и он убрал солдат. А что с вами будет? Видите, уже почти все бараки заполнены. Подвезут еще немного – и начнут вас отправлять в рабочие лагеря. Там лучше будет!“
Так по-человечески и говорит. Пленные посмелели и дальше спрашивают: – „Что же германец над нами так издевается? Мы же пленные!“ – Засмеялся переводчик: – „Эх, ребята, от вас же собственное правительство отказалось! Никто вас знать не хочет! Ну, а немец есть немец: нужны вы ему – будет кормить, а нет – в гроб колом вгонит. Сами знаете! Это я между прочим говорю. А сейчас вы немцу даже очень нужны, работать в Германии некому – со всем светом ведь воюет!“
Поверили мы переводчику: уж очень откровенно говорил. Видно и переводчики разные бывают.
Потекла наша жизнь спокойней. И не соврал переводчик. Скоро стали приезжать хозяева и отбирать напиравших пленных. Дивились немцы – вот как русские рвутся работать! Но мы-то хотели поскорее уехать из этого страшного лагеря. А мне не повезло, попал я на литейный завод, и пришлось ко всему еще и тяжело работать…»
Таков сокращенный рассказ Пети. С тех времен навсегда решил он, что немец – абсолютное зло. Не родилось у него интереса к немецкой жизни и людям. В лагере умудрялся не замечать немцев. Трудно это, особенно, когда немец ходит с палкой… Иногда пел о какой-то Олите – лагере военнопленных в Латвии:
Олита, Олита, для нас ты печаль —
Одним своим словом пугаешь,
Ты тысячи русских, забытых судьбой,
Навеки во мрак провожаешь!
Медленно текли лагерные дни. Но прошло около двух недель, и их однообразное течение внезапно было нарушено событиями, оставившими глубокий след в памяти.
Барак был заполнен пленными. Здесь собрались люди из многих рабочих лагерей Прирейнской Германии. Однажды, когда свет в бараке погас – тушили его немцы в 8 часов вечера – и наружный фонарь проложил желтую дорожку от окна к печи, из густого мрака со стороны двери раздался спокойный голос: – «Товарищи, тише! Сейчас будет суд!» – Шум в бараке резко упал. В почти абсолютной тишине голос продолжал: – «Будем судить полицая за убийство своих товарищей-пленных!» – Насколько мне известно, это был первый суд (не самосуд) над тогда еще всесильными полицаями в Германии.
Голос продолжал: – «Я буду вести допрос, но судить его будете вы!» – И, повысив голос, приказал в темноту: – «Приведите полицая!» – Где-то на противоположной стороне барака послышался шум и голоса: – «Чего ты лезешь?» – «Иди, иди – там увидишь!» – Темные фигуры втолкнули в полосу света среднего роста пленного. Он, видимо, только что дремал и, щурясь от света, не мог сообразить, что с ним происходит. Видом он не отличался от других пленных, разве что был в шерстяных носках – роскошь, недоступная простому советскому пленному.
– Посадите его на печку! – приказал самозванный судья.
Фигуры завозились, подсаживая полицая. Теперь свет бил мимо лица полицая, но его силуэт был ясно виден. Полицай сидел, свесив ноги с печи, голова его доставала потолок.
– Как тебя звать? – спросил судья.
– Ну, Иван Пилипенко!
Трагизм положения все еще не доходил до его сознания. Судя по выговору, полицай был с Западной Украины. В 1939 г., по договору с Германией, Советский Союз оккупировал его родину, входившую в состав Польши. Молодые люди призывного возраста были взяты в Красную армию и в начале войны попали в плен. Немцы нередко ставили пленных с Западной Украины и из Белоруссии полицаями, переводчиками и поварами. Многие из них соревновались с немцами в жестокостях.
Суд продолжался.
– Был ты полицейским в кобленской команде Зюд?
– Ну, был!
– Кто знал там Ивана, пусть расскажет о его поведении.
– Я знаю его, я был вместе с ним, – послышался голос в глубине барака.
– Иди сюда и расскажи.
Темная фигура приблизилась к двери и начала рассказ.
– Иван был у нас в лагере полицейским. Зверь был, не человек! Он забил моего напарника Федора. Тот хотел получить вторую порцию баланды, а Иван увидел и начал его бить палкой по чем попало. А слабому человеку много ли надо? Умер Федор. Бил и других, выслуживался!
– Кто может подтвердить эти слова?
– Я, я, – раздалось несколько голосов, – точно так и было!
– Довольно, – сказал судья, – теперь пусть скажет Иван – было это или нет?
– Да я его только раз и ударил, – дрожащим голосом проговорил полицай, – немцы приказали бить того, кто лезет в другой раз!
– Так! – сказал прокурор. – Кто хочет сказать слово в защиту полицая?
Барак молчал. Подождав минуту, судья сказал:
– Виновен ты, Иван, в убийстве своего брата пленного. Теперь пусть народ решит, что с тобой делать!
– Кто за то, чтобы отпустить полицая?
– Я, я, – отпусти его! – голоса были отрывочны: боялись себя выдать.
– Кто за то, чтобы казнить Ивана?
Многоголосно грохнул барак:
– Казнить его! Бить его, суку, в темную!
С десяток фигур подскочило к печке и стащило упиравшегося полицая вниз. Страшным голосом закричал полицай и не докричал. Накинули на него матрац, били колодками, досками, ногами. Глухие удары и топот продолжались очень долго. Безжизненное тело полицая вытащили и бросили на цементный пол умывальника.
Долго перешептывался барак. Судья остался невидим и неосязаем. Его спокойный и властный голос никак не вязался с обликом пленного.
Утром, как обычно, унтер считал пленных, – одного не хватало. Три полицая сворой бросились в барак. Прибежав, сообщили: – «Ein krank!» Унтер записал в книжку и ушел.
Я, получив хлеб, но даже не съев его, бросился искать судью. Два раза обошел двор, внимательно вглядываясь в лица. Они все были обычные, пленные как пленные.
Утром полицай ожил. Он сидел на полу в умывальнике, прислонившись к стенке, черный, опухший, и смотрел в одну точку. Какая-то милосердная душа в обед поставила ему котелок с супом – полицай не пошевелился. Вечером его забрали в санчасть. А через несколько дней прошел слух – умер полицай.
Вечером обсуждали событие. Не все были за его казнь. Пожилой пленный на нижней койке говорил соседу:
– Ты посмотри и его сторону. Мы пришли, незваные-непрошеные, и начали людей тасовать. Я видел, как зимой, в лютую погоду, в открытых вагонах везли «врагов народа» в Сибирь: женщин, стариков и детей. Как ты думаешь, сколько их доехало? Может быть, и его родные там были. Вот он и запомнил и ждал своего часа, чтобы отомстить москалям. А когда немец дал ему палку, он и стал мстить. А кому? Тебе и мне. Уму него работал, как у тебя. Он мстил тебе, а ты ему! А виноват кто? Сам знаешь! Они за народной спиной прячутся и радуются, что мы друг другу горло перегрызаем!
Чего греха таить! Суд над полицаем переломил что-то в людях. Стал пропадать страх не только перед полицаями, но и перед немцами. Невидимыми путями наши чувства передались полицаям. Те вдруг притихли и присмирели!
После судили и били еще двух полицаев.
Было ясно, что суд был тщательно подготовлен группой людей не советской ориентации. Советская агентура повсеместно стремилась к ухудшению положения «изменников родины», а не облегчению их жизни в плену.
После месячного пребывания в лагере начали приезжать представители различных фирм и набирать пленных в рабочие команды. Мы с Петром увиливали, твердо решив попасть на сельскохозяйственные работы. Там хоть и нелегкая работа, но зато голодным не будешь. Всегда есть, что стащить. Но когда в бараке осталась только четвертая часть людей, всех вдруг загнали на литейный завод – тот самый, где Петр работал раньше. Упали наши сердца. Что может быть хуже литейного завода? Разве что шахта!


![Книга Занзибар, или Последняя причина (Сборник) [Занзибар, или Последняя причина • Рыжая • Вишни свободы] автора Альфред Андерш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-sbornik-zanzibar-ili-poslednyaya-prichina-ryzhaya-vishni-svobody-257365.jpg)



