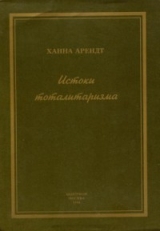
Текст книги "Истоки тоталитаризма"
Автор книги: Ханна Арендт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 49 страниц)
Несомненно, опасность такого развития была внутренне присуща структуре национального государства с самого начала. Но в той мере, в какой становление национальных государств совпадало с формированием конституционного правления, они всегда представляли закон и опирались на правление закона, противопоставляемое правлению произвольной администрации и деспотизму. Поэтому, когда нарушилось шаткое равновесие между нацией и государством, между национальными интересами и правовыми институтами, разложение правовой формы правления и организации народов пошло с ужасающей быстротой. Любопытно, что ее разложение началось как раз в тот момент, когда право на национальное самоопределение было признано по всей Европе и когда стало всеобщим убеждение, лежащее в его основе: верховенство воли нации над всеми правовыми и «абстрактными» институтами.
Во время появления договоров о меньшинствах в их пользу могло быть и было сказано, как бы в порядке извинения за них, что старейшие нации имели конституции, которые скрыто или явно (как в случае Франции, этой nation par excellence) основывались на принципе прав человека, что если даже внутри их границ находились другие народности – для них не нужны были никакие дополнительные законы и что только в новосозданных государствах-преемниках принудительное проведение в жизнь прав человека было временно необходимым в качестве компромиссной и исключительной меры.[628]628
«Режим защиты меньшинств был выработан как вспомогательное средство в случаях, где территориальное устроение неизбежно оказывалось несовершенным с точки зрения Национальной принадлежности» (Roucek J. The minority principle as a problem of political science. Prague, 1928. P. 29). Осложнения таились в том, что несовершенство территориального устроения оборачивалось ошибкой не только при расселении меньшинств, но и при образовании самих государств-преемников, поскольку в этом регионе не было территории, на которую не могли бы притязать сразу несколько национальностей.
[Закрыть] Появление безгосударственных людей положило конец этой иллюзии.
Меньшинства были только наполовину безгосударственными; de jure они принадлежали к какому-то политическому организму, даже если нуждались в дополнительной защите в форме специальных договоров и гарантий; некоторые вторичные права, как право говорить на своем языке и оставаться в своем культурном и социальном окружении, были в опасности и незаинтересованно охранялись каким-то внешним органом; но другие, более элементарные и основные права как право на выбор места жительства и работу, оставались неприкосновенными. Создатели договоров о меньшинствах не предвидели возможности массовых перемещений населения или проблемы «недепортируемого» народа, потому что на земле не было страны, в которой он пользовался бы правом проживания. Меньшинства еще можно было считать исключительным явлением, свойственным определенным территориям, отклонившимся от нормы. Этот аргумент всегда был соблазнительным, ибо оставлял в неприкосновенности саму систему. В известном смысле он пережил вторую мировую войну, после которой миротворцы, убедившиеся в бесполезности договоров о меньшинствах, начали «репатриировать» как можно больше национальностей в попытке разобрать на составные части беспокойный «пояс смешанного населения».[629]629
Почти символическое свидетельство этой перемены в умах можно найти в высказываниях Эдуарда Бенеша, президента Чехословакии, единственной страны, которая после первой мировой войны доброжелательно подчинилась обязательствам, налагаемым договорами о меньшинствах. Вскоре после начала второй мировой войны Бенеш стал склоняться к поддержке принципа перемещения населения, который в конце концов вел к изгнанию немецкого меньшинства и к прибавлению еще одной категории к растущей массе перемещенных лиц. О позиции Бенеша см.: Janowsky О. J. Nationalities and national minorities. N.Y., 1945. P. 136 ff.
[Закрыть] И эта крупномасштабная репатриация не была прямым результатом катастрофического опыта, сопровождавшего договоры о меньшинствах; скорее, она выражала надежду, что такой шаг окончательно решит проблему, которая в предыдущие десятилетия принимала все более грозные размеры и для которой просто не существовало международно признанной и принятой процедуры, – проблему людей без государства.
Безгосударственность, это новейшее массовое явление в современной истории, существование некоего нового постоянно растущего в числе народа, состоящего из лиц без государства, этой самой симптоматичной группы в современной политике,[630]630
«Проблема безгосударственности выдвинулась на передний план после великой войны. До войны в некоторых странах, и что особенно примечательно – в Соединенных Штатах, существовали постановления, по которым натурализация (принятие в гражданство) могла быть аннулирована в тех случаях, когда натурализованное лицо отказывалось хранить честную верность принявшей его стране. Денатурализованное таким образом лицо становилось безгосударственным. Во время войны ведущие европейские государства нашли необходимым исправить свои законы о национальности так, чтобы иметь власть отменять натурализацию» (Simpson J. Н. The refugee problem. Institute of International Affairs. Oxford, 1939. P. 231). Класс лиц без государства, созданный отменами натурализации, был очень мал. Но он установил легкоповторимый прецедент, так что в межвоенный период натурализованные граждане становились, как правило, первой категорией безгосударственного населения. Массовому лишению прав натурализации, вроде введенного нацистской Германией в 1933 г. закона против всех натурализованных немцев еврейского происхождения, обычно предшествовали денационализация граждан из-за рождения в подобных группах и введение законов, делавших денатурализацию возможной по простому указу, подобно законам 30-х годов в Бельгии и других западных демократиях, предваривших действительную массовую денатурализацию. Хороший пример этого дает практика греческого правительства в отношении армянских беженцев: из 45 тысяч армянских беженцев между 1923 и 1928 гг. были натурализованы одна тысяча человек; после 1928 г. закон, который натурализовал бы всех беженцев моложе 22 лет, был приостановлен, а в 1936 г. правительство отменило все натурализации (см.: Simpson J. Op. cit. P. 41).
[Закрыть] представляла собой проблему, и более трудноразрешимую практически и более грозную по отдаленным последствиям, чем просто проблема меньшинств. Едва ли можно возложить вину за существование безгосударственного люда только на одну причину. Если брать различные группы среди безгосударственников, то покажется, что каждое политическое событие с конца первой мировой войны неуклонно добавляло новую категорию лиц к тем, кто жил вне защиты закона, причем ни одна из этих категорий, независимо от того, как менялось первоначальное стечение обстоятельств, никогда не могла возвратиться в нормальное состояние.[631]631
Спустя 25 лет после того как советский режим лишил гражданства полтора миллиона россиян, по меньшей мере от 350 тысяч до 450 тысяч из них все еще оставались безгосударственными, и это дает огромный процент, если принять во внимание, что со времени начала исхода сменилось целое поколение, что значительная их доля уехала за океаны и что другая существенная часть приобрела гражданство в различных странах благодаря бракам (см.: Simpson J. Op. cit. P. 559; Kulischer E. M. The displacement of population in Europe. Monreal, 1943; Hadsel W. N. Can Europe's refugees find new homes? // Foreign Policy Reports. August 1943. Vol. 10. No. 10).
Правда, Соединенные штаты принимали безгосударственных иммигрантов на началах полного равенства с другими иностранцами, но это было возможно только потому, что страна иммигрантов по преимуществу всегда рассматривала новоприбывших как своих перспективных граждан независимо от их прежней национальной принадлежности.
[Закрыть]
Среди таких категорий мы все еще нашли бы старейшую группу безгосударственного населения, Heimatlosen, созданную мирными договорами 1919 г., распадом Австро-Венгрии и образованием прибалтийских государств. Иногда их действительное происхождение нельзя было установить, особенно если в конце войны им случалось жить не там, где они родились;[632]632
The American Friends Service Bulletin (General Relief Bulletin. March 1943) печатает озадачивающее сообщение одного из своих полевых работников в Испании, столкнувшегося с проблемой «человека, который рожден в Берлине, в Германии, но считается поляком по происхождению из-за своих польскоподданных родителей, поэтому становится апатридом, лицом без гражданства, однако настаивает на своей украинской национальности и на него притязает русское правительство с целью его репатриации и последующей службы в Красной Армии».
[Закрыть] иногда место их происхождения столько раз переходило из рук в руки в превратностях послевоенных споров, что национальность его обитателей менялась из года в год (как в Вильно, который некий французский чин однажды назвал la capitale des араtrides); и гораздо чаще, чем можно бы подумать, люди после первой мировой войны искали спасения в безгосударственности, чтобы остаться там, где они жили, и избежать депортации в «родную страну», где они были бы чужими (так поступали многие польские и румынские евреи во Франции и Германии, милостиво поощряемые соответствующими антисемитски настроенными консульствами).
Явление само по себе незначительное, казавшееся просто правовой причудой, апатрид получил запоздалое внимание, когда по своему правовому статусу присоединился к послевоенным беженцам, вытесненным из своих стран революциями и срочно «денационализированным» победоносными правительствами у себя дома. В хронологическом порядке к данной группе принадлежали миллионы русских, сотни тысяч армян, тысячи венгров, сотни тысяч немцев и более полумиллиона испанцев – если перечислять только самые важные категории. Сегодня поведение этих правительств может показаться естественным следствием гражданской войны, но в то время массовые денационализации были чем-то совершенно новым и непредвиденным. Они предполагали государственную структуру, которая, если и не была еще полностью тоталитарной, по меньшей мере не стала бы терпеть какую-либо оппозицию и скорее согласилась бы потерять своих граждан, чем оберегать людей с различными взглядами. Более того, эти денационализации обнажили то, что было скрыто на протяжении истории национального суверенитета, а именно, что суверенитеты стран-соседей могли вступать в смертельный конфликт не только в крайностях войны, но и в мирное время. Отныне стало ясным, что полный национальный суверенитет был возможен, только пока существовало взаимное признание прав среди европейских наций. Именно этот дух стихийной солидарности и согласия предотвращал применение любым правительством своей полной суверенной власти. Теоретически в сфере международного права всегда считалось истиной, что суверенитет нигде так не абсолютен, как в делах «эмиграции, натурализации, изгнания и определения национальности».[633]633
См.: Preuss L. La denationalisation imposee pour des motifs politiques // Revue Internationale Francaise du Droit des Gens. 1937. Vol. 4. No. 1, 2, 5.
[Закрыть] Но тонкость в том, что практический учет и молчаливое признание общих интересов ограничивали национальный суверенитет, пока не появились тоталитарные режимы. Возникает соблазн чуть ли не измерять степень тоталитарного заражения степенью, в какой заинтересованные правительства используют свое суверенное право на денационализацию (и в этой связи очень интересно узнать, что муссолиниевская Италия сильно противилась такому обращению со своими беженцами).[634]634
Итальянский закон 1926 г. против «враждебной эмиграции», казалось, предвещал меры денатурализации против беженцев-антифашистов. Однако после 1929 г. политика денатурализации была оставлена и стали создаваться фашистские заграничные организации. Из 40 тысяч членов Союза итальянского народа (Unione Popolare Italiana) во Франции по меньшей мере 10 тысяч были подлинными антифашистскими беженцами, но только 3 тысячи человек не имели паспортов (см.: Simpson J. Op. cit. P. 122 ff.).
[Закрыть] В то же время надо иметь в виду, что на Европейском континенте вряд ли осталась страна, не принявшая между двумя войнами какого-то нового законодательства, которое, если даже и не применяло широко этого права, всегда было сформулировано так, что позволяло ей избавиться от большого числа своих обитателей в любой удобный момент.[635]635
Первым законом этого типа была французская военная мера 1915 г., которая затронула только натурализованных граждан вражеского происхождения, сохранивших свою первоначальную национальность. Гораздо дальше пошла Португалия в декрете 1916 г., коим автоматически исключала из гражданства всех лиц, рожденных от немецкого отца. Бельгия в 1922 г. приняла закон, который отменял натурализацию лиц, совершивших антинациональные действия во время войны, и подтвердила его новым декретом в 1934 г., в характерной туманной манере того времени говорившим о лицах «manquant gravement a leurs devoirs de citoyen belge». В Италии с 1926 г. могли быть лишены гражданства все лица, «недостойные итальянского гражданства» или угрожающие общественному порядку. Египет в 1926 г. и Турция в 1928 г. издали законы, согласно которым могли быть лишены гражданства люди, представлявшие угрозу общественному порядку. Франция угрожала денатурализацией тем из своих новых граждан, кто действовал против интересов Франции (1927 г.). Австрия в 1933 г. могла лишить австрийской национальности любого из своих граждан, кто служил в иностранных армиях или участвовал за границей в действиях, враждебных Австрии. Наконец, Германия в 1933 г. очень близко следовала разным русским указам после 1921 г., постановляя, что все лица, «проживающие за границей», когда угодно могут быть лишены немецкой национальности.
[Закрыть]
Ни один из парадоксов современной политики не скопил в себе столько ядовитой иронии, как расхождение между стараниями благонамеренных идеалистов, упрямо отстаивающих «неотчуждаемость» тех прав человека, коими наслаждаются лишь полноправные граждане самых процветающих и цивилизованных стран, и действительным положением бесправных людей. Оно упрямо ухудшалось, пока лагерь для интернированных (до второй мировой войны для безгосударственных скорее исключение, чем правило) не стал рутинным решением проблемы местопребывания «перемещенных лиц».
Даже терминология, применяемая к безгосударственным, ухудшилась. Термин «безгосударственные» по крайней мере признавал факт, что данные лица лишились защиты своего правительства и нуждались в международных соглашениях для обеспечения своего правового статуса. Распространившийся после войны термин «перемещенные лица» изобрели во время войны, выразив стремление раз и навсегда ликвидировать безгосударственность, просто игнорируя ее существование. Непризнание безгосударственности всегда означает репатриацию, т. е. депортацию в страну происхождения, которая либо отказывается признать будущего репатрианта своим гражданином, либо, напротив, страстно желает вернуть его себе для наказания. Поскольку нетоталитарные страны, несмотря на их дурные намерения, внушенные атмосферой войны, в общем уклонились от массовых репатриаций, то число безгосударственных людей теперь, через 12 лет после окончания войны, стало больше, чем когда-либо. Решение государственных мужей покончить с проблемой безгосударственности, намеренно не замечая ее, дополнительно разоблачается отсутствием какой-либо надежной статистики по предмету. Многое, однако, известно: хотя имеется всего 1 миллион официально «признанных» безгосударственными, насчитывается более 10 миллионов так называемых de facto безгосударственных; и если относительно безобидная проблема de jure безгосударственных время от времени возникает на международных конференциях, то о главном в трагедии безгосударственности, равносильном вопросу о беженцах, даже не упоминается. Еще хуже, что число потенциально безгосударственных людей постоянно растет. До последней войны только тоталитарные или полутоталитарные диктатуры прибегали к оружию денатурализации против тех, кто были гражданами по рождению. Теперь мы дошли до точки, когда даже свободные демократии, как, например, США, всерьез обсуждают вопрос о лишении коренных американцев-коммунистов их гражданства. Зловещая особенность всех этих мер в том, что их считают совершенно невинными. Но стоит только вспомнить нацистов, постановивших: все евреи немецкой национальной принадлежности «должны быть лишены гражданства или заранее, или, самое позднее, в день депортации»[636]636
Цитата взята из приказа гауптштурмфюрера Даннекера от 10 марта 1943 г. и относится к «депортации 5 тысяч евреев из Франции по квоте 1942 г.». Документ (фотокопия в Centre de Documentation Juive в Париже) – часть документов Нюрнбергского процесса, No. RF 1216. Те же постановления были задействованы против болгарских евреев. Ср. там же: аналогичный меморандум Л. Р. Вагнера от 3 апреля 1943 г., документ No. NG 4180.
[Закрыть] (для немецких евреев такой указ был не нужен, ибо в Третьем рейхе существовал закон, согласно которому все евреи, покидавшие данную территорию – включая, конечно, депортируемых в некий польский лагерь, – автоматически теряли свое гражданство), чтобы постигнуть истинные последствия феномена безгосударственности.
Первый мощный удар национальным государствам в результате наплыва сотен тысяч людей без государства нанесла отмена права убежища, единственного права, что еще числилось символом Прав Человека в сфере международных отношений. Его долгая, освященная обычаями история восходит к самым истокам упорядоченной политической жизни. С древних времен оно охраняло и беглеца, и место его спасения от обстоятельств, в которых люди оказывались вне закона не по своей вине. Оно было единственным современным остатком средневекового принципа quid quid est in territorio est de territorio, ибо во всех других случаях современное государство проявляло склонность опекать своих граждан за пределами собственных границ и обеспечивать посредством взаимных договоров, чтобы они подчинялись законам своей страны. Но хотя право убежища продолжало действовать в мире, организованном в систему национальных государств, и в отдельных случаях даже пережило обе мировые войны, оно воспринималось как анахронизм и конфликтовало с международными правами государств. Поэтому его нельзя найти ни в одном писаном законе, конституции или международном соглашении, и Устав Лиги Наций никогда не упоминал даже чего-то похожего на него.[637]637
Чайлдз (Childs S. L. Op. cit.) сожалеет о том, что Устав Лиги Наций не содержал «никаких льгот для политических беженцев и мер помощи изгнанникам». Самая последняя попытка ООН добиться улучшения их правового статуса (по крайней мере для малой части безгосударственных, так называемых de jure безгосударственных) оказалась не более чем простым жестом, а именно попыткой созвать представителей по меньшему счету двадцати государств, но с явной гарантией, что участие в такой конференции не повлечет никаких обязательств. Даже при таких условиях оставалось крайне сомнительным, можно ли будет созвать эту конференцию (см. раздел новостей в «New York Times» 17 октября 1954 г. Р. 9).
[Закрыть] В этом отношении право убежища разделяет судьбу Прав Человека, которые также никогда не были законом, но вели несколько призрачное существование в качестве призыва учитывать отдельные исключительные случаи, для которых нормальные правовые институты недостаточны.[638]638
Единственными хранителями права убежища оказались немногие общественные организации с особой нацеленностью на защиту прав человека. Наиболее важная из них, финансируемая Францией Ligue des Droits de l'Homme с отделениями во всех демократических странах Европы, вела себя так, словно речь все еще шла просто о спасении отдельных людей, преследуемых за их политические убеждения и деятельность. Эта предпосылка, бессмысленная уже в случае миллионов русских беженцев, стала просто абсурдом для евреев и армян. Лига ни идеологически, ни административно не была оснащена, чтобы справиться с новыми проблемами. Поскольку она не хотела прямо взглянуть на новую ситуацию, то застряла на функциях, которые гораздо лучше исполняло любое из многих благотворительных учреждений, созданных самими беженцами с помощью соотечественников. Когда Права человека стали знаменем особенно неэффективной благотворительной организации, сама идея этих прав, естественно, была дискредитирована еще больше.
[Закрыть]
Вторым сильным ударом, полученным европейским миром от наплыва беженцев,[639]639
Многообразные усилия юристов упростить проблему, проведя различие между лицом без государства и беженцем вроде того, что «статус лица без государства определяется фактом отсутствия у него какой-либо национальности, тогда как статус беженца определяется утратой дипломатической защиты» (Simpson J. Op. cit. P. 232), всегда терпели поражение, ибо «для практических целей все беженцы безгосударственны» (Ibid. Р. 4).
[Закрыть] было осознание невозможности избавиться от них или превратить в националов страны-убежища. Изначально все соглашались, что было только два пути решить проблему: репатриация либо натурализация.[640]640
Наиболее издевательскую формулировку этого всеобщего ожидания дал Jennings R.Y. Some international aspects of the refugee question // British Yearbook of International Law. 1939: «Статус беженца, конечно, не является постоянным. Цель в том, что он должен как можно скорее избавиться от этого статуса – либо путем репатриации, либо путем натурализации в стране, предоставившей убежище».
[Закрыть] Когда опыт первых русских и армянских волн эмиграции показал, что ни один путь не дал существенных результатов, принимающие страны просто отказались признавать безгосударственный статус за всеми новоприбывающими, тем самым делая положение беженцев еще более невыносимым.[641]641
Только русские, во всех отношениях аристократия безгосударственного люда, и армяне, приравненные по статусу к русским, всегда официально признавались «безгосударственными» под опекой Нансеновской миссии Лиги Наций, выдавшей им проездные документы.
[Закрыть] С точки зрения заинтересованных правительств было достаточно понятно, что им надо придерживаться памятки Лиги Наций «о как можно более скором свертывании ее работы с беженцами».[642]642
Childs S. L. Op. cit. Причиной этой отчаянной попытки ускорения был страх всех правительств, что даже малейший поощрительный жест «мог бы побудить некоторые страны избавляться от нежелательных людей и что могут эмигрировать многие из тех, кто в ином случае остался бы в своих странах даже при серьезных ограничениях прав» (Holborn L. W. The legal status of political refugees, 1920-38 // American Journal of International Law. 1938).
См. также: Mauco G. (Esprit. 7e annee. No. 82. Juillet 1939. P. 590): «Приравнивание немецких беженцев к статусу других беженцев, которых опекала Нансеновская миссия, естественно, было бы простейшим и наилучшим решением для самих немецких беженцев. Но правительства не хотели распространять уже данные привилегии на новую категорию беженцев, которая вдобавок угрожала неопределенно разрастаться».
[Закрыть] Эти правительства имели много причин опасаться, что все исторгнутые из прежнего единства: государство – народ – территория, которое еще составляло основу европейской организации и политической цивилизации, были лишь началом разрастающегося движения, лишь первой струйкой из постоянно пополняемого резервуара. Очевидно, и это признала даже Эвианская конференция 1938 г., что все немецкие и австрийские евреи были потенциально безгосударственными; и было только естественным, что все страны с национальными меньшинствами, вдохновленные примером Германии, попытались использовать те же методы для избавления от некоторых из своих меньшинств.[643]643
К 600 тысячам потенциально безгосударственных евреев в Германии и Австрии в 1938 г. надо добавить евреев Румынии (ибо президент Румынской федеральной комиссии по делам меньшинств проф. Драгомир как раз тогда объявил миру о грядущем пересмотре гражданства всех румынских евреев) и Польши (министр иностранных дел которой, Бек, официально заявил, что для Польши иметь 1 миллион евреев – это слишком много). См.: Simpson J. Op. cit. P. 235.
[Закрыть] Среди меньшинств наибольшей опасности подвергались евреи и армяне, которые вскоре и дали самую высокую долю безгосударственных. Их опыт также показал, что договоры о меньшинствах не обязательно служили защите, но могли послужить и инструментом обособления определенных групп для последующего изгнания.
Почти столь же пугающим, как эти новые опасности из старых беспокойных очагов Европы, был совершенно новый род поведения всех европейских националов в «идеологических» войнах. Кроме людей, выброшенных из своей страны и лишенных гражданства, во всех странах, включая западные демократии, появлялось все больше и больше добровольных охотников сражаться в гражданских войнах за границей (до того нечто подобное делали лишь немногие идеалисты или авантюристы), даже когда это означало для них разрыв со своими национальными сообществами. Таков был урок гражданской войны в Испании и одна из причин, почему западные правительства так испугались Интернациональной бригады. Дела обстояли бы не так уж плохо, если бы все это означало, что люди больше не цепляются за свою национальность и готовы в дальнейшем влиться в другое национальное сообщество. Но это был совсем не тот случай. Безгосударственные лица уже успели показать изумляющую стойкость в удержании своей национальности; в любом смысле беженцы представляли собой разделенные иностранные меньшинства, которые часто и не заботились о получении гражданства, никогда не объединялись (как делали настоящие меньшинства), чтобы оборонять общие интересы.[644]644
Трудно решить, что было первым: нежелание национальных государств натурализовать беженцев (практика натурализации становилась все более ограниченной, а практика денатурализации – все более обычной по мере наплыва беженцев) или нежелание беженцев принять другое гражданство. В странах, имевших меньшинства, как Польша, беженцы (русские и украинцы) проявляли определенную склонность к ассимиляции с существующими меньшинствами без каких-либо требований польского гражданства (см.: Simpson J. Op. cit. P. 364).
Поведение русских беженцев очень характерно. Нансеновский паспорт описывал его обладателя как "Personne d'origine russe", потому что "никто не осмелился бы сказать русскому эмигранту, что он лицо без национальности или сомнительного национального происхождения" (см.: Vichniac М. Le statut international des apatrides // Recueil des Cours de l'Academie de Droit International. Vol. 33. 1933). Попытка снабдить всех безгосударственных персон единообразными удостоверениями личности встретила очень сильные протесты владельцев нансеновских паспортов, которые претендовали, чтобы их Паспорт был «знаком правового признания их особого положения» (см.: Jermings R. Op. cit.). До начала последней войны даже беглецы из Германии были далеки от желания раствориться в массе безгосударственных, предпочитая описание «refugie provenant d'Allemagne» с сохранением национальности.
Убедительнее жалоб европейских стран на трудности ассимиляции беженцев звучат высказывания из-за океанов, согласные с первыми, что "из всех классов европейских иммигрантов наиболее трудно ассимилируются южные, восточные и центральные европейцы" (см.: Canada and the doctrine of peaceful changes / Ed. by H. F. Angus // International Studies Conference: Demographic Questions: Peaceful Changes. 1937. P. 75–76).
[Закрыть]
Интернациональная бригада была организована в национальные батальоны, где немцы чувствовали, что они сражаются против Гитлера, итальянцы – против Муссолини, точно так же как несколькими годами позже, во времена Сопротивления, испанские беженцы ощущали себя борцами с Франко, когда помогали Франции против режима Виши. Особенно боялись европейские правительства в этом процессе того, что о новых безгосударственных людях больше нельзя было говорить, будто они какой-то неопределенной или сомнительной национальности (de nationality indeterminee). Если даже они отказывались от своего гражданства, не сохраняли верности и связи со страной их происхождения и не отождествляли своей национальности с реальным, полноправным правительством, они сохраняли сильную привязанность к своей национальности. Отколовшиеся от своих национальные группы и меньшинства, без глубоких корней в земле проживания, без всякого законопослушания или обязательства по отношению к государству, перестали быть признаком только Востока. Отныне они просочились в виде беженцев и лиц без государства в старые национальные государства Запада.
Действительные трудности начались, как только были опробованы два общепризнанных средства: репатриация и натурализация. Меры репатриации, естественно, проваливались, когда не находилось страны, куда могли быть депортированы эти люди. Они проваливались не из-за особого уважения к лицам без государства (как может показаться сегодня, когда Советская Россия требует назад своих бывших граждан, и демократические страны должны защищать их от репатриации, которой они не желают) и не из-за гуманных чувств стран, наводненных беженцами, а потому, что ни страна происхождения, ни любые другие страны не соглашались принять безгосударственное лицо. Может показаться, что сама недепортируемость этого лица должна была предотвращать его высылку правительством. Но поскольку человек без государства был «аномалией, для коей не существовало подходящей ниши в здании общего права»,[645]645
Jermings R. Op. cit.
[Закрыть] был, по определению, человеком вне закона, то он полностью отдавался на милость полиции, обычно не очень-то боявшейся совершить несколько незаконных актов, чтобы уменьшить для своей страны груз indesirables.[646]646
Циркуляр нидерландских властей от 7 мая 1938 г. явно смотрел на каждого беженца как на «нежелательного иностранца» и определял беженца как «иностранного подданного, который покинул свою страну под давлением обстоятельств» (см.: L'Emigration, probleme revolutionnaire // Esprit. 7e annee. No. 82. Juillet 1939. P. 602).
[Закрыть] Иными словами, государство, настаивая на своем суверенном праве изгонять и высылать, самой внезаконной природой феномена безгосударственности было втянуто в совершение заведомо незаконных актов.[647]647
Лоран Прэсс (Preuss L. Op. cit.) описывает цепочку беззакония следующим образом: «Первоначальный незаконный акт правительства, лишающего кого-то национальности… ставит высылающую страну в положение нарушителя международного права, ибо ее власти взламывают закон страны, в которую выдворяют безгосударственное лицо. Вторая страна, в свою очередь, не может избавиться от него иначе, как нарушая… закон третьей страны… Само лицо без государства стоит перед такой альтернативой: либо он нарушает закон страны, где живет… либо он нарушает закон страны, в которую выслан».
Сэр Джон Фишер Уильяме (Williams J. F. Denationalisation // British Year Book of International Law. 7. 1927) заключает из этого, что лишение национальности противно Международному праву. И все же на Conference pour la Codification du Droit International 1930 г. в Гааге только правительство Финляндии настаивало, что «лишение национальности… ни в коем случае не должно быть наказанием… и не должно провозглашаться с целью избавиться от нежелательного лица путем высылки за границу».
[Закрыть] Оно сплавляло свою проблему безгосударственных в соседние страны, а те отплачивали тем же. Идеальное решение проблемы репатриации – вернуть беженца назад в страну его происхождения – было успешным лишь в исключительных случаях отчасти потому, что нетоталитарную полицию еще сдерживали остаточные этические соображения, отчасти потому, что лицо без государства точно так же могли выкинуть из его родной страны, как из любой другой, и последнее, но по значению не самое маленькое – потому, что все эти перемещения людей можно было бесконечно продолжать только с соседними странами. Следствием такой человеческой контрабанды были малые войны между полициями на границах, явно не способствовавшие добрым международным отношениям, и накопление тюремных приговоров для лиц без государства, которые с помощью полиции одной страны «нелегально» переходили на территорию другой.
Любая попытка на международных конференциях установить какой-то правовой статус для людей без государства проваливалась, ибо ни одно соглашение не могло заменить территорию, куда в рамках существующего закона следовало бы депортировать чужака. Все дискуссии по проблеме беженцев вращались вокруг одного вопроса: как сделать беженца снова депортируемым? Не нужны были вторая мировая война и лагеря перемещенных лиц, дабы показать всем, что единственной практической заменой несуществующему отечеству стал лагерь интернированных. В самом деле, уже в 30-х годах это была единственная «страна», которую мир предлагал людям без государства.[648]648
Чайлдз (Childs S. Op. cit.) после печального вывода, что «истинная трудность в принятии беженца в том, что если он оказывается дурным человеком… то нет путей избавления от него», предложил «переходные центры», в которые беженеца могли вернуть даже из-за границы и которые, так сказать, должны были заменять родину при осуществлении депортации.
[Закрыть]
Натурализация тоже провалилась. Вся ее система в европейских странах распалась, когда столкнулась с безгосударственными людом, и точно по тем же причинам, по которым отмерло право убежища. В сущности, натурализация была придатком к законодательству национального государства, которое считалось только с националами, людьми, рожденными на его территории и гражданами по рождению. Натурализация требовалась в исключительных случаях для единичных индивидов, кому обстоятельства позволяли въезжать на иностранную территорию. Вся эта процедура нарушилась, когда встал вопрос о массовом применении натурализации.[649]649
Два случая массовой натурализации на Ближнем Востоке были явно исключительными: один охватил греческих беженцев из Турции, которых правительство Греции в 1922 г. натурализовало всех разом, потому что фактически это был вопрос о репатриации греческого меньшинства, а не иностранных граждан; второй помог армянским беженцам из Турции в Сирии, Ливане и других странах прежней Османской империи, т. е. коснулся населения, с которым Ближний Восток всего несколько лет назад разделял общее гражданство.
[Закрыть] Даже с чисто административной точки зрения ни одна европейская гражданская служба, вероятно, не смогла бы справиться с проблемой. Вместо натурализации, по крайней мере малой доли новоприбывших, эти страны начали отменять более ранние принятия в гражданство, частично из-за общей паники и частично потому, что наплыв больших масс новых беженцев действительно изменил и так всегда ненадежное положение натурализованных граждан того же происхождения.[650]650
Там, где волна беженцев находила людей своей национальности, уже успевших осесть в стране их эмиграции (как было, например, с армянами и итальянцами во Франции и с евреями повсюду), наблюдалось известное попятное движение от уже достигнутого уровня ассимиляции тех, кто давно жил в новой стране, поскольку их солидарность и помощь можно было пробудить, только взывая к первичной национальности, общей у них с новоприбывшими. В этом прямо были заинтересованы страны, затопляемые беженцами, но неспособные или не желающие предоставить им непосредственную помощь или право на работу. Во всех таких случаях национальные чувства более старых групп оказывались «одним из главных факторов в успешном устроении беженцев» (Simpson J. Op. cit. P. 45–46), но, призывая к подобному национальному сознанию и солидарности, принимающие страны, естественно, увеличивали число неассимилированных чужаков. Если взять один особенно интересный случай, то, 10 тысяч итальянских беженцев оказалось достаточно, чтобы отложить на неопределенное время ассимиляцию почти 1 миллиона итальянских иммигрантов во Франции.
[Закрыть] Отмена натурализации или введение новых законов, прилагавших путь для массовой денатурализации,[651]651
Французское правительство, следуя другим западным странам, вводило в 30-е годы возрастающее число ограничений для натурализованных граждан: они отстранялись от некоторых профессий на срок до десяти лет после их натурализации, не имели политических прав и т. д.
[Закрыть] потрясали и ту малую веру, что еще могли сохранить беженцы в возможность своего устройства в новой нормальной жизни. Отныне надеяться на это было просто смешно, раз ассимиляция в новой стране обернулась мелким обманом или вероломством. Разница между натурализованным гражданином и безгосударственным жителем оказывалась не столь велика, чтобы стоило о ней хлопотать: первому, часто лишенному важных гражданских прав, в любой момент грозила судьба второго. Натурализованные лица в большинстве своем были приравнены к статусу обыкновенных иностранных жителей, и, поскольку эти натурализованные уже потеряли свое предыдущее гражданство, такие меры попросту угрожали безгосударственностью еще одной значительной группе.
Было почти трогательно видеть беспомощность европейских правительств, несмотря на осознание ими опасности безгосударственности для их устоявшихся правовых и политических институтов и несмотря на усилия обуздать эту стихию. Взрывных событий больше не требовалось. После того как известное число людей без государства допускали в ранее нормальную страну, безгосударственность распространялась подобно заразной болезни. Не только натурализованные граждане оказывались в опасности возврата к положению безгосударственных, но и условия жизни для всех чужеземцев заметно ухудшались. В 30-е годы стало все труднее ясно отличать безгосударственных беженцев от нормальных иностранцев, проживающих в данной стране. Как только правительство пыталось использовать свое право и репатриировать такого нормального иностранного жителя против его воли, он делал все, чтобы спастись, перейдя на положение безгосударственного. Во время первой мировой войны «вражеские иностранцы» уже открыли огромные преимущества безгосударственности. Но то, что тогда было хитростью отдельных людей, нашедших лазейку в законе, теперь стало инстинктивной реакцией масс. Франция, самая большая европейская территория, принимающая иммигрантов,[652]652
См.: Simpson J. Op. cit. P. 289.
[Закрыть] ибо она регулировала хаотический рынок труда, вербуя иностранных рабочих при необходимости и депортируя их во время безработицы и кризиса, научила своих иноземцев преимуществам безгосударственности, которые они нелегко забывали. После 1935 г., года массовой репатриации правительством Лаваля, от ко торой спаслись только безгосударственные лица, так называемые экономические иммигранты и другие группы более раннего происхождения (балканцы, итальянцы, поляки, испанцы) смешались с волнами беженцев в такой клубок, который никогда уже нельзя было распутать.
Еще вреднее того, что безгосударственность делала с освященными временем и необходимыми различениями между националами и иностранцами, а также с суверенным правом государств в вопросах национальной принадлежности и изгнания, было ее влияние на саму структуру правовых национальных институтов, когда растущее число обывателей вынуждено было жить вне юрисдикции этих законов и без защиты каких-либо других. Лицо без государства, не имевшее права на местожительство и работу, конечно же должно было постоянно нарушать закон. Над ним висела угроза тюремных приговоров без вины, без совершения преступления. Более того, в его случае переворачивалась вся иерархия ценностей, подобавшая цивилизованным странам. Поскольку безгосударственник представлял собой аномалию, для коей не предусмотрен общий закон, то ему было лучше стать аномалией, для которой такой закон предусмотрен, т. е. стать преступником.
Лучшим критерием, по которому можно судить, вытеснен ли кто-то за пределы закона, будет ответ на вопрос, получил бы он выгоду, совершив преступление. Если существует вероятность, что мелкая кража улучшит его правовое положение, по крайней мере на время, то можно быть уверенным: у него отняли человеческие права. Ибо тогда уголовное преступление становится наиболее удобной возможностью восстановить какой-то вид человеческого равенства, даже если он будет признан исключением из нормы. Единственно важно здесь то, что для этого исключения существует закон. Как с преступником, даже и с безгосударственным, с ним не будут обращаться хуже, чем с любым другим обыкновенным преступником, т. е. в этом качестве он станет как все. Он мог получить покровительство закона только как его нарушитель. Пока длится суд и отбывается срок, он будет спасен от того произвола полиции, против которого нет ни юристов, ни апелляций. Тот самый человек, который вчера сидел в тюрьме просто из-за своего присутствия в этом мире, который не имел никаких прав и жил под угрозой депортации или без суда и приговора подвергался какому-то виду интернирования, потому что пытался работать и жить, мог стать почти полноправным гражданином благодаря маленькой краже. Даже если у него не было денег, он мог теперь получить защитника-юриста, пожаловаться на тюремщиков и благосклонно быть выслушанным. Он был теперь не отбросом, а достаточно значительным лицом, чтобы его информировали обо всех тонкостях закона, по которому его будут судить. Он становился вполне респектабельной личностью.[653]653
Практически любое наказание, определенное ему судебным приговором, покажется малозначительным по сравнению с указом о высылке из страны, отменой разрешения на работу или с декретом о ссылке в лагерь для интернированных. Японец с западного побережья США, находившийся в тюрьме, когда армия выполняла приказ об интернировании всех американцев японского происхождения, не был вынужден спешно избавляться от своей собственности по чрезвычайно низкой цене; он по праву оставался там, где был, обороняемый юристом, блюдущим его интересы; и если ему выпадала удача получить долгий срок, по его отбытии он мог полноправно и мирно вернуться к своему прежнему делу и профессии, даже к профессии вора. Его тюремное заключение гарантировало ему конституционные права, как ничто другое: никакие свидетельства лояльности и никакие обжалования не смогли бы ему помочь, раз его гражданство стало сомнительным.
[Закрыть]
Куда менее надежный и куда более трудный путь подняться из непризнанной аномалии до положения признанного исключения был путь гения. Подобно тому как закон знает только одно различие между людьми – различие между нормальным обывателем и аномальным преступником, так и конформистское общество признает только одну форму последовательного индивидуализма – гения. Европейское буржуазное общество хотело видеть гения стоящим вне человеческих законов, каким-то священным чудовищем, чья главная общественная функция – порождать возбуждение, и потому не имело значения, если гений действительно был человеком вне закона. Кроме того, потеря гражданства лишала людей не только защиты, но и всякого ясно определенного, официально признанного удостоверения личности – факт, самым точным выражением которого были их вечные лихорадочные усилия получить по крайней мере свидетельство о рождении от страны, что их «денационализировала»; и часть этих проблем решалась, когда человек отличался от всех настолько, чтобы вырваться и спастись из огромной и безымянной толпы бесправных. В конце концов, только слава способна вызвать какую-то реакцию на повторяющиеся жалобы беженцев из всех слоев общества, мол, «никто здесь не знает, кто я!» И вправду, возможностей у знаменитого беженца было больше, точно так же как имеется больше шансов выжить у собаки с кличкой по сравнению с бродячей безымянной дворнягой.[654]654
Факт, что тот же принцип формирования элиты зачастую работал в тоталитарных концентрационных лагерях, где «аристократия» большей частью состояла из преступников и немногих «гениев», артистов-забавников и художников, показывает, как близки общественные положения беженцев и лагерников.
[Закрыть]
Национальное государство, неспособное обеспечить законность для тех, кто потерял покровительство своего прежнего правительства, передавало все такие дела полиции. В Западной Европе это был первый случай, когда полиция получила власть действовать самостоятельно, прямо управлять людьми; т. е. в одной из областей общественной жизни она перестала быть простым орудием исполнения и слежения за соблюдением законов, но превратилась в правящий властный орган, независимый от правительства и министерств.[655]655
К примеру, для Франции засвидетельствовано, что приказ о высылке, исходивший от полиции, был куда серьезнее чем предписание «всего лишь» Министерства внутренних дел, и что сам министр внутренних дел мог только в редких случаях отменить полицейскую высылку, тогда как обратная процедура часто зависела от простой взятки. Конституционно же полиция подчинялась Министерству внутренних дел.
[Закрыть] Сила и свобода полиции от закона и правительства росли прямо пропорционально притоку беженцев. Чем больше доля безгосударственных и потенциально безгосударственных во всем населении страны (в предвоенной Франции она достигла 10 процентов), тем больше опасность постепенного перерождения ее в полицейское государство.
Без сомнения, тоталитарные режимы, где полиция достигла вершин власти, особенно желали закрепить эту власть путем бесконтрольного господства над значительными группами людей, которые, независимо от преступлений отдельных лиц, в любом случае не пользовались защитой закона. В нацистской Германии нюрнбергские законы с их различением граждан рейха (полноправных граждан) и националов[656]656
X. Арендт использует термин «национал» в разных значениях (см. с. 318, 382, 383) Прим. ред.
[Закрыть] (граждане второго сорта без политических прав) открывали дорогу движению, в котором все националы «чужой крови» могли в конце концов потерять свою национальность по официальному декрету. Только начало войны предотвратило соответствующее законодательство, которое уже было подготовлено в подробностях.[657]657
В феврале 1938 г. имперское и прусское Министерство внутренних дел представило «проект закона о приобретении и утрате немецкой национальности», который пошел гораздо дальше нюрнбергского законодательства. Он устанавливал, что все дети «евреев, евреев смешанной крови или лиц другой чужой крови» (которые в любом случае никогда не могли стать гражданами рейха) больше не имели права на немецкую национальность, «даже если их отец – немец по происхождению». Что эти меры уже не связывались просто с антиеврейским законодательством, явно следует из мнения, высказанного 19 июля 1939 г. министром юстиции, внушавшим, что "слов «еврей» и «еврей смешанной крови» следует по возможности избегать в законе, заменяя их словами «лица чужой крови» либо «лица ненемецкой или негерманической [nicht artverwandt] крови». Интересную черточку в планирование этого необычайного расширения безгосударственного населения в нацистской Германии добавляет положение о подкидышах, которые откровенно считались безгосударственными до тех пор, «пока не сделано исследование их расовых признаков». Здесь принцип, что каждый человек рождается с неотчуждаемыми правами, гарантированными его национальностью, был умышленно перевернут: каждый человек рождается бесправным, а именно – безгосударственным, пока впоследствии относительно его не соизволят дать других заключений.
Оригинальное досье о проекте этого законодательства, включая мнения всех министерств и верховного командования вермахта, можно найти в архивах Yiddisch Scientific Institute в Нью-Йорке (G-75).
[Закрыть] В то же время, разрастание групп безгосударственных в нетоталитарных странах вело к той или иной форме беззакония, организованного полицией, которое практически выливалось в согласование действий свободного мира с законодательством тоталитарных стран. То, что концентрационные лагеря во всех странах «обслуживали» одни и те же группы населения, даже если существовали значительные отличия в обращении с лагерниками, становилось все более типичным, поскольку отбор групп был целиком предоставлен инициативе тоталитарных режимов: если нацисты сажали человека в концентрационный лагерь, а он совершал успешный побег, скажем, в Голландию, то голландцы помещали его в лагерь для интернированных. Итак, задолго до начала войны полиция в ряде западных стран под предлогом «национальной безопасности» по собственной инициативе устанавливала тесные связи с гестапо и ГПУ, так что вполне можно было говорить о существовании самостоятельной внешней политики полиции. Эта полицейская внешняя политика функционировала совершенно независимо от официальных правительств. Отношения между гестапо и французской полицией никогда не были более сердечными, чем во времена правительства народного фронта во главе с Леоном Блюмом, которое проводило решительно антигерманскую политику. В сравнении с правительствами различные полицейские организации никогда не были отягощены «предрассудками» против любого тоталитарного режима. Для них информация и разоблачения, получаемые от агентов ГПУ, были почти так же хороши, как и от агентов гестапо или фашистов. Они знали о выдающейся роли полицейского аппарата во всех тоталитарных режимах, знали о его высоком социальном положении и политическом значении и даже не трудились скрывать свое сочувствие этому. То, что нацисты в итоге встретили столь постыдно ничтожное сопротивление полиции в оккупированных странах и что они сумели организовать такой большой террор с помощью местных полицейских сил, было результатом (по крайней мере частично) тех сильных позиций, которые захватила полиция за годы ее неограниченного господства и произвола над безгосударственными и беженцами.
И в истории национальных меньшинств, и в формировании безгосударственного люда евреи играли важную роль. Они были во главе так называемого движения меньшинств потому, что больше других нуждались в защите (в чем с ними можно сравнить только армян), имели налаженные международные связи, но прежде всего потому, что они не составляли большинства ни в одной стране и, следовательно, могли считаться minorite par excellence, т. е. единственным меньшинством, чьи интересы могли быть защищены только международными гарантиями.[658]658
О роли евреев в формулировке договоров о меньшинствах см.: Macartney С. Op. cit. Р. 4, 213, 281 ets.; Erdstein D. Le statut juridique des minorites en Europe. P., 1932. P. 11 ff; Janowsky O. J. Op. cit.
[Закрыть]








