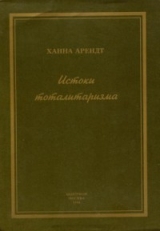
Текст книги "Истоки тоталитаризма"
Автор книги: Ханна Арендт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 49 страниц)
Поразительным и судьбоносным в различии между континентальным и заморским империализмом было то, что первоначальные успехи и провалы обоих соотносились прямо противоположно. В то время как континентальный империализм даже вначале преуспевал в возбуждении враждебности против национального государства, организуя большие слои народа вне партийной системы и одновременно не умея добиваться ощутимых результатов во внешней экспансии, – заморский империализм, при своей сумасшедшей и успешной гонке за аннексиями все более и более отдаленных территорий, никогда не достигал заметного успеха в попытках изменить политическую структуру родных стран-метрополий. Разрушение системы национального государства, подготовленное ее собственным заморским империализмом, в конечном счете было осуществлено движениями, которые зародились вне ее сферы. И когда пришло время успешного соперничества таких движений с партийной системой национального государства, обнаружилось еще, что они смогли подорвать только страны с многопартийной системой, что одной империалистической традиции им оказалось недостаточно для привлечения масс и что Великобритания, классическая страна двухпартийного правления, вне этой своей партийной системы не породила движения фашистской или коммунистической ориентации с какими-либо существенными последствиями.
Лозунги «надпартийности», призывы к «людям всех партий» и заверения «держаться в стороне от партийных раздоров и представлять только национальные цели» были равно присущи всем империалистическим группам,[574]574
Как об этом говорил в 1884 г. президент Немецкого колониального союза (см.: Townsend М. S. Origin of modern german colonialism: 1871–1885. N.Y., 1921). Пангерманская лига всегда настаивала на своем бытии «над партиями; это было и есть жизненно важное условие для существования Лиги» (Bonhard О. Op. cit.). Первой реальной партией, которая притязала быть больше чем обыкновенной партией, а именно «имперской партией», была Национально-либеральная партия Германии под руководством Эрнста Басеермана (Frymann D. Op. cit.).
В России панславистам требовалось лишь объявить себя просто выразителями народной поддержки правительству, чтобы избавиться от всякой конкуренции с партиями; ибо правительство как "Верховную Власть в действии… невозможно вообразить в связи с партиями" (М. Н. Катков, близкий журнальный соратник Победоносцева. См.: Olgin М. Op. cit. Р. 57).
[Закрыть] у которых это являлось единственным следствием их исключительной заинтересованности во внешней политике, где нации в любом деле полагалось действовать как единому целому, независимому от классов и партий.[575]575
Это явно было целью ранних «внепартийных» групп, среди которых вплоть до 1918 г. следовало еще числить Пангерманскую лигу. «Оставаясь вне всех организованных политических партий, мы можем идти своим чисто национальным путем. Мы не спрашиваем: Вы консерватор? Вы либерал?.. Немецкая нация – это место встречи, где все партии могут помириться» (Lehr. Zwecke und Ziele des alldeutschen Verbandes. Flugschriften. No. 14. Перевод дан по: Wertheimer M. Op. cit. S. 110).
[Закрыть] Более того, поскольку в континентальных системах это представительство нации как целого было исключительной «монополией» государства,[576]576
Карл Шмитт (см.: Schmitt K. Staat, Bewegung, Volk. 1934) говорит о «монополии политики, которой требовало государство в течение XVII и XVIII вв.».
[Закрыть] могло даже показаться, что империалисты ставят государственные интересы выше любых других или что интересы нации как целого нашли в них долгожданную народную поддержку. И все же вопреки всем таким претензиям на истинную народность «партии над партиями» оставались маленькими объединениями интеллектуалов и благополучных людей, которые, подобно Пангерманской лиге, могли надеяться на больший успех для себя только во времена национального брожения.[577]577
Вертхеймер (Wertheimer. Op. cit.) описывает ситуацию совершенно правильно: «Абсолютно нелепо утверждать, будто перед войной существовала жизненно важная связь между Пангерманской лигой и имперским правительством». В то же время, совершенная правда и то, что пангерманисты, несомненно, влияли на немецкую политику во время первой мировой войны, потому что высший офицерский корпус проникся пангерманистскими настроениями (см.: Delbruck Н. Ludendorffs Selbstportrait. В., 1922. Сравни также его более раннюю статью по данному вопросу: Die Alldeutschen // Preissische Jahrbucher. S. 154. Dezember, 1913).
[Закрыть]
Следовательно, не в том состояло решающее изобретение пандвижений, что они тоже притязали быть вне и над системой партий, но в том, что они называли себя «движениями», самим названием показывая глубокое недоверие ко всем партиям, – явление, уже широко распространенное в Европе на рубеже веков и наконец ставшее столь важным, что во дни Веймарской республики, например, «каждая новая группа была убеждена, что ей не найти лучшей легитимации и лучшего способа привлечь массы, чем объявить себя не „партией“, а „движением“».[578]578
Neumann S. Die deutschen Parteien. 1932. S. 99.
[Закрыть]
Конечно, фактический распад европейской партийной системы вызвали не пан-, а собственно тоталитарные движения. Однако пандвижения, разместившиеся где-то между маленькими и сравнительно безвредными империалистическими обществами и тоталитарными движениями, оказались предшественниками тоталитаристов, поскольку уже отбросили снобистское высокомерие, столь заметное еще во всех империалистических лигах, будь то «чванство» богатством и происхождением в Англии или образованием в Германии, и тем самым смогли использовать глубокую народную ненависть к тем институтам, которым полагалось представлять народ.[579]579
Мёллер ван ден Брук (Моеllеr van den Bruck A. Das dritte Reich. 1923. S. VII–VIII) описывает это положение так: «Когда мировая война кончилась поражением… повсюду встречались немцы, которые твердили, что они вне всяких партий, толковали о „свободе от партий“ и пытались найти точку зрения „над партиями“… Полное отсутствие уважения к парламентам… которые никогда не имели ни малейшего представления о том, что на самом деле происходит в стране… очень широко распространено среди народа».
[Закрыть] Неудивительно, что привлекательности движений в Европе не очень повредило даже поражение нацизма и растущий страх перед большевизмом. Ныне дела обстоят так, что единственная страна в Европе, где парламент не презирают и не испытывают отвращения к партийной системе, – это Великобритания.[580]580
Разочарование англичан в системе «передне– и заднескамеечников» не имеет ничего общего с этим антипарламентским настроением. Британец в этом случае просто выступает против чего-то такого, что мешает парламенту функционировать надлежащим образом.
[Закрыть]
Перед лицом стабильности политических институтов на Британских островах и одновременного упадка всех национальных государств на Европейском континенте едва ли возможно избежать заключения, что разница между англосаксонской и континентальной партийными системами должна быть важным фактором. Ибо и чисто материальные различия между сильно обедневшей Англией и уцелевшей Францией были невелики после окончания второй мировой войны; и безработица, величайший революционизирующий фактор в предвоенной Европе, поразила Англию даже тяжелее, чем многие континентальные страны; и, верно, огромным было потрясение, которому подвергла английскую политическую стабильность сразу же после войны ликвидация лейбористским правительством империалистического управления Индией и его попытки перестроить английскую мировую политику на неимпериалистических основаниях. Также не объясняют относительную прочность Великобритании и простые различия в социальной структуре, ибо экономический базис ее общественной системы был сильно изменен социалистическим правительством без каких-либо существенных перемен в политических институтах.
За внешним отличием англосаксонской двухпартийной от континентальной многопартийной системы лежит фундаментальное различие в функции партии в государстве там и здесь, каковое различие имеет огромные последствия в отношении партии к власти и к положению гражданина в своем государстве. В двухпартийной системе одна партия всегда формирует правительство и действительно правит страной, так что партия у власти временно отождествляется с государством. Государство, как постоянная гарантия единства страны, представлено в постоянстве поста короля[581]581
Британская партийная система, старейшая из всех, «начала складываться… только когда государственные дела перестали быть исключительной прерогативой короны», т. е после 1688 г. «Исторической ролью короля было представлять нацию как некое единство по контрасту с фракционной борьбой партий» (см. статьи: Rudlin W. A. Political parties (3); Great Britain // Encyclopedia of the social sciences).
[Закрыть] (ибо институт несменяемых секретарей в Министерстве иностранных дел есть лишь технический вопрос поддержания преемственности). Как две партии задуманы и организованы для попеременного правления,[582]582
В книге, которая, по-видимому, является самой ранней историей «партии», Джордж Кук в предисловии определяет это положение как систему, благодаря которой «два класса государственных мужей… попеременно правят могущественной империей» (Cooke G. W. The history of party. L., 1836).
[Закрыть] так и все ветви администрации спланированы и организованы с расчетом на регулярную поочередную смену. Поскольку правление каждой партии ограничено во времени, оппозиционная партия осуществляет параллельный контроль, эффективность которого усиливается определенностью тех, кто будет править завтра. Фактически именно оппозиция, а не символический институт короля предохраняет единство целого от однопартийной диктатуры. Очевидные преимущества этой системы в том, что в ней нет существенной разницы между правительством и государством, что власть, так же как государство, остается в пределах досягаемости граждан, организованных в партию, которая или сегодня, или завтра представляет определенную власть и определенное государство, и потому здесь нет места напыщенным спекуляциям о Власти и Государстве, словно бы последние были недоступными человеку метафизическими сущностями, независимыми от воли и действия граждан.
Континентальная партийная система предполагает, что каждая партия сознательно определяет себя как часть целого, которое в свою очередь представлено надпартийным государством.[583]583
Лучшее описание сущности континентальной партийной системы дано у швейцарского юриста Иоганна Каспара Блюнчли: «Это верно, что партия есть только часть более крупного целого и никогда само это целое… Она никогда не должна отождествлять себя с целым, с народом или государством… следовательно, партия может бороться против других партий, но она никогда не должна игнорировать их и в норме не должна хотеть уничтожить их. Ни одна партия не может существовать целиком самостоятельно» (Bluntschli J. С. Charakter und Geist der politischen Parteien. 1869. S. 3). Ту же идею выразил Карл Розенкранц, немецкий философ-гегельянец, чья книга о политических партиях появилась до рождения партий в Германии: «Партия – это осознанная частичность» (Rosenkranz K. Ueber den Begriff der politischen Partei. 1343. S. 9).
[Закрыть] Тем самым однопартийное правление может означать только диктаторское господство одной партии над всеми прочими. Правительства, сформированные на базе соглашений между партийными лидерами, – это всегда лишь партийные правительства, ясно отличаемые от государства, которое стоит вне и над ними. Один из второстепенных недостатков такой системы – тот, что члены кабинета не могут быть набраны по компетентности, ибо партий слишком много и министров по необходимости выбирают согласно партийным коалициям;[584]584
См.: Heinberg J. G. Comparative major European governments. N.Y., 1937. Ch. 7, 8. «В Англии какая-нибудь одна политическая партия обычно имеет большинство в Палате Общин и лидеры этой партии – члены кабинета министров… Во Франции ни одна политическая партия на практике никогда не имеет большинства в Палате Депутатов, и потому Совет Министров составляется из лидеров ряда партийных групп» (р. 158).
[Закрыть] британская система, тем не менее, позволяет выбирать лучших из большого числа людей одной партии. Гораздо важнее, однако, тот факт, что многопартийная система никогда не позволяет какому-либо одному человеку или одной партии взять на себя полную ответственность, откуда естественным образом следует, что любое правительство, сформированное на основе партийных коалиций, никогда не чувствует себя полностью ответственным за состояние дел. Даже если случится невероятное и абсолютное большинство одной партии будет господствовать в парламенте, это только кончится либо диктатурой, потому что система не подготовлена к такому правлению, либо нечистой совестью пока еще искренне демократического руководства партии, которое, привыкнув мыслить себя лишь частью целого, естественно, боится применять свою власть. Эта «нечистая совесть» почти образцово проявила себя после первой мировой войны, когда немецкая и австрийская социал-демократические партии на короткое время стали партиями абсолютного большинства и все же не взяли власть, которая шла им в руки при сложившейся ситуации.[585]585
См.: Demokratie und Partei / Ed. by P. R. Rohden. Wien, 1932. «Отличительная черта немецких партий в том… что все парламентские группы обязуются не представлять volonte generale… Вот почему эти партии так смутились, когда Ноябрьская революция привела их к власти. Каждая из них была организована таким образом, что могла выдвигать только относительные притязания, т. е. каждая всегда считалась с существованием других партий, представлявших иные частичные интересы, и потому, естественно, ограничивала собственные амбиции» (S. 13–14).
[Закрыть]
С ростом партийных систем стало в порядке вещей отождествлять партии с частными (экономическими или иными) интересами,[586]586
Континентальная партийная система – очень недавнего происхождения. За исключением французских партий, начало которых восходит ко времени Великой революции, ни одна европейская страна не знала партийного представительства вплоть до 1848 г. Партии начали жить благодаря образованию фракций в парламенте. В Швеции первой партией (в 1889 г.) с полностью сформулированной программой была Социал-демократическая партия (Encyclopedia of the social sciences. Loc. cit.). О положении в Германии см. Bergstraesser L. Geschichte der politischen Parteien. 1921. Все партии откровенно базировались на защите чьих-то интересов; например, Немецкая консервативная партия развилась из «Объединения в защиту интересов крупной земельной собственности», основанного в 1848 г. Но интересы не обязательно были экономическими. Датские партии, к примеру, складывались «вокруг вопросов, что так мощно преобладают в датской политике: расширения права голоса и субсидирования частного [преимущественно одновероисповедального] образования» (Encyclopedia of the social sciences. Loc. cit).
[Закрыть] и все континентальные партии (а не только рабочие группы) очень откровенно признавались в этом, пока могли быть уверены, что надпартийное государство осуществляет свою власть более или менее в интересах всех. Напротив, англосаксонская партия, основанная на некоем «частном принципе», но для службы «национальным интересам»,[587]587
Определение партии у Эдмунда Бёрка: «Партия есть группа людей, объединившихся на базе конкретного принципа, с коим все они согласны, для проведения в жизнь совместными усилиями определенных национальных интересов» (Burke Е. Upon party. 2nd ed. L., 1850).
[Закрыть] сама по себе представляет настоящее или будущее состояние страны: частные интересы представлены в самой партии, в ее правом и левом крыле, и обуздываются неизбежными требованиями самого процесса управления. И поскольку в двухпартийной системе партия не может существовать неопределенно долгое время, если не обладает достаточной силой, чтобы принять власть, то ей не нужны никакие теоретические оправдания, никакое развитие идеологий, и полностью отсутствует тот особенный фанатизм континентальной партийной борьбы, который проистекает не столько из конфликтующих интересов, сколько из антагонистических идеологий.[588]588
Артур Хоулком (Holcombe А. N. Encyclopedia of the social sciences. Loc. cit.) правильно подчеркнул, что в двухпартийной системе принципы обеих партий «тяготели к одинаковости. Если бы они не были по существу одинаковыми, подчинение победителю оказалось бы нестерпимым для проигравшего».
[Закрыть]
Опасность континентальных партий, по определению отделенных от системы управления и власти, была не столько в том, что они завязли в узкочастных интересах, сколько в том, что они стыдились этих интересов и потому развивали идеологические оправдания, чтобы доказать, будто эти частнопартийные интересы совпадают с наиболее общими и главными интересами человечества. Так, консервативные партии не довольствовались защитой интересов земельной собственности – им нужна была философия, по которой Бог создал человека, дабы трудился он на земле в поте лица своего. То же самое верно для прогрессистской идеологии партий среднего класса и для претензий рабочих партий, будто пролетариат – авангард человечества. Эта странная комбинация высокопарной философии и приземленных интересов парадоксальна только на первый взгляд. Поскольку эти партии не организовывали своих членов (и не обучали своих лидеров) для управления общественными делами, но брались представлять их лишь как частных людей с частными интересами, они принуждены были угождать всяким частным потребностям, духовным и материальным. Иными словами, главное различие между англосаксонской и континентальной партиями в том, что первая есть политическая организация граждан, которые хотят «действовать в согласии», чтобы действовать вообще,[589]589
Burke Е. Op. cit.: «Они верили, что никакие люди не смогут действовать результативно, если не будут действовать в согласии; никакие люди не смогут действовать в согласии, если не будут действовать с доверием друг к другу; никакие люди не смогут действовать с доверием, если их не связывают общие мнения, общие чувства и общие интересы».
[Закрыть] тогда как вторая есть организация частных индивидов, которые желают защитить свои интересы от вторжения общественных событий.
Вполне совместимо с этой системой, что континентальная философия государства признавала людей гражданами лишь постольку, поскольку они не были членами партии, т. е. лишь в их индивидуальном неорганизованном отношении к государству (Staatsburger) либо в их патриотическом воодушевлении во времена чрезвычайных обстоятельств (citoyens).[590]590
О центральноевропейском понятии гражданина (Staatsburger), противопоставляемого члену партии, см.: Bluntschli J. С. Op. cit.: «Партии не являются ни государственными институтами… ни органами государственного организма, но свободными общественными ассоциациями, строение которых зависит от меняющегося состава членов, связанных определенными убеждениями для общего политического действия». Различие между государственными и партийными интересами подчеркивается вновь и вновь: «Партия никогда не должна ставить себя над государством, никогда не должна ставить свой партийный интерес выше государственного интереса» (S. 9, 10).
Бёрк, напротив, выступает против идеи, по которой партийные интересы или членство в партии делают человека худшим гражданином. "Государства состоят из семей, свободные государства еще и из партий. И подобно тому как говорят, что партийные обязательства ослабляют наши обязательства перед своей страной, можно также точно утверждать, что наши естественные привязанности и узы крови неизбежно делают людей плохими гражданами" (Burke Е. Op. cit). Лорд Джон Рассел (On Party. 1850) идет даже на шаг дальше, усматривая главное из благих последствий деятельности партий в том, что она «придает вещественность смутным мнениям политиков и подводит их к твердым и долговременным принципам».
[Закрыть] Это было неудачным результатом, с одной стороны, преображения citoyen Французской революции в bourgeois XIX в. и, с другой – антагонизма между государством и обществом. Немцы были склонны считать патриотизмом самозабвенное повиновение властям, а французы – восторженную верность фантому «вечной» Франции. В обоих случаях патриотизм означал отречение от собственной партии и партийных интересов в пользу правительства и национального интереса. Суть здесь в том, что такой националистический сдвиг был почти неизбежен в системе, создававшей политические партии на базе частных интересов, так что общественное благо должно было полагаться на силу сверху и неопределенно щедрое самопожертвование снизу, возможное лишь при возбуждении националистических страстей. В Англии, напротив, антагонизм между частными и национальными интересами никогда не играл решающей роли в политике. Следовательно, чем больше партийная система на континенте соответствовала классовым интересам, тем острее была потребность нации в национализме, в каком-то народном выражении и поддержке национальных интересов, поддержке, в коей Англия, с ее прямым партийным правлением при участии оппозиции, никогда в такой мере не нуждалась.
Если мы рассмотрим различие между континентальной многопартийностью и британской двухпартийной системой со стороны их предрасположенности к подъему движений, то кажется вполне правдоподобным, что однопартийной диктатуре, должно быть, легче овладеть государственной машиной в странах, где государство стоит над партиями и тем самым над гражданами, чем там, где граждане, действуя «в согласии», т. е. через партийную организацию, могут добиваться власти легально и почувствовать себя владетелями государства либо сегодня, либо завтра. Еще правдоподобнее, что мистификация власти, присущая движениям, достижима тем легче, чем дальше удалены граждане от источников власти: легче в странах с бюрократическим правлением, где власть положительно выходит за пределы понимания со стороны управляемых, чем в странах с конституционным правлением, где закон выше власти и власть – лишь средство его исполнения на деле; и легче в странах, где государственная власть недостижима для партий и, следовательно, даже если доступна пониманию гражданина, остается недоступной его практическому опыту и действию.
Отчуждение масс от управления, бывшее началом их последующей ненависти и отвращения к парламенту, разнилось во Франции и других западных демократиях, с одной стороны, и в центральноевропейских странах, преимущественно в Германии, с другой. В Германии, где государство, по определению, стояло над партиями, партийные лидеры, как правило, слагали свои партийные полномочия с момента, когда становились министрами и несли официальные обязанности. Неверность по отношению к собственной партии была «долгом» каждого на гражданской службе.[591]591
Сравните с этой установкой красноречивый факт, что в Великобритании Рамзей Макдональд никогда уже не смог загладить свое «предательство» Лейбористской партии. В Германии дух гражданской службы требовал от всех в общественных учреждениях быть «выше партийности». Этому духу старопрусской гражданской службы нацисты противопоставили первенство партии, потому что хотели диктатуры. Геббельс открыто требовал: «Каждый член партии, становящийся государственным функционером, должен прежде всего оставаться национал-социалистом… и тесно сотрудничать с партийной администрацией» (цит. по: Neesse G. Partei und Staat. 1939. S. 28).
[Закрыть] Во Франции, управляемой партийными альянсами, настоящее правительство перестало быть возможным с установлением Третьей республики и ее фантастически нелепой процедуры утверждения министерских кабинетов. Слабость ее была противоположна немецкой: эта республика ликвидировала государство, стоявшее над партиями и парламентом, не реорганизовав свою партийную систему в организм, способный управлять. Правительство с необходимостью превратилось в смехотворный отражатель постоянно меняющихся настроений парламента и общественного мнения. Немецкая же система сделала парламент более или менее полезным полем битвы конфликтующих интересов и мнений, главным назначением которого было влиять на правительство, но чья практическая необходимость в управлении государственными делами оставалась по меньшей мере спорной. Во Франции партии удушили правительство; в Германии государство обессилило партии.
С конца прошлого века репутация этих конституционных парламентов и партий постоянно падала. Народу они казались расточительными и ненужными институтами. По одной этой причине каждая группа, претендовавшая представлять что-то возвышающееся над партийными и классовыми интересами и начинавшая действовать вне парламента, имела большие шансы на популярность. Такие группы казались более компетентными, более искренними и более интересующимися общественными делами. Но это была только видимость, ибо подлинной целью любой «партии над партиями» было проталкивать один конкретный интерес, пока он не поглотил бы все другие, и сделать одну конкретную группу хозяином государственной машины. Именно это в конце концов случилось в Италии при муссолиниевском фашизме, который вплоть до 1938 г. был не тоталитарной, а просто обыкновенной националистической диктатурой, логически развившейся из многопартийной демократии. И если в самом деле есть какая-то правда в старом трюизме о родственной близости между правлением большинства и диктатурой, то это родство не имеет никакого отношения к тоталитаризму. Очевидно, что после многих десятилетий неэффективного и беспорядочного многопартийного правления захват государства к выгоде одной партии мог прийти как великое облегчение, поскольку, самое малое, он обеспечивал на короткое время известную последовательность, политическое постоянство и уменьшение остроты противоречий.
Тот факт, что захват власти нацистами обычно отождествлялся с такой однопартийной диктатурой, попросту показал, как глубоко политическое мышление уходило корнями еще в старые, давно установившиеся образцы и как мало были подготовлены люди к тому, что произошло в действительности. Единственная типично современная черта фашистской партийной диктатуры состояла в том, что эта партия тоже настаивала на признании себя движением. Что она не имела ничего общего с такого рода явлением, а лишь незаконно присвоила девиз «движения», дабы привлечь массы, стало очевидным, как только партия захватила государственную машину, радикально не меняя структуру власти в стране и довольствуясь заполнением всех правительственных постов и позиций членами партии. Как раз благодаря этому отождествлению партии с государством, которое нацисты и большевики всегда тщательно обходили, партия перестала быть «движением» и оказалась связанной со стабильной в основе структурой государства.
Даже если тоталитарные движения и их предшественники, пандвижения, фактически были не «партиями над партиями», домогающимися захвата государственной машины, а движениями, нацеленными на разрушение данного государства, нацисты находили весьма удобным выступать в роли первых, т. е. притворяться верными последователями итальянской модели фашизма. Так они могли добиться помощи от тех представителей высшего класса и деловой элиты, которые ошибочно приняли нацизм за одну из былых групп, в прошлом часто зачинавшихся ими самими и предъявлявших очень скромные претензии на завоевание государственной машины для одной партии.[592]592
Групп вроде Kolonialverein, Centralverein fur Handelsgeographie, Flottenverein или даже Пангерманской лиги, которые, однако, перед первой мировой войной не имели никакой связи с большим бизнесом (см.: Wertheimer М. Op. cit. S. 73). Типичными из этой «надпартийной» буржуазии были, конечно, национал-либералы (см. сноску 75).
[Закрыть] Деловые люди, помогавшие Гитлеру взять власть, наивно верили, что они лишь поддерживают диктатора, целиком сделанного ими, который будет править к выгоде их собственного класса и к невыгоде всех других.
Империалистически настроенные «партии над партиями» не знали, как извлекать пользу из народной ненависти к партийной системе как таковой. Несостоявшийся немецкий предвоенный империализм, несмотря на свои мечты о континентальной экспансии и яростные разоблачения демократических институтов национального государства, никогда не достигал размаха настоящего движения. Очевидно, для таких партий было недостаточным гордо пренебрегать классовыми интересами, этим истинным фундаментом национальной партийной системы, потому что это делало их даже менее привлекательными, чем обычные партии. Чего им явно недоставало, несмотря на все громкие националистические фразы, так это действительно националистической или иной идеологии. После первой мировой войны, когда немецкие пангерманисты, особенно Людендорф и его жена, признали эту ошибку и попытались исправить ее, они провалились, несмотря на свою замечательную способность взывать к самым суеверным предрассудкам масс, ибо цеплялись за устарелый культ нетоталитарного государства и не смогли понять, что страстный интерес этих масс к так называемым «надгосударственным силам» (uberstaatliche Machte) – иезуитам, евреям, франкмасонам – проистекал не из культа нации или государства, а из желания тоже стать «надгосударственной силой».[593]593
Ludendorff Е. Die uberslaatlichen Machte im letzten Jahre des Weltkrieges. Leipzig, 1927. См. также: Feldherrnworte. 1933. Bd. 1. S. 43, 55; Bd. 2. S. 80.
[Закрыть]
Странами, где пока не вышли из моды все виды поклонения идолу государства и культа нации и где националистические лозунги против «надгосударственных» сил еще всерьез интересовали народ, были те латинские страны Европы, которые, подобно Италии и в меньшей степени Испании и Португалии, действительно страдали от определенных помех своему полноценному национальному развитию из-за мощи церкви. Частично это объясняется самим фактом запоздалого национального развития, а частично – мудростью церковного руководства, которое весьма проницательно углядело, что латинский фашизм в принципе не был ни антихристианским, ни тоталитарным и лишь устанавливал разделение церкви и государства, уже существовавшее в других странах, что первоначальный антиклерикальный задор фашистского национализма очень быстро убывал и уступал дорогу некоему modus vivendi, как в Италии, или положительному союзу, как в Испании и Португалии.
Муссолиниевское толкование идеи корпоративного государства было попыткой преодолеть общеизвестные опасности для национального единства в классово разделенном обществе с помощью заново восстановленной цельности социальной организации[594]594
Главной целью корпоративного государства была «коррекция и нейтрализация обстоятельств, привнесенных промышленной революцией XIX в., которая разъединила капитал и труд в промышленности, вызвав рост, с одной стороны капиталистического класса нанимателей труда и, с другой, огромного класса лишенных собственности – промышленного пролетариата. Непосредственное соприкосновение этих классов неизбежно вело к столкновению их противоположных интересов» («The Fascist Era», published by the Fascist Confederation of Industrialists. Rome, 1939. Ch. 3).
[Закрыть] и разрешить антагонизм между государством и обществом (на котором стояло национальное государство) путем поглощения общества государством. [595]595
"Если Государство поистине представляет нацию, тогда люди ее составляющие, должны быть частью Государства.
– Как это обеспечить?
– Фашистский ответ: организуя людей в группы согласно родам и деятельности, группы, через своих лидеров… восходящие ступенями как в пирамиде, в основании которой – массы и на вершине – Государство.
Ни одной группы вне Государства, ни одной группы против Государства, все группы внутри Государства… которое… есть голос самой нации" (Ibid.).
[Закрыть] Фашистское движение, будучи «партией над партиями» (потому что оно претендовало представлять интересы нации как целого), захватило государственную машину, отождествило себя с верховной национальной властью и попыталось сделать весь народ «частью государства». Оно, однако, не мыслило себя «выше государства», а его лидеры – «выше нации».[596]596
Об отношениях между партией и государством в тоталитарных странах и особенно о проникновении фашистской партии в итальянское государство см.: Neumann F. Behemoth. 1942. Ch. 1.
[Закрыть] С захватом власти движение итальянских фашистов пошло на убыль, по меньшей мере в сфере внутренней политики; отныне это движение могло охранять свои напор только во внешней политике в духе империалистической экспансии и типичных империалистических авантюр. Нацисты же, даже до взятия власти, явно держались в стороне от этой фашисткой формы диктатуры, где «движение» служит просто для приведения партии к власти, и сознательно использовали свою партию для «продления движения», которое, в отличие от партии, не должно было иметь каких-либо «определенных, тесно взаимосвязанных целей».[597]597
См. чрезвычайно интересное изображение отношений между партией и движением в «Dienstvorschrift fur die Parteiorganisation der NSDAP». 1932. S. II ff., и с той же ориентацией их описание у Вернера Беста: «Задача партии… не давать движению распадаться, поддерживать и направлять его» (Best W. Die deutsche Polizei. 1941. S. 107).
[Закрыть]
Разницу между фашистскими и тоталитарными движениями лучше всего показывает их отношение к армии – национальному институту par excellence. В противоположность нацистам и большевикам, которые подорвали национальный дух армии подчинением ее политическим комиссарам или формированием тоталитарной элиты, фашисты могли использовать такие ярко националистические инструменты, как армия, отождествляли себя с нею так же, как они отождествляли себя с государством. Они хотели фашистского государства и фашистской армии, но все же армии и государства. Только в нацистской Германии и Советской России армия и государство стали подчиненными функциями движения. Фашистский диктатор – но ни Гитлер, ни Сталин – был всего лишь единоличным узурпатором в смысле классической политической теории, а его однопартийное правление в некотором смысле – единоличным правлением, еще внутренне связанным с многопартийной системой. Он проводил в жизнь то, что намечали империалистически настроенные лиги, общества и «партии над партиями». Поэтому единственным примером современного массового движения, организованного в рамках существующего государства, стал итальянский фашизм, который вдохновлялся исключительно крайним национализмом и постоянно превращал народ в таких Staatsburger или patriotes, каких национальное государство требовало только во времена чрезвычайного положения и union sacree.[598]598
Муссолини в речи от 14 ноября 1933 г. защищает свое однопартийное правление аргументами, ходовыми во всех национальных государствах во время войны: единственная политическая партия необходима потому, что при ней «может существовать политическая дисциплина… и узы общей судьбы могут соединить всех, возвысив над противоречивыми интересами» (Mussolini В. Four speeches on the corporate state. Rome, 1935).
[Закрыть]
Нет настоящих движений без ненависти к государству, но этого фактически еще не знали немецкие пангерманисты в относительно стабильных условиях довоенной Германии. Движения в Австро-Венгрии, где ненависть к государству выражала патриотизм подавляемых национальностей и где партии (за исключением Социал-демократической партии, после Христианско-социальной партии – единственной, искренне лояльной к Австрии) формировались по национальным, а не по классовым признакам. Это стало возможным потому, что экономические и национальные интересы здесь почти совпадали, а экономический и социальный статус большей частью зависел от национальности. Тем самым национализм, который в национальных государствах был объединяющей силой, здесь сразу превратился в принцип внутреннего раскола, что стало решающим различием в структуре тамошних партий по сравнению с партиями национальных государств. То, что удерживало вместе членов партий в многонациональной Австро-Венгрии, представляло собой не конкретный интерес, как в других континентальных партийных системах, или конкретный принцип для организации действия, как в англосаксонских странах, а главным образом чувство принадлежности к одной национальности. Строго говоря, это должно бы быть и было величайшей слабостью австрийских партий, ибо из чувства племенной принадлежности нельзя вывести никаких определенных целей и программ. Пандвижения сделали из этого недостатка добродетель, преобразовав партии в движения и открыв этим форму организации, которая, в противоположность всем другим, никогда не нуждалась в цели или программе, но могла изо дня в день менять свою политику без вреда для своих членов. Задолго до того, как нацизм гордо провозгласил, что хотя у него есть программа, но он в ней не нуждается, пангерманисты открыли, насколько важнее для привлечения масс общее настроение, чем твердые принципы и платформы. Ибо единственное, что ценится в массовом Движении, есть именно то, что оно поддерживает себя в постоянном движении.[599]599
Бердяев приводит следующий примечательный анекдот: «Один советский молодой человек приехал на несколько месяцев во Францию… К концу его пребывания его спросили, какое у него осталось впечатление от Франции. Он ответил: „В этой стране нет свободы“… [и]… изложил свое понимание свободы:…так называемая свобода в ней такова, что все остается неизменным, каждый день похож на предшествующий, можно свергать каждую неделю министерства, но ничего от этого не меняется. Поэтому человеку, приехавшему из России, во Франции скучно» [Указ. соч. С. 123–124].
[Закрыть] Нацисты имели обыкновение называть 14 лет Веймарской республик «временем Системы» (Systemzeit), подразумевая, что это время было бесплодным, лишенным динамизма, «не двигалось» и потому сменилось их «эрой движения».
Государство, даже в качестве однопартийной диктатуры, ощущалось помехой постоянно меняющимся потребностям все развивающегося движения. Не существовало более характерного различия между империалистской «надпартийной группой» Пангерманской лиги в самой Германии и пангерманским движением в Австрии, чем в их отношении К государству:[600]600
Враждебность к австрийскому государству иногда встречалась и среди немецких пангерманистов, особенно если они были Auslandsdeutsche, как Меллер ван ден Брук.
[Закрыть] если «партия над партиями» хотела лишь завладеть государственной машиной – истинное движение стремилось к ее разрушению; если первая еще признавала государство в качестве наивысшего авторитета, раз его представительство попало в руки членов одной партии (как в Италии Муссолини), то второе признавало само движение независимым и высшим авторитетом по отношению к государству.
Враждебность пандвижений к партийной системе потребовала практического воплощения, когда после первой мировой войны эта партийная система перестала работать и классовая система европейского общества развалилась под тяжестью все прибывающих масс, совершенно деклассированных ходом событий. Тогда на передний план вышли уже не просто пандвижения, но их тоталитарные преемники, которые за несколько лет определили политику всех других партий настолько, что те стали либо антифашистскими, либо противобольшевистскими, либо и теми и другими.[601]601
Гитлер описывал положение дел правильно, когда говорил во время выборов 1932 «Против национал-социализма в Германии выступают только негативистские группы большинства» (цит. по: Heiden K. Der Fuhrer. 1944. S. 564).
[Закрыть] Этим негативистским подходом, по-видимому вынужденным под давлением извне, старые партии ясно показали, что они тоже больше не могли функционировать как представители особых классовых интересов, а превратились в простых защитников status quo. Скорость, с какой немецкие и австрийские пангерманисты присоединились к нацизму, имела некую параллель в гораздо более медленном и сложном движении, коим панслависты окончательно пришли к мысли, что уничтожение ленинского духа русской революции было совершенно достаточным, чтобы сделать для них возможной чистосердечную поддержку Сталина. В том, что большевизм и нацизм на вершине их власти переросли простой племенной национализм и очень мало использовали тех, кто еще действительно верил в него как в принцип, а не как в чисто пропагандистский материал, не было вины ни пангерманистов, ни панславистов и едва ли укротило их энтузиазм.
Упадок континентальной партийной системы шел рука об руку с падением престижа национального государства. Национальную однородность сильно расстроили миграции, и Франция, nation par excellence, за немногие годы стала полностью зависеть от иностранной рабочей силы. Ограничительная иммиграционная политика, не соответствующая новым потребностям, оставалась пока «истинно национальной», но делала все более очевидным, что национальное государство дальше не способно справляться с главными политическими проблемами времени.[602]602
Когда разразилась вторая мировая война, по меньшей мере 10 процентов населения Франции было иностранного происхождения и натурализованным. На ее северных рудниках работали в основном поляки и бельгийцы, а в сельском хозяйстве на юге испанцы и итальянцы (см.: Carr-Saunders. World population. Oxford, 1936. P. 145–158).
[Закрыть] Еще серьезнее были последствия злосчастных усилий мирных договоров 1919 г. внедрить принципы организации национального государства в Восточной и Южной Европе, где «государственный народ» зачастую имел лишь относительное большинство и уступал по численности соединенным «меньшинствам». Эта новая ситуация сама по себе была бы достаточной, чтобы серьезно подорвать классовую основу партийной системы. Повсюду партии организовывались теперь по национальным признакам, словно уничтожение двуединой монархии послужило только для того, чтобы дать возможность возобновить похожие эксперименты в карликовом масштабе.[603]603
«С 1918 г. ни одно из новых государств не дало… партии, которая смогла бы охватить больше чем одну расу, одну религию, один социальный класс или один регион. Единственное исключение составляет Коммунистическая партия Чехословакии» (Encyclopedia оf the social sciences. Loc. cit.).
[Закрыть] В других странах, где национальное государство и классовая основа его партий не были затронуты перемещениями и разнородностью населения, к сходному развалу вели инфляция и безработица. И совершенно ясно, что, чем более жесткой была классовая система страны, чем отчетливее классовое сознание ее народа, тем более драматичным и опасным был этот развал.
Именно в ситуации, сложившейся между двумя войнами, всякое движение имело шансов на успех больше любой партии, потому что оно нападало на институт государства и не обращалось к классам. Фашизм и нацизм всегда хвастались, что их ненависть направлена не против отдельных классов, а против классовой системы как таковой, которую они осуждали как изобретение марксизма. Даже более знаменателен тот факт, что коммунисты, несмотря на марксистскую идеологию, тоже были вынуждены избавляться от жесткости своих классовых призывов, когда после 1935 г. под предлогом расширения своей массовой базы они всюду формировали народные фронты и начали взывать к тем же растущим массам людей вне всяких классовых определений, которые до того составляли естественную добычу фашистских движений. Ни одна из старых партий не была подготовлена ни принять эти массы, ни правильно оценить важность роста их численности и возрастающее политическое влияние их вождей. Эту «ошибку суждения» со стороны старых партий можно объяснить тем, что их надежное положение в парламенте, обеспеченное представительство в официальных учреждениях и институтах государства позволяло им чувствовать себя гораздо ближе к источникам власти, чем к массам. Они думали, что государство и впредь будет неоспоримым хозяином всех инструментов насилия, и армия, этот высший институт национального государства, останется решающей силой во всех внутренних кризисах. Поэтому они чувствовали себя вправе высмеивать многочисленные полувоенные формирования, которые распространялись без всякой официальной помощи. Ибо, чем слабее становилась партийная система под давлением внепарламентских движений и классов, тем скорее исчезало все прежнее противостояние партий государству. Партии, действовавшие под влиянием иллюзии «государство над партиями», ошибочно толковали эту гармонию как источник силы, как чудотворную связь с чем-то более высоким. Но государство, как и партийная система, тоже находилось под угрозой и давлением революционных движений и больше не могло сохранять свою величественно-нейтральную и неизбежно непопулярную позицию «над схваткой» во внутридомашнем споре. Армия давно перестала быть надежным бастионом против революционного беспорядка – не потому, что сочувствовала революции, а потому, что потеряла свою позицию, свое лицо. Дважды в современной истории, и оба раза во Франции, nation par excellence, армия уже доказала свое сущностное нежелание или неспособность помочь находящимся у власти либо самой взять власть: в 1850 г., когда она позволила толпе из «Общества десятого декабря» привести к власти Наполеона III,[604]604
См.: Маркс К. Указ. соч.
[Закрыть] и в конце XIX в., во время дела Дрейфуса, когда не было ничего легче, чем установить военную диктатуру. Нейтралитет армии, ее согласие служить любому хозяину в конце концов поставили государство в положение «посредника между организованными партийными интересами. Оно было теперь не над, а между классами общества».[605]605
Schmitt K. Op. cit. S. 31.
[Закрыть] Иными словами, государство и партии вместе защищали существующее положение, не понимая, что самый этот союз, как ничто другое, служил его изменению.








